Текст книги "Публицистика"
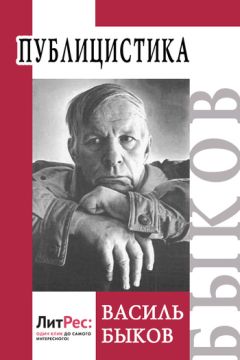
Автор книги: Василий Быков
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
ВЕЛИКАЯ АКАДЕМИЯ – ЖИЗНЬ
Диалог: В.Быков – Л.Лазарев
Л.Л.: Расскажите, пожалуйста, о вашей «дописательской» биографии. Это не праздное любопытство: многое в творчестве писателя определяется уже тем, что заставило его в свое время взяться за перо, как и в связи с чем в нем пробудился художник. Какую роль в этом сыграло ваше пребывание на фронте? Ведь для людей нашего поколения (мы ровесники, у нас общая военная судьба) война была и осталась главным жизненным испытанием, многое в нас сформировала именно она. Борис Слуцкий очень точно заметил, что наше поколение война пересоздала «по своему образу и подобию». Чем стали эти годы войны для вас, что значили для вашей писательской судьбы?
В.Б.: Родился и вырос я в Белоруссии, в предвоенные годы учился в Витебском художественном училище, занимался скульптурой, изобразительным искусством и не помышлял о писательстве. Но вот грянула Великая Отечественная война, которая захватила меня летом 1941 года на Украине и позже привела в Саратовское пехотное училище. После его окончания в должности командира стрелкового взвода, взвода автоматчиков и взвода противотанковой артиллерии (калибра 45, 57 и 76 мм) воевал до конца войны.
Как видите, сложилось так, что период юности и возмужания нашего поколения совпал с годами войны, и первой наукой жизни, которую мы постигли в юности, была труднейшая наука войны со всей сложностью ее проблем и человеческих отношений.
Во время войны, как никогда ни до, ни после ее, обнаружилась важность человеческой нравственности, незыблемость основных моральных критериев. Не нужно много говорить о том, какую роль тогда играли и героизм и патриотизм. Но разве только они определяли социальную значимость личности, поставленной нередко в обстоятельства выбора между жизнью и смертью? Как известно, это очень нелегкий выбор, в нем раскрывается вся социально-психологическая и нравственно-этическая суть личности.
Мне думается, что было бы неразумно и нерасчетливо пренебрегать этим, миллионами вынесенным из войны опытом, к тому же оплаченным столь дорогой ценой. И меня интересует в первую очередь не сама война, даже не ее быт и технология боя, хотя все это для искусства тоже важно и интересно, но главным образом нравственный мир человека, возможности его духа.
Л.Л.: Но после фронта и продолжая еще службу в армии, вы писали на другие темы. И так было, кстати, со многими вашими ровесниками, вступавшими в литературу…
В.Б.: Да, так было со многими. Очевидно, это случилось потому, что в годы войны ввиду недостаточной зрелости и незначительности нашего жизненного опыта (в его житейском и биологическом понимании) мы не смогли сразу постичь всю сложность того, что видели и что переживали на фронте. Это пришло позже, и многих из нас заставило, так сказать, задним числом задуматься о давно пережитом и даже забытом, с расстояния десятка лет и высоты накопленного опыта попытаться открыть там нечто такое, что оказалось живым и поучительным для всех.
Очевидно, к таким тугодумам принадлежал и я, долгое время после войны полагавший, что все сколько-нибудь значительные проблемы войны достаточно разработаны литературой, так много и горячо писавшей во время войны, что гораздо интереснее мало для нас знакомое, но бурно захватившее всех время мира с его новыми радостями и новыми трудностями. Наверное, так полагал не один я, опыт многих моих ровесников, впоследствии зарекомендовавших себя очень значительными авторами военной темы, свидетельствует о том же.
Л.Л.: Ваши ровесники в литературе, писатели военного поколения, с которыми ваше имя постоянно ставят рядом, – Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Александр Адамович, Виктор Астафьев – уже написали книги, в которых рассказывается и о мирном времени. Вы среди них, кажется, единственный, кто после первых опытов целиком посвятил свое творчество темам войны. Что же заставляет вас снова и снова возвращаться к событиям тех дней?
И что, на ваш взгляд, – подойдем и с этой стороны к доставленному вопросу, – еще, так сказать, недоисследовано нашей литературой, создавшей уже прекрасную и обширную библиотеку книг о Великой Отечественной войне?
В.Б.: Многие факторы человеческой сущности вместе с войной ушли в прошлое. Перед обществом и индивидуумом мирное время выдвинуло новые, только ему свойственные проблемы. Так, например, проблема героизма во время войны является решающей, главной. Смелость, отвага, презрение к смерти – вот те основные качества, которыми определяется достоинство воина. Но в мирное время мы не ходим в разведку, презрение к смерти от нас не требуется и отвага нам необходима лишь в чрезвычайных ситуациях. Однако то, что в войну стояло за героизмом, питало его, было его почвой, – разве это утратило свою силу? Да, мы не ходим сегодня в разведку, но это обстоятельство не мешает нам и теперь ценить в товарище честность, преданность в дружбе, мужество, чувство ответственности. И теперь нам нужны принципиальность, верность идеалам, самоотверженность, – это и сейчас определяет нашу нравственность, как в годы войны питало героизм. А воспитание коммунистической нравственности – первоочередная задача литературы. Множество примеров из жизни, свидетельства прессы, наши повседневные наблюдения настойчиво говорят о злободневной неотложности этой задачи. Рост материальной обеспеченности общества, повышение роли науки и техники не приводят автоматически к более высокой нравственности, к духовному богатству. Напротив, все это нередко отходит на второй план, скудеет. Мы знаем о пагубной власти материального в западном потребительском обществе с его стандартной ширпотребовской культурой. Мы видели на примере Германии, к чему может привести передовая техника, не контролируемая нравственностью, не обеспеченная духовностью.
Литература должна не переставая бить в свои колокола, настойчиво пробуждая в людях потребность в высокой духовности, без которой любой самый высокий прогресс материальной культуры будет не в радость.
Л.Л.: Говоря как-то о повести «Сотников», вы заметили: «А разве это повесть о партизанской войне?» (Я бы, правда, сказал не столь категорично: эта повесть не только о партизанской войне.) Но, судя по сказанному, вы сознательно ищете современную проблематику, обращаясь к действительности военной поры. Вопрос в том: современная ли – в прямом и точном смысле слова – эта проблематика? Ведь каждое время – вы тоже помянули об этом – все-таки рождает свои собственные проблемы. А модернизация или архаизация их может увести от правды. Или это проблематика, на самом деле лишь «рифмующаяся» с теми вопросами, над которыми мы сейчас бьемся, помогающая найти ключ к решению? И еще одно: не здесь ли один из источников тех споров, которые нередко возникали в критике вокруг ваших произведений, когда их современный пафос истолковывался или чересчур узко или чересчур расширительно?
В.Б.: Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма длилась четыре года, но ее духовно-физический «концентрат» составляет целую эпоху в нашей истории. В течение этих четырех лет так или иначе нашли свое отражение многие века нашей истории, нашей политики, все составляющие психологии, морали и нравственности нашего народа. Нельзя также полагать, что День Победы 9 мая 1945 года явился переломным днем нашего существования, что как только затихли раскаты орудий, жизнь в мгновение ока изменила характер и стала безмятежной и благостной. На самом деле жизнь из одного качества в другое эволюционировала медленно и малозаметно. Многое из того, что мы открыли для себя в годину тяжелейших испытаний, с нами и поныне, многие наши духовные, нравственные и организационные приобретения так или иначе оказывали или оказывают свое влияние на последующую жизнь общества. Поэтому существует ли надобность для литератора подгонять правду нашего существования под правду войны или реконструировать действительность? Не плодотворнее ли поискать общий знаменатель, философский корень того, что имело место в войне и не утратило своего нравственного или иного значения и теперь? Конечно, метод охоты снайперов за вражескими солдатами вряд ли способен всерьез заинтересовать кого-либо нынче, снайперы не самая актуальная специальность для общества мирного времени; отошли в прошлое многие другие качества, некогда важные для войны, и с ними носители этих качеств. Но вот любители подставить ближнего под удар судьбы или начальства, чтобы самому укрыться за его спиной, не перевелись и поныне. Правда, в годы войны это было заметнее и более впечатляюще по результатам, теперь нередко такие вещи выглядят менее драматически, но при всем том природа их остается единой. Природа предательства во всех видах отталкивающа и предосудительна, какими бы мотивами это предательство ни руководствовалось и какие бы благие цели ни преследовало.
В этой связи будет нелишне, я думаю, вспомнить о некоторых спорах вокруг одного из персонажей моей повести «Сотников». Я имею в виду Рыбака. Мне думается, что причина падения Рыбака в его душевной всеядности, несформированности его нравственности. Он примитивный прагматик, совершенно не соотносящий цели со средствами. Война для него – простое до примитива дело, с исчерпывающей полнотой выраженное постулатом: «чья сила, того и право» и еще: «своя рубашка ближе к телу». Он не враг по убеждениям и не подлец по натуре, но он хочет жить вопреки возможностям, в трудную минуту игнорируя интересы ближнего, заботясь лишь о себе. Нравственная глухота не позволяет ему понять глубину его падения. Только в конце он с непоправимым опозданием обнаруживает, что в иных случаях выжить не лучше, чем умереть. Но чтобы постигнуть это, ему пришлось пройти через целый ряд малых и больших предательств, соглашательств, уступок коварному и хитрому врагу, каким был немецкий фашизм. В итоге духовная гибель, которая оказывается горше и позорнее физической гибели.
Конечно, современный читатель не стоит перед таким выбором, но судьба Рыбака, может быть, заставит его задуматься над тем, как опасны сделки с собственной совестью и к чему они могут привести человека…
Л.Л.: В отличие от литературных ровесников вас не занимала тема поколения юношей 41-го года, которой они в своем творчестве отдали немалую дань. Не потому ли, что они начали свой литературный путь раньше, чем вы, и успели об этом довольно много написать? Не потому ли вы с самого начала пошли по пути несколько иному?
В.Б.: Вероятно, и поэтому. Действительно, они довольно подробно написали о судьбе – военной и послевоенной – юношей 41-го года до того, как я начал писать вообще. Но тут есть и еще одна причина. Они, вернувшись сразу после окончания войны к мирной жизни, в институты и университеты, были теснее связаны со своими ровесниками, чем я, продолжавший и после войны немалое время служить в армии на окраинах, в далеких гарнизонах. Многие проблемы, которые были насущны и очень важны для них, для меня находились за пределами моего личного жизненного опыта.
Л.Л.: Однажды вы заметили, что немалую роль в рождении книг о солдатах пехоты, которая «в прошлой войне являлась не только царицей полей, но и пролетариатом всех битв, выигранных ею большой кровью», играет «чувство долга живущих непехотинцев, вдоволь насмотревшихся на кровь, муки и пот пехоты». В другой раз вы писали: «Да, это он, рядовой великой битвы, ничем не выдающийся бывший колхозник или рабочий, сибиряк или рязанец, долгие месяцы мерз под Демянском, перекопал сотни километров земли под Курском и не только разил огнем немцев, но и крутил баранку на разбитых фронтовых дорогах, прокладывал и держал связь, строил дороги, наводил переправы. Он многое пережил, этот боец, голодал, изнывал от жары, побаивался смерти, но добросовестно делал свое незаметное солдатское дело. И, пройдя через все испытания, он не утратил своей человечности, познал и накрепко усвоил в великом коллективе изначальную правду жизни и многое другое». Опираясь на эти ваши высказывания, можно, мне кажется, определить не только среду, в которой вы ищете героев (в новой повести «Волчья стая» она, скажем, дала образы Левчука и Грибоеда), но и нечто более важное – круг проблем, характерных именно и только для войны всенародной, какой была война против гитлеровских захватчиков. Имеют ли эти сказанные вами слова действительно «программный» характер?
В.Б.: Наша великая война, как известно, изобилует всевозможными подвигами, сотни тысяч людей всех поколений, воинских званий и родов войск совершили на ней чудеса храбрости и воинского умения. Но лично я, немного повоевавший в пехоте и испытавший часть ее каждодневных мук, как мне думается, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее циклопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские кладбища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались ли когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве юношей 1920-1925 годов рождения? Это – пехота. Она густо устлала своими телами все наши пути к победе, сама оставаясь самой малозаметной и малоэффективной силой, во всяком разе, ни в какое сравнение не идущей с таранной мощью танковых соединений, с огневой силой бога войны – артиллерии, с блеском и красотой авиации. И написано о ней меньше всего. Почему? Да все потому же, что тех, кто прошел в ней от Москвы до Берлина, осталось очень немного, продолжительность жизни пехотинца в стрелковом полку исчислялась немногими месяцами. Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера-пехотинца, который бы мог сказать ныне, что он прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было немыслимо.
Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота. Время показывает, что уже вряд ли придет оттуда в нашу литературу ее гениальный апостол, зато нам, живущим и, может, еще что-то могущим, надо искать там. Пехота прошлой войны – это народ со всей его многотрудной бранной судьбой, там надобно искать все.
Л.Л.: Ваши последние произведения посвящены партизанам. Но вы партизаном не были, воевали в регулярной армии. И все-таки я хочу задать вам вопрос, имея в виду и ваши партизанские повести: в какой мере ваши личные впечатления, ваш военный опыт входят в ваши произведения? Могли бы вы писать о войне, в том числе и партизанской, если бы вы не были на фронте? И с другой стороны, когда вы начали писать о партизанах, потребовал ли этот, новый для вас, материал каких-то дополнительных усилий для овладения им? Как вообще вы собираете материал? Конечно, это сложный процесс. Но если его до известной степени упростить и логизировать, то какое место занимают беседы с участниками войны, изучение архивов, чтение мемуаров, военно-исторических работ и т.д.? Целеустремленны ли ваши поиски материала или он накапливается сам собой?
В.В.: Хотя я пишу о войне довольно давно, темой партизанской войны занялся лишь в последнее время, после того, как обнаружил, что она таит в себе возможности, которые далеко не всегда предоставляет фронтовая действительность с высокой степенью ее организованности и регламентированностью всего ее быта и деятельности. Партизанская же война в значительной мере (особенно на ее раннем этапе) – процессе действия масс, стихийности ее человеческого материала, нравственного и психологического разнообразия, что всегда предпочтительнее для литературы. Извечная тема «выбора» в партизанской войне и на оккупированной территории стояла острее и решалась разнообразнее, мотивированность человеческих поступков была усложненнее, судьбы людей богаче, зачастую трагичнее, чем в любом из самых различных армейских организмов. И вообще элемент трагического, всегда являющийся существенным элементом войны, проявился здесь во всю свою страшную силу. Можно сказать, не боясь впасть в преувеличение, что для полнокровного изображения в литературе трагедии оккупированных территорий слишком бледны употребляемые для обычного бытописания краски. Здесь нужны совершенно другие средства и страсти масштаба шекспировских. Я всегда с большой робостью берусь за этот материал и, может быть, вовсе не взялся бы, если бы не мысль о быстротекущем времени, с каждым годом все меньше оставляющем нам свидетелей и свидетельств той невообразимой по человеческим переживаниям эпохи. При этом, разумеется, было бы немыслимо сколько-нибудь успешно справиться с ним, не обладая опытом войны, ведь главная идейная основа здесь та же, что и в действующей армии, психологические, нравственные предпосылки многих поступков тождественны. Я не вел целеустремленных поисков материала, не занимался сбором его. Там, где я живу, в этом еще нет надобности, здесь еще очень многое напоминает о прошедших годах войны.
Л.Л.: Накопленные художниками впечатления бытия по-разному ими реализуются, в чем и сказывается писательская индивидуальность каждого автора. Так вот, были ли у каких-то из ваших героев прототипы, или близость создаваемого характера к реальному лицу вас связывает? То же самое я хочу спросить о сюжетных ситуациях: опираетесь ли вы на реальные события, подлинные случаи, имевшие место в действительности, или ваше знание жизни позволяет вам создавать вымышленные, но правдивые ситуации?
В.Б.: У меня тут нет никакой определенной системы. Каждый раз бывает по-разному. У некоторых из созданных мной образов есть прототипы. Хотя и в данном случае прямого «списывания» нет, происходит обычная литературная трансформация. Мне уже приходилось как-то писать об этом, приводя в качестве примера два образа из повести «Третья ракета». Самый достоверный, «списанный» образ там – командир орудия старший сержант Желтых. Многие черты его внешности и его характера я действительно списал с командира орудия моего взвода, с которым воевал в Венгрии, находясь в 10-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригаде. Его настоящая фамилия Лукьянченко. Следовательно, он не командир сорокапятки и не погиб на плацдарме в Румынии, но благополучно довоевал войну и в сорок пятом демобилизовался из армии. Но в остальном он тот же: по-хозяйски расчетливый, неторопливый, не шибко грамотный – настоящий хлебороб-колхозник, сменивший в силу войны плуг на орудие. Он был одним из лучших командиров орудий в нашем противотанковом полку.
Другой образ из той же повести, рядовой Кривенок, тоже во многом списан с реального лица, только лицо это имело к моей биографии несколько иное отношение и в другое время. Как-то был у меня во взводе один взбалмошный боец, он причинил много неприятностей командирам и плохо кончил по своей, между прочим, вине. Кривенок в повести не такой, но во многом похож на того, другого бойца.
Я уже писал также о родословной Рыбака из «Сотникова», прообразом которого послужил человек, кроме одинаковой судьбы, не имевший более ничего общего с его литературным персонажем. Но именно общность судьбы и сделала его прототипом, и теперь я не могу их разделить – один вызвал к жизни другого. Что это – прототип, менее того или больше – я не думал, да и есть ли надобность разбираться в этом?
Но даже и в тех случаях, когда сам автор затрудняется назвать реальный прообраз героя, значит ли это, что таковой вовсе отсутствует? Забытые или полузабытые жизненные впечатления, образы, характеры людей и даже личные настроения давних лет, запечатлевшись глубоко в подсознании, могут однажды воскреснуть и предстать перед автором как увиденное или почувствованное им впервые. Особенно если несколько стертых характеров трансформируется в один сборный – яркий и полнокровный, тот, о котором говорят, что он, выдуманный, заключает в себе больше правды, нежели существовавшие на самом деле. Ведь в процессе творчества, как известно, роль подсознательного чрезвычайно важна.
Л.Л.: А сюжетные ситуации?
В.Б.: Точно так же и сюжетные ситуации. С некоторыми из них у меня не было лишних забот – они взяты прямо из моей фронтовой действительности, степень конструирования в них весьма незначительна. Таковы сюжеты «Третьей ракеты», «Атаки с ходу», отчасти «Круглянского моста» и «Волчьей стаи». Фабула каждой из этих повестей была заранее известна, автору пришлось только разработать ее в деталях и населить подходящими образами.
Другие же сюжеты складывались из различных случаев, постепенно соединялись, образуя единое целое. Какие-то стыки домысливались, отыскивались органические связи, видоизменяясь, различные случаи как бы притирались друг к другу. А бывало, что какая-то жизненная история служила лишь завязкой, началом повести, все остальное уже диктовало воображение.
Справедливости ради надо сказать, что невыдуманность первых решительно не имеет преимуществ перед сконструированностью других, составленных из различных кусков, и не гарантирует от неудачи. Во всяком случае, те вещи, сюжеты которых мне пришлось, что называется, выдумать («Западня», «Сотников», «Дожить до рассвета», «Альпийская баллада»), вряд ли уступали в своей жизненной достоверности сюжетам непридуманным. Видимо, многое здесь решается всем идейно-образно-сюжетным комплексом, различным в каждом отдельном случае и окончательно определяющим литературное достоинство вещи.
Л.Л.: А как у вас возникает замысел, что служит первотолчком – пришедшая в голову мысль, проблема, которую вы хотите поставить или исследовать, какие-то впечатления и воспоминания или чей-то рассказ о пережитом и т.д.? Или в разных случаях бывает по-разному? Если это воспоминание или чей-то рассказ, то вас привлекает «просвечивающая» в нем проблема или к ней вас приводит логика воссоздаваемых событий и раскрывающихся характеров?
В.Б.: Взаимодействие частей в схеме: замысел – материал – воплощение, пожалуй, самое трудное для постижения и, пожалуй, наименее осмысленная область психологии литературного творчества. Ясно, что постоянно бодрствующая авторская мысль, несущая в себе нравственно-философскую идею, лишь тогда в состоянии литературно произрасти, когда она попадает в благоприятную почву жизненного материала. Необходим подходящий синтез идеи, жизненно достоверной ситуации и соответствующих человеческих образов, способных в данных обстоятельствах выразить данную идею. Что в моем сознании появляется прежде и что после, по-моему, не суть важно. Может появление точно подмеченных характеров, поставленных в соответствующие ситуации, привести к выражению той или иной идеи, а может и идея для своей литературной реализации вызвать к жизни свои адвокаты-образы. В «Третьей ракете» я не навязывал моим персонажам никакой литературной идеи, они жили, страдали, воевали каждый в силу своего характера и сложившихся обстоятельств. В итоге их самопроявления обнаружилась и читается какая-то идея, наверно, более сложной идеи и не надобно для этой маленькой повести. Что же касается «Сотникова», то здесь все было подчинено заранее определенной идее, хотя это вовсе не означало диктат автора над характерами и обстоятельствами – просто автор достаточно хорошо знал своих героев и по возможности точнее рассчитал логику их поступков. К тому же для выражения данной идеи я старался выбрать из запасников своей памяти наиболее подходящие персонажи.
Л.Л.: Я хочу напомнить то, что сказано в одной вашей статье: «В „Сотникове“, – писали вы, – я с самого начала знал, чего хочу в конце, и последовательно вел своих героев к сцене казни, где один помогает вешать другого». А как было в других случаях, в других повестях: знали ли вы, к чему должны прийти в конце? Не случалось ли вам испытывать сопротивление родившегося под пером характера? Мне, например, кажется, что в «Альпийской балладе» и «Дожить до рассвета» вас кое-где ведет не логика характеров и обстоятельств, а опережающая их мысль. Мысль, которую вы хотите выразить, становится хозяйкой положения. Что вы думаете на этот счет?
В.Б.: Я думаю, что если характер схвачен точно, если он поставлен в подходящие для его раскрытия обстоятельства, если авторское отношение к нему верно, – никаких особых сюрпризов быть не должно.
Я уже говорил о «Сотникове». Что касается, например, «Дожить до рассвета» и образа главного героя этой повести, лейтенанта Ивановского, то меня здесь прежде всего интересовала мера человеческой ответственности. Как известно, на войне выполняются приказы старших начальников. И ответственность за удачу или неудачу той или другой операции делится пополам между ее исполнителем и руководителем. А здесь случай, когда инициатором операции выступает сам исполнитель – младший офицер, но все дело в том, что эта его инициатива заканчивается полным фиаско. Конечно, Ивановский тут ни при чем, можно оправдать его, ведь он честно исполнил свой долг. Но сам Ивановский оправдать себя не может: ведь операция потребовала невероятных усилий, за нее заплачено жизнью людей, его подчиненных. В гибели Ивановского не виноват никто: он сам выбрал для себя такой удел, потому что обладал высокой человеческой нравственностью, не позволявшей ему схитрить или слукавить ни в большом, ни в малом…
Л.Л.: Мне кажется, что многое в этой повести определяется и временем действия: начало зимы сорок первого года, враг все ближе подходит к Москве. Без понимания этого трудно постичь логику поведения героя. В эту пору каждый честный человек был готов на все, чтобы спасти Родину, и отдать свою жизнь за то, чтобы уничтожить хотя бы одного вражеского солдата, – это не казалось чрезмерной ценой. И трагический финал повести, как мне представляется, подводит читателя к этой мысли…
В.Б.: Да, время, изображенное в повести, – самая трагическая пора Великой Отечественной войны. Кроме всего прочего, многие воины тогда еще не имели того опыта, того умения воевать, которые пришли позже. Но тем не менее патриотизм, самоотверженность, сила духа и воля к сопротивлению были очень высоки, благодаря им мы выстояли. В тех условиях, когда нам недоставало воинского мастерства и военной техники, люди, подобные лейтенанту Ивановскому, пытались это компенсировать самоотверженностью, готовностью пожертвовать собой, любой ценой остановить врага. Позже воля к победе и самоотверженность, подкрепленные воинским умением и преимуществом в боевой технике, приводили к результатам более значительным, чем у лейтенанта Ивановского…
Впрочем, дело, как мне кажется, вовсе не в боевом результате той или иной операции или действия, для литературы о войне одинаково важны как удачи, так и поражения, большие и малые. К тому же, что такое победа, а что поражение с точки зрения нравственной или философской, которые больше всего другого интересуют в искусстве? Ивановский, разумеется, был побежден и погиб на своем маленьком поле боя, но если он из тех людей, о которых сказано, что их можно убить, но нельзя победить, то его поражение явственно превращается в иное, противоположное качество. Именно на стыке этих взаимоисключающих понятий и таятся значительные возможности литературы, нередко, к сожалению, игнорируемые нами, привыкшими к предельной ясности, с которой соседствует упрощенчество.
Л.Л.: Почти все, что вы написали, принадлежит к одному жанру – короткой повести: поначалу она напоминала своей структурой повесть лирическую, и критики еще долго ее числили по этому «разряду», даже тогда, когда основное ее содержание определилось как нравственно-философское. Когда вы приступаете к работе над новой вещью, «задана» ли ее жанровая структура с самого начала или это складывается само собой? Совсем недавно один критик написал, что вам уже «тесно» в том жанре, в котором вы работаете много лет, что вы, он в этом убежден, должны перейти к более крупной форме – роману. Совпадает ли это с вашими ощущениями и намерениями?
В.Б.: Мне трудно сказать, как будет дальше. Может быть, когда-нибудь я и напишу роман. Но пока у меня нет подобного намерения.
Так получилось, что с самого начала я писал преимущественно повести. Когда-то эти повести действительно были лирическими. Потом, очевидно, по мере того, как их автор обретал литературный опыт, характер их изменился. Принимаясь за новую вещь, я не определяю ее размер или структуру, хотя, конечно, и предполагаю, какой примерно получится эта вещь, и знаю наверняка, что это будет повесть. Но в процессе работы она становится или короче, или длиннее, чем мне представлялось вначале. Иногда какие-то звенья сюжета, какие-то эпизоды сокращаются, другие, наоборот, развиваются подробнее. А в общем, я не ощущаю тесноты в этом обжитом мною жанре. Я думаю, что это очень емкая форма прозы и в ней можно выразить очень многое, а главное – без утомительных излишеств.
Л.Л.: Часто говорят и пишут, что ваши повести – во всяком случае, последние – повторяют художественную структуру притчи, хотя оценивается это свойство по-разному – и как достоинство, и как недостаток. Мне это определение не кажется верным: притча предполагает отрешение от конкретности – бытовой, психологической и прежде всего исторической. Но этого никак не скажешь о ваших повестях. Повод же для такого рода суждений, мне кажется, в том, что ваши повести отличаются крайней заостренностью и трагизмом ситуаций, нравственным максимализмом, бескомпромиссностью представлений о том, что хорошо и что дурно, которые и определяют оценки человеческого поведения. Не потому ли с таким постоянством вы оставляете героев один на один со своей совестью, повинуясь которой они сами должны решить свою судьбу в обстоятельствах, где за верность долгу платят жизнью?
В.В.: Действительно, некоторым из моих критиков хотелось бы объяснить какие-то особенности моего творчества придуманной на ходу приверженностью автора к жанру притчи. Думаю, что это не так. Кажущееся притчеобразие некоторых из моих повестей проистекает, по моему мнению, не от авторского насилия над жизненным материалом в угоду заранее принятой идее, не из стремления решить некую абстрактную моральную задачу, а от лаконизма повествования и сжатости действия, может быть, от некоторой беллетристической обедненности сюжета и стиля. Очевидно, иногда дает себя знать примат идеи над формой, когда идея не всюду находит свое органическое воплощение в форме. Наверное, все это присуще некоторым из моих повестей, но я не стремлюсь к этому, более того, я этого избегаю. Другое дело, как вы сказали, нравственный максимализм, без которого я не могу обойтись, потому что всеми средствами привык затягивать нравственные узлы, отчего порой слишком выпирает жесткость сюжетных конструкций. В то же время можно понять тех, кому хотелось бы мягкости тонов, обстоятельности переходов. Но что делать? Война плохо согласуется с этой человеческой склонностью. Война – дело слишком серьезное, чтобы на ее материале конструировать воскресное чтение для досужих читателей. Кроме того, я убежден, что наиболее правдиво поведать о ней можно только средствами реализма. Всякая нарочитая романтизация, вольная или невольная эстетизация этого народного бедствия, на мой взгляд, является кощунством по отношению к ее живущим участникам и по отношению к памяти двадцати миллионов павших. Это надлежит крепко помнить художнику, обращающемуся к суровым годам войны, – в этом своеобразный категорический императив искусства нашего времени.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































