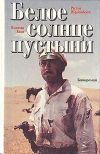Текст книги "Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни"

Автор книги: Василий Ермаков
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
А потом вдруг опять приснился и стал уж повторяться с такой завидной регулярностью, что волей-неволей пришлось задуматься, что бы он мог означать, какой вывод следует из него извлечь. Удовлетворительное толкование ускользало, подменяясь всякий раз воспоминаниями из ранних лет жизни, и Павел Борисович обратился за помощью к жене.
Инна Александровна выслушала внимательно, неожиданно побледнела и, как-то странно посмотрев на мужа, не промолвила ни словечка. Зато с того дня контроль за нелегальным курением был ужесточен предельно. Павел Борисович гадал и не мог угадать – почему?..
Кроме регулярности и абсолютной повторяемости, сон удивлял тем, что всегда снился в короткий отрезок времени, предшествовавший жесточайшей бессоннице. Очнувшись, Павел Борисович смотрел на часы со светящимся циферблатом. Они, как правило, показывали начало второго. Заснуть, следовательно, удавалось на двадцать-тридцать минут. До рассвета, до шести часов, когда боль неохотно стихнет и когда Инна Александровна встанет, чтобы приготовить ему ранний завтрак, казалось недостижимо далеко. На часы, впрочем, можно и не смотреть, достаточно бросить взгляд на окно. Темнота за ним выглядит так, будто ее ничем не пронять и наступления рассвета она не допустит.
Ну хоть чем-нибудь бы унять или хотя бы притупить боль! Так ведь и действительно можно дожить до «мальчиков кровавых в глазах». Когда была работа на телевидении, можно было позвонить тому же Белинскому или Ирине Сорокиной. Саша, если не делал вид, вполне терпимо относился к его, Павла Борисовича, ночным звонкам. А если и делал, получалось это у него неплохо. Ирка тоже баба с понятием… А вот когда работы не было и позвонить некому, хоть волком вой, оставаясь наедине с болью.
Помогала возня с магнитофоном. Ночью и звукофильмы придумывались легче и удачней. Но тогда не придется спать Инне, а ей и без того достается предостаточно.
Выход, чаще всего, виделся один – закурить. Но как дотянуться до очередного тайничка, не обнаруженного еще женой и дочкой? Пятки сейчас что нарывы, легчайшее прикосновение к ним чревато запредельной болью. Что же будет, когда на них надавит туловище в центнер веса?..
Тому, чтобы доползти на коленях, решительно противилась душа. Однажды в Грузии друзья-грузины пригласили его на какой-то народный праздник, кажется, на праздник молодого вина. На сельской площади была вырыта круглая, неглубокая яма, засыпанная тщательно просеянными древесными опилками. Ближе к вечеру, когда стало прохладней, но еще не стемнело, здесь состоялись состязания местных парней по национальной борьбе чидаоба. Павла удивило отсутствие единоборства в так называемом партере. «Позорно мужчине стоять на коленях по какой бы то ни было причине», объяснили ему грузинские друзья.
С того-то времени Павел Борисович и не находил возможным опускаться на колени без жизненно важной на то необходимости. Поэтому и терпел, пока хватало терпения…
Кроме того, что зачастивший сон не поддается толкованию, Павла Борисовича удивляло, почему вспоминается только Луганск, а не Москва, не Тбилиси, не Киев, наконец?.. Почему не Питер – ведь и работа у Товстоногова тоже осталась в прошлом. А как он мечтал о ней в свое время – особенно после знакомства с Кирюхой Лавровым и последовавшей за ним беседой, затянувшейся на всю ночь… И как все удачно складывалось по прибытии в Питер!.. А как понравился ему сам город! В день приезда, вечером, уладив дела в театре и определившись на временное проживание, он вышел на Невский. Было холодно, промозгло. Знаменитый проспект поразил Павла Борисовича многолюдством, нарядностью и обилием всевозможных заведений, где можно было выпить и закусить.
Плотно перекусив в кафе «Ленинград» и переходя затем из заведения в заведение, чтобы согреться рюмкой водки или стаканчиком портвешка, он очутился сперва на Дворцовой площади, а затем на стрелке Васильевского острова. На Дворцовой захватило дух – ну точно так, как в свое время при подъезде к Киеву! – от обступившей со всех сторон невиданной красоты, а на Стрелке – от распахнувшегося мрачного простора широко разлившейся здесь Невы. Серые волны тяжело ворочались в гранитных берегах. Пронзительно кричали чайки. На темно-синем небе, запятнанном темными, как ртуть, грузными облаками, рисовался четкий, как аппликация, силуэт Петропавловской крепости. Нечаянный луч вечернего солнца вдруг высвечивал шпиль с наколотым на него Ангелом.
Вдали темнел низкий и тяжелый, как бы налегающий на беспокойную воду, чтобы усмирить ее, мост. В обе стороны по нему тянулись потоки автомобилей с зажженными фарами.
И ни на секунду не забывал Павел Борисович, что за его спиной величественная Биржа с грозным Нептуном на фронтоне, а справа и слева – Ростральные колонны, увенчанные чашами-факелами.
Ничего более мрачного, но и более красивого Павел Борисович в своей жизни не видел и как-то сразу уверился, что и не увидит больше. В одно мгновение догадался он, за что же любили Пушкин, Гоголь, Достоевский и другие великие этот город, и навсегда полюбил его сам. Догадаться-то догадался, и полюбить полюбил. А вот спроси, за что, до сих пор не ответить…
На следующий день началась работа в театре. И вовсе не столь удачно, как казалось Павлу Борисовичу по истечении почти десяти лет, в страшные темные ночи, наполненные невыносимой болью, вязкой тоской и отчаяньем, часто казавшимся совершенно безысходным…
«И начался наш совместный труд, – вспоминал Георгий Александрович Товстоногов о начале работы с Павлом Борисовичем в своих коротеньких, в несколько страничек, воспоминаниях об артисте. – Я дал ему роль Егора Черкуна в «Варварах». Может быть, это была и не «его роль», как принято выражаться. Неуемный, открытый темперамент артиста не вязался с тем человеческим компромиссом, олицетворением которого был «антигерой» Черкун».
Мы не случайно, а вполне сознательно и намеренно выделили разрядкой короткое, всего лишь из трех букв, слово «дал». Дал, заметьте, а не предложил. Предложение допускает возможность отказаться. Когда же дают, принято брать. Согласно пословице: бьют – беги, дают – бери. Иное решение может вызвать недовольство и неудовольствие дающего.
Давно замечено, что самые простые, самые, казалось бы, заурядные слова, обладают способностью усложнять свое изначальное значение в зависимости от того, кто, где, при каких обстоятельствах и в каком контексте их использует.
В нашем случае слово «дал» произносит главный режиссер и художественный руководитель театра с многочисленными творческим и производственным коллективами, то есть практически Хозяин театра, единственный и неоспоримый. Ему подвластно все, ему все подчинены. Его слово в театре – Закон. Он волен «казнить» и «миловать», одарять и отнимать. В этом контексте слово «дал», употребленное Георгием Александрович, звучит, скажем, прямо, весьма жутковато. Словно тот, кто его произнес, облагодетельствовал того, к кому оно приложено, и – сознательно или неосознанно – другой вопрос, – ждет, чтобы облагодетельствование было оценено по достоинству. Это звучит еще более жутковато, если вспомнить, что речь идет об актере, порывающем с одним театром и переходящем в другой, попадающем в зависимость от руководителя этого другого театра. Думается, что слово, о котором идет речь, достаточно точно характеризует отношения, типичные для описываемого времени между теми, кто облечен властью и кто ее лишен, обречен подчиняться.
Таков был первый урок, преподанный Павлу Борисовичу в «театре личностей», и он с его «звериным чутьем на правду» сразу же усвоил и накрепко освоил этот урок, хотя преподан он был так элегантно, что можно было ничего не заметить и опасно расслабиться.
Павел Борисович заметил все и не расслабился ни на мгновение.
Будут и другие уроки, не менее жесткие, но всегда элегантные. В результате глубокого их усвоения и сложится у Павла Борисовича то самое представление об обстановке в театре Товстоногова, которое он изложит Олегу Ивановичу Борисову после того, как тот в 1964 году примет мучительно вызревавшее решение оставить навсегда Театр имени Леси Украинки и перейти в Большой драматический театр имени Максима Горького.
За точность воспроизведения луспекаевской лексики не ручаюсь, потому что слышал от третьего лица, от упоминавшегося уже Семена Арановича, но за суть отвечаю.
Извинившись, что многого не сказал, когда хлопотал перед Товстоноговым за Олега Ивановича, потому что очень хотел, чтобы он работал в БДТ, Павел Борисович откровенно говорит:
«Понимаешь, Олежка, тут лестница. На вид она парадная, вылизанная. Вылизывают ее все по очереди: вылижут – доложат… И тебе придется. На этой лестнице у каждого своя ступенька – кто чего заслужил. Одни стоят пониже, другие повыше. Коли кто забудется и далеко высунется, ему тут же укажут на его место».
Когда заметно скисший Борисов бормочет, что вряд ли он сможет вылизывать, моментально рассвирепевший Луспекаев почти кричит:
«Сможешь! А нет, так сделаешь вид! Я же вот смог!» Так же быстро успокоившись, как рассердился, увещевающе добавил: «Но ты, Олежка, не психуй. Посмотри, какой город цивилизированный, кресла синим бархатом обтянуты – где ты видел такое?.. Да и я тут – в обиду не дам!»
Что же побудило, заставило Павла Борисовича, духовной сутью которого по убеждению хорошо его знавшего Олега Борисова были «стихия и протест», пойти даже на большее, чем стояние на коленях, унижение?.. Только очень уж серьезная причина могла послужить ему оправданием. И такая причина, разумеется, была. Но об этом в свое время…
Вернемся к цитированному чуть выше отрывку из воспоминаний Товстоногова. Внимательный его анализ доказывает верность догадки, высказанной в предыдущей главе о том, что Георгий Александрович задавался вопросом, не подойдет ли этот актер на роль Егора Черкуна, когда вернувшийся из Киева Кирилл Лавров «горячо, решительно рекомендовал» ему Луспекаева, и примеривал на него эту роль при личном знакомстве. Концепция роли – «антигерой», «олицетворение человеческого компромисса» – Георгием Александровичем была выработана и утверждена. Дело оставалось за «малым» – найти и утвердить исполнителя.
Осмелимся предположить, что кандидатура Кирилла Лаврова вряд ли устраивала и самого режиссера. Будь он уверен, твердо и непоколебимо, в верности своего выбора, сомнительно, чтобы уравновешенный и осмотрительный Кирилл осмелился «взбунтоваться», посчитать предложенную мэтром роль не своей. Потому и «бунтовал», что видел, или ощущал, неуверенность Георгия Александровича.
Интересно проследить эволюцию представления режиссера о внешних данных исполнителя роли Егора Черкуна. Так называемая «фактура» актера, определение ее пригодности на ту или иную роль, – момент, чрезвычайно важный в работе любого постановщика. Как много из них потерпели творческую неудачу только лишь потому, что внешние дачные актеров, утвержденных ими на роли, не совпадали с внутренним содержанием этих ролей. Нелепо, если человек с физиономией убийцы станет произносить монолог Гамлета «Быть или не быть» или признаваться в пылкой любви юной Джульетте…
Одни творческие решения можно предложить относительно хрупкому, невысокому Лаврову и совершенно иные – громадному, медлительному Луспекаеву, наделенному к тому же «неуемным, открытым темпераментом», которому, похоже, мучительно трудно томиться в организме, существенно ограниченном в движении, в возможности быстро и свободно перемещаться в пространстве, как в сценическом, так и просто в жизненном.
С полной уверенностью можно утверждать, что Кириллу Лаврову Товстоногов никогда бы не предложил то пластическое решение одного из эпизодов в спектакле «Варвары», которое предложил Павлу Луспекаеву. Вот что вспоминала об этом Роза Абрамовна Сирота: «Уже на сценических репетициях Г.А. Товстоногов дал Павлу Борисовичу блистательную мизансцену. Черкун – Луспекаев должен был все время уходить от преследующей его Надежды – Дорониной, но явно терял самообладание, напор страсти заражал его, и Георгий Александрович предложил ему трогать то спинку дивана, то самовар, то стулья, а потом – бросок к Надежде и страстное объятие. Луспекаев сделал этот проход своеобразным пластическим танцем. Казалось, что он движется стремительно, резко, а на самом деле шел он медленно, динамика движения рук создавала ощущение стремительности».
Несомненно: играй этот эпизод Лавров, решение было бы другое. Наверняка не хуже, но другое – производное от его внешних данных, от пластики, присущей только ему.
Не удержаться и еще от одного замечания, и пусть простит меня за это Кирилл Юрьевич. В партнеры Татьяне Дорониной – породистой, великолепной по всем, как говорится, статям женщине – больше подходил в роли Черкуна именно Павел Борисович. Их внешности отлично «монтировались», как не слишком учтиво, но зато верно говорят в таких случаях киношники. И Доронина, и Луспекаев, и спектакль, и, в конце концов, зрители только выиграли от этого партнерства.
…Самая свирепая, почти непереносимая боль наступала около трех часов ночи. Не надо и смотреть на часы, чтобы удостовериться, что они, эти три часа ночи, наступили. Теперь о том, чтобы дойти или доползти до тайничка с сигаретами, нечего и думать. Дабы обмануть боль, Павел Борисович заставлял себя думать о самых разных вещах. Но о чем бы он ни думал, мысли непременно обращаются к театру…
На первой репетиции «Варваров» – присутствовал весь актерский «цвет» Большого драматического театра на Фонтанке: Полицеймако, Казико, Грановская, Корн, Трофимов, Стржельчик, Лебедев, Ольхина, Кузнецов… Второй раз в жизни стоял Павел Борисович перед таким созвездием корифеев.
«Я боюсь! – сиплым от волнения голосом шептал он в ухо Розы Абрамовны Сироты, сидевшей рядом с ним и как бы взявшей над ним негласное покровительство. – Я боюсь!»
Не всем корифеям Большого надо было приходить в театр в тот день. Но ни один не усидел дома, так не терпелось познакомиться с актером из Киева, принятом в труппу по рекомендации своего же брата актера – случай редкий в театральной практике.
Была и еще одна причина такого любопытства. Если Георгий Александрович смотрел на Луспекаева при первой встрече с ним глазами режиссера, то корифеи, присутствовавшие в репетиционном зале, смотрели на него, несомненно, глазами потенциальных партнеров. Убедительность этого наблюдения подтверждает описание первого впечатления, произведенного Павлом Борисовичем на Сергея Юрского, сделанное им самим:
«Черные армянские глаза. Сверкающие в буквальном смысле слова. Речь с легким украинским акцентом. Несколько вялая в артикуляции, но мощная по звуку. Из глубины, изнутри вырывающийся голос… Большое сильное тело. Мягкие и вместе неожиданные, почти угрожающие в своей неожиданности движения рук. Свободная ленивая посадка…»
Что это иное, как не отбор «зацепок» для приспособлений, если доведется играть с этим актером в одном спектакле?..
«Он был большой, – писал о впечатлении, произведенном на него Луспекаевым, драматург Александр Володин, много и успешно сотрудничавший в то время с БДТ. – Это первое и постоянное чувство, которое испытывал каждый, находясь рядом с ним. Все в нем было большое: рост, голос, талант, ум. И даже, казалось, здоровье, мощное, неистребимое».
Визуальное, так сказать, знакомство оставило в корифеях впечатление о Павле Борисовиче благоприятное: высок, статен, мужествен… – благодарная внешность для человека сцены. Несколько озадачила, вызвав вопросительные переглядывания, тяжеловатая, неуверенная даже, походка новичка. Но в умелых режиссерских руках и этот недосмотр природы может обернуться достоинством. А у Георгия Александровича в этом смысле не заржавеет.
Ну а как же складывались отношения Павла Борисовича с новым коллективом на более высоком и сложном уровне – духовном и профессиональном?..
«Входя в новый для него коллектив прославленного театра, возглавляемого «самим» Товстоноговым, которого он обожал и перед творческим авторитетом которого преклонялся, он волновался ужасно, – сообщает Кирилл Лавров. – После первых репетиций он был расстроен, убит. Ему казалось, что он примитивен, необразован, «зажат», скован. Со слезами на глазах делился он со мной своими муками и сомнениями».
Согласитесь, что это свидетельство не очень-то согласуется с последующей убежденностью Луспекаева об удачном начале карьеры в БДТ.
Период «мук и сомнений» преодолен был довольно быстро и весьма решительно. Словно разозлившись на самого себя и обретя от этого свежие силы, Павел Борисович стал репетировать на столь высоком уровне, что «…поразил нас своей естественностью, – отметил Сергей Юрский в своих записках о Павле. – Но это было не то «как в жизни», которое стало одним из худших театральных штампов – серое, аморфное, похожее на жизнь не больше, чем похож на руку отпечаток этой руки на пыльном стекле. Он поразил нас именно своей естественностью. В ней все было оригинально и органично. Это была новая простота, новая жизненность, созданная Павлом Луспекаевым».
«Новая жизненность, созданная Павлом Луспекаевым», оказалась столь впечатляющей, что «рядом с ним, – как вспоминал Олег Валерианович Басилашвили, – не только я, но, думаю, многие ощущали неправдоподобие, искусственность своего поведения. Но если некоторые мои старшие товарищи начинали сомневаться в эти минуты в правильности своего назначения на роль, то я начал сомневаться в правильности выбора профессии».
Вот так! Ни больше ни меньше.
Как следствие возникшей «паники», в театре послышались разговоры, а подходит ли артист Луспекаев Большому драматическому, его ли это актер?.. Легче и проще, конечно, указать другому, что он идет не в ногу со всеми, чем самому попробовать приспособиться к его шагу.
Что остается актеру в подобных обстоятельствах? Только одно – делом доказать, что он занял свое, а не чужое место. И Павел Борисович продолжал доказывать.
«Репетировал мощно, другого слова подобрать не могу, – свидетельствует Роза Сирота. – Вылетал на сцену, делая два-три громадных шага: ему всегда страстно хотелось двигаться размашисто, но отказывали ноги. Темнели от бешенства глаза, появлялись львиные движения рук – руки как бы брали на себя всю динамику тела. Поразительные руки, некрасивые, но пластичные, мягкие и вместе с тем необычайно сильные».
Из этого свидетельства можно сделать два вывода: радостный – актер ощутил, наконец-то, вкус к роли, она у него «пошла», и печальный – с переездом в Петербург обострилась застарелая хворь в ногах.
Главное, однако, достигнуто. Кирилл Лавров, более чем доброжелательно относившийся к Павлу Борисовичу и вряд ли меньше его самого беспокоившийся о том, «привьется» ли он в Большом драматическом, вскоре с удовлетворением отметил: «Все участники репетиций с каждым днем все явственней убеждались, что в театр пришел большой актер».
Что это было на самом деле так, удостоверил нас – через посредничество Михаила Козакова – и сам Павел Борисович. Произошло это много лет спустя в Москве, в номере «Пекина», где они репетировали эпизоды для фильма «Вся королевская рать». Заговорили о популярности. Не согласившись с Козаковым, что «быть знаменитым некрасиво», Павел Борисович, тем не менее, иронически усмехаясь, поведал следующее: «Вот однажды я действительно прославился, можно сказать, на весь Ленинград. Еще в Киеве я снялся в противопожарной короткометражке под замечательным названием «Это должен помнить каждый». Ну, сам понимаешь, деньги были нужны, вот и снялся. И забыл про нее. А как раз в это время я переехал в Ленинград к Товстоногову и начал репетировать в театре в «Варварах». Волновался страшно. Они уже все мастера, а я для них темная лошадка. Понятно, что надо было в первую очередь «пройти» у товарищей по театру. А тут, как на грех, на экраны Ленинграда вышел какой-то западный боевик, который все бегали смотреть. А вместо киножурнала мой противопожарный опус. Я там после пожара, возникшего из-за сигареты, прямо в камеру пальцем тычу и говорю: «Это должен помнить каждый!» Вот тут-то ко мне популярность и пришла. Наутро перед каждой репетицией юмор: «Помни, Паша, помни. Дай, кстати, закурить».
Речь, должно быть, идет все-таки не о первых репетициях «Варваров», а о тех, что уже в середине или даже ближе к концу. Мы видим, что у товарищей по театру Павел Борисович уже «прошел». К тем, кто не «проходил» или у кого обозначилась перспектива «не пройти», отношение складывается другое. Вокруг него как бы сам собой возникает холодок отчуждения, его «не замечают» даже хорошо воспитанные люди, а что уж говорить о плохо, а то и вовсе невоспитанных.
Здесь же совершенно иное: к Павлу Борисовичу обращаются тепло, по-приятельски – Паша… И подшучивают так, как можно подшучивать только со своим. Особенно «изгилялся» Владислав Стржельчик. Павел Борисович искал случая «рассчитаться» с ним, но случай не подворачивался…
Очевидно, однако, и другое: прежде чем «пройти у товарищей», Павлу Борисовичу пришлось «страшно» попереживать.
Был, однако, человек, перед которым вопрос, Большого ли драматического театра актер Луспекаев, не возникал, а если и возникал, то на самое короткое время. Вот что напишет впоследствии Георгий Александрович Товстоногов:
«До сих пор даже самые опытные артисты, пришедшие в театр со стороны, вынуждены были осваивать наш художественный устав. В труппу они входили трудно. Мало сказать, что Луспекаев был исключением. Он сразу стал эталоном, примером, центром, ведущим мастером, образцом владения методологией К. С. Станиславского…»
Прибавлю еще одну банальность к тем, которые уже имел неосторожность изречь: успех приходит к тому, кто страстно, всеми силами души и тела, его домогается.
Сидя рядом с Товстоноговым на общем прогоне спектакля «Варвары» после окончания сцен с участием Луспекаева, Роза Абрамовна Сирота услышала ликующий шепот Георгия Александровича: «Какой подарок городу! Какой подарок городу!»
Это было первое предвестие грядущего успеха.
Второе – и тоже из уст Товстоногова – прозвучало по окончании генеральной репетиции:
«Полностью в стиле спектакля пока только один человек – Паша».
Эта лаконичная фраза содержит два примечательных момента. Впервые за несколько месяцев общения с Луспекаевым мэтр называет его не по имени-отчеству и даже не Павлом, а Пашей, так, как обращались к нему коллеги-актеры – момент первый.
Момент второй: дать понять корифеям, что в «стиле» спектакля один лишь новичок, это, знаете ли…
Георгий Александрович, разумеется, преувеличивал, и преувеличивал, быть может, вполне намеренно. С теми невероятно трудно исполнимыми требованиями, которые он постоянно и настойчиво предъявлял себе и другим, он едва ли бы вышел на премьеру, окажись хоть один исполнитель не в стиле спектакля. Подозреваю, что давался «урок» – знакомый другим, но не знакомый еще Павлу Борисовичу. Рвение актеров можно подхлестывать по-разному – в том числе и хваля кого-то в укор другим. И похвала обязывает стараться еще больше. Подобным образом, кроме того, можно подстраховаться от возможного неуспеха: чего же иного ждать, пока не все актеры постигли стиль? А в случае успеха повысить его цену: несмотря ни на что, спектакль не только хорош, но и имеет потенциал для существенного улучшения.
Но не стоит упрекать Георгия Александровича за столь понятную и по-человечески простительную предосторожность. Художник, вынося на суд публики свое творение, беззащитен от «разгула» мнений. Желающих «поучить» его, что, как и почему надо сделать, чтобы книга, полотно, фильм или спектакль «получились», – легионы, легионы и легионы. И почему-то, холя и лелея свое собственное самолюбие, бережно щадя себя любимых, многие не считают обязательным так же относиться к другим. И он, изнуренный напряженной, выматывающей все силы работой, раздираемый сомнениями, переполняющими его мятущуюся душу, жаждущий если не элементарного понимания, то хотя бы минимального сочувствия, стоит перед ними как бы даже виноватый – извините, мол, что побеспокоил вас своей безделицей. А попробуй-ка он возразить или обидеться – тут же завопят, что зазнался, задрал нос, слишком возомнил о себе…
И самыми строгими и «принципиальными» учителями и судьями оказываются как раз самые беспринципные, те, кто сами ничего не могут, не умеют и не хотят делать. Как же так получается, что часто именно эти люди и формируют общественное мнение о новых произведениях, во всяком случае, то, что озвучено? Не потому ли, что время у них немерено, и пока одни работают, другие плетут интриги? «Любовью» не подобных ли людей призывал не дорожить поэт, иронически обозначив ее «народной»?..
…Премьера состоялась в определенное для нее время. На всю оставшуюся жизнь запомнились Павлу Борисовичу торжественный шелест главного занавеса, одновременно с затиханием которого истощался свет в люстрах над зрительным залом и разгорался свет рамп, высвечивая декорации; благоговейная тишина за кулисами; первый выход Егора Черкуна, в которого Павел перевоплотился, и… покашливанья и шмыганья простуженных носов зрителей.
Последнее поразило его настолько, что помогло справиться с волнением и сразу же заиграть в полную силу.
«Только на премьере, услышав, как кашляет, гудит и сопит зритель, я понял, в город с каким климатом угораздило меня уехать из теплого Киева», – признавался позднее Павел Борисович своим друзьям Николаю Троянову и Мавру Пясецкому, навестившим вскоре Петербург по его приглашению, побывавшим, естественно, на спектакле «Варвары» и, что еще естественней, у него дома.
Успех Павла Борисовича в частности, исполнительского состава в целом и спектакля вообще превзошел, как принято говорить в подобных случаях, самые смелые ожидания. Принятые Товстоноговым меры предосторожности оказались невостребованными. На другой день основные газеты четырехмиллионного города с упоением писали об очередном и вполне заслуженном успехе творческого коллектива Большого драматического театра. Немало лестных, приятных – и тоже вполне заслуженных – отзывов досталось на долю Павла Борисовича. Его хвалили наравне с такими «зубрами» сцены, как гениальные Полицеймако и Лебедев. «Пустячок, а приятно», – признавался он во время застолий, последовавших за премьерой.
Не думаю, что имеет смысл приводить выдержки из газет. Гораздо интересней, полагаю, вспомнить, как отнеслись к дебюту на прославленной сцене те коллеги, с которыми он трудился над спектаклем и с которыми разделил общий успех.
Товстоногов, как мы помним, толковал Черкуна «антигероем, олицетворением человеческого компромисса». Он считал, что Черкуну – Луспекаеву необходимо обмануть, то есть убедить в обратном, не только Надежду, но и «всех нас, и зрителей».
«Ему это удалось, – с чувством глубокого удовлетворения вспоминал мэтр. – Порождение своего времени, Черкун не жил чувствами, он их имитировал».
Когда я внимательней вчитался в эти строки, мне почудилось в них что-то знакомое, что-то слышанное уже когда-то, только от другого человека, по другому поводу и при иных обстоятельствах. Память вернула меня к воспоминаниям Леонида Викторовича Варпаховского, к той их части, где подводится итог работы Луспекаева над ролью писателя Тригорина в спектакле «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова. Позволим себе повтор:
«Сущностью образа стало безволие. Именно отсутствие воли помешало Тригорину стать большим писателем и служило причиной его странного поведения с женщинами. Все нанизывалось на этот стержень…»
«Антигерой», «олицетворение человеческого компромисса»… – так говорит о герое своего спектакля Георгий Александрович Товстоногов.
«Безволие» – определяет суть характера героя своего спектакля Леонид Викторович Варпаховский. Но ведь все, что сказал о своем персонаже один режиссер, вполне приложимо к персонажу другого, и наоборот!.. Более того: стержнем, на который нанизывается все, в одном случае оказывается имитация чувств, а во втором – отсутствие воли, безволие. Воля ваша, уважаемый читатель, но и тут мы имеем дело с одним и тем же. У Черкуна Товстоногова и Луспекаева, следовательно, имелся предшественник – Тригорин Варпаховского и Луспекаева. Опыт работы над сценическим воплощением этого персонажа, несомненно, был извлечен артистом из «личных кладовых» и использован во время работы над образом Егора Черкуна. Не это ли помогло ему быстро мобилизоваться в новом театральном коллективе и зарепетировать мощно?..
«Роль, сделанная Луспекаевым, – утверждал Варпаховский, – превратилась… в роль созданную».
Ну как тут не напомнить слова Сергея Юрского о «новой простоте, новой жизненности, созданной Павлом Луспекаевым»?..
О механическом копировании, разумеется, не может быть и речи. И там, и тут происходил активный процесс созидания. Просто искусство располагает своей, незримой для непосвященных (а иногда и посвященных) системой сообщающихся сосудов: то, что было приобретено, но не использовано при работе над одной ролью, восполняет какой-то недостаток при работе над другой. Запас, ждавший своего часа в «личных кладовых» художника, будь то драматург, режиссер, поэт, композитор, скульптор или актер, находит наконец-то применение.
Как бы ни рассуждать, ясно и неоспоримо одно: успех Павла Борисовича в роли Тригорина, несомненно, способствовал его впечатляющему успеху в роли Егора Черкуна. Неоспоримо и то, что талант Луспекаева развивался по восходящей…
Во многих отношениях спектакль «Варвары» оказался, как и подобает произведению подлинного (а не имитированного) искусства, провидческим. Актеры и режиссер, словно уловив тревожные сигналы из будущего, чутко отреагировали на них. Спектакль взывал к здравому смыслу, к естественности чувств, предостерегал от отступничества людей от своих сокровенных корней, требовал от черкунов всех времен знать, так ли уж негодно свое, пусть и деревянное, прежде чем тупо и остервенело насаждать чужое – пусть и железное…
Интереснейшие соображения о конечном результате работы Луспекаева над образом Черкуна оставила Роза Абрамовна Сирота. Она полагает – и, кажется, вполне обоснованно, – что феноменальное умение Павла Борисовича фантазировать и импровизировать в роли, привело к парадоксальному достижению: актеру удалось раздвинуть рамки авторского замысла, сказать больше, убедительней и лучше, чем сказал автор.
И даже больше, чем задумал режиссер, обратившись к постановке пьесы, написанной более полстолетия назад, к классике.
«Фантазия его была парадоксальна, – убеждена Роза Абрамовна. – Причем фантазировал он всегда в логике характера. Поразительная интуиция. Он чувствовал всего человека, видел его широко, видел всю судьбу, но словесная ткань роли стесняла его. Его индивидуальность давала авторской мысли иной объем. Ему трудно давался Черкун – сложно было совместить природную непосредственность с сухой запрограммированной логикой Черкуна, и вот в результате этого своеобразного конфликта автора и актера появляется неожиданная грань роли: борение Черкуна с собой, видимость силы, желание быть не тем, что он есть на самом деле. Черкуну – Луспекаеву хотелось любить, шутить, с любопытством подглядывать за вихрастой девчонкой за забором, то есть жить жадно, а характер Горького не позволял этого… Попытка смирить неординарность натуры, вогнать ее в железные рамки привела в итоге Черкуна к самоуничтожению. Суперменство съедало личность».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.