Читать книгу "Чутье современности. Очерки о русской культуре"
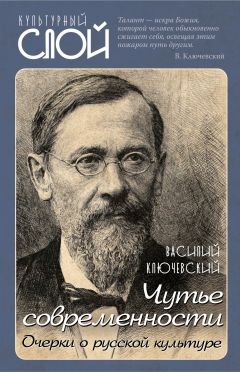
Автор книги: Василий Ключевский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
В повествовании о времени, следовавшем за смертью Петра, по мере того как оскудевал запас подготовительных трудов в русской исторической литературе и историк оставался один перед громадным сырым материалом, перед мемуарами, журналами Сената, бумагами Государственного совета, делами польскими, шведскими, турецкими, австрийскими и т. д., «История России» все более переходила к летописному, погодному порядку изложения, изредка прерываемому главами о внутреннем состоянии России с очерками просвещения за известный ряд лет. Но мысль о реформе как связующая основа в ткани проходит в повествовании из года в год из тома в том. Читая эти 11 томов, иногда как будто забываешь, что постепенно удаляешься от времени Петра. Меняются лица и обстановка, а преобразователь как будто продолжает жить, наблюдает за своими преемниками и преемницами, одобряет или порицает их деятельность: так живо чувствуется действие его идей и начинаний, либо непонимание тех и других в мерах и намерениях его продолжателей и так часто напоминает об этом сам историк, для которого реформа Петра – неизменный критерий при оценке всех развивающихся из нее или после нее явлений.
Так читатель приближается к концу третьей четверти века, и тут прерывается рассказ, покидая его накануне пугачевщины, перед эпохой усиленной внутренней деятельности правительства, перед обществом, которому этот мятеж впервые так ярко и так грозно осветил его положение. Но было бы в высшей степени желательно, чтобы именно эту эпоху, конец века, изобразил историк, описавший его начало и продолжение. То было время житейской проверки того, чем жило русское общество дотоле; тогда и в самом обществе появляются первые попытки спокойно, без вражды и без обожания взглянуть на дело Петра. С наступлением нового века возникнут такие внутренние потребности, придут такие сторонние влияния, которые поставят правительству и обществу задачи, не стоявшие перед Петром. Но до той поры дела бежали, еще движимые толчком, полученным от Петра. Оставалось подвести итоги, подсчитать результаты и объяснить неожиданности. Один из питомцев Петра выразился о преобразователе: «На что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут». Но к исходу века откуда-то почерпались дела, не сродные сему источнику. Петр ограничил пытку, и если сражение при Лесной, где преобразованная русская армия в 1708 г. впервые победила шведов, не имея численного превосходства, было, говоря словами Петра, «первой солдатской пробой» его дела, то распространение телесных наказаний на привилегированные сословия три четверти века спустя после указа о пытке можно признать последней законодательной пробой того же дела, только С другой стороны. Одна из любопытнейших частей нашей истории – судьба петровских преобразований после преобразователя – осталась недосказанной в книге Соловьева. Долгим трудом воспроизведенное, глубоко продуманное историческое строение силлогизма русской жизни в продолжение столетия роковым образом перервалось перед моментом, которого читатель давно ждал с напряженным вниманием, – перед завершительным итак. Этот перерыв оставил и, может быть, надолго в научной полутьме наш XVIII век. Вот чего жаль и вот в чем потеря. Никто ближе Соловьева не стоял к источникам истории этого века, никто глубже его не проникал в наиболее сокрытые ее течения; ничье суждение не помогло бы больше успешному разрешению трудных вопросов, какие она ставит. Об историческом труде Карамзина Соловьев писал, что остановка его на Смутном времени, отсутствие подробной истории XVII в., этого моста между древней и новой Россией, надолго должны были способствовать распространению мнения, что новая русская история есть следствие произвольного уклонения от прежнего правильного пути. Соловьев перекинул этот мост, восстановил историческую связь между древней и новой Россией, разрушил предрассудок о произвольном уклонении; но и у него остался недостроенным путь между началом и концом XVIII в. Отсюда ряд недоумений. Век, начавшийся усиленными правительственными заботами о народном просвещении, заведением русской книгопечатни за границей, завершился закрытием частных типографий в самой России. Правнук преобразователя, впервые заговорившего об отечестве в высоком народно-нравственном, а не в узком местническом смысле этого слова, о служении отечеству как о долге всех и каждого, запретил употребление самого этого слова. Если никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первой четверти XVIII в., то редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти.
Повторю: в двадцать пятую годовщину смерти Соловьева, вспоминая, что сделала эта трудовая жизнь для русского исторического сознания, сожалеешь невольно о том, что смерть помешала ей сделать.
Ф.И. Буслаев как преподаватель и исследователь
Что сделал Буслаев для изучения русской истории? Задав себе этот вопрос, я, прежде всего, вспомнил свои студенческие годы. Я уверен, так поступит каждый ученик Буслаева, когда спросит себя, что сделал он для его отрасли знания, для избранной им науки, если она входила в обширную область научного ведения, в пределах которой трудился Буслаев.
И я думаю, что это – недаром. Теперь в этой обширной области у нас трудится много работников и большею частью благодаря Буслаеву. Складывается значительная литература предмета. Первые, элементарные сведения по этому предмету, сообщаемые профессором и даже гимназическим учителем, суть только наиболее признанные в этой литературе положения науки. В этом случае профессор и учитель – только ученые посредники между литературой и аудиторией или классом.
Тридцать пять лет назад, когда я начал в Московском университете слушать Буслаева, положение дела было совсем иное. Большая часть того, что он повторял в аудитории из печатного, была недавно напечатана им же самим. Многое, что он сообщал своей аудитории, студент узнавал раньше читателя. Буслаев был не посредник между своей аудиторией и литературой своего предмета, а первый поставщик той и другой. Ученикам его часто приходилось первым усвоять его идеи, новые факты, приемы их изучения и потом проводить их в преподавании, частной беседе, даже в литературе. Но всякий ученик Буслаева по роду своих дальнейших занятий может с достаточной полнотой и глубиной оценить его как ученого, взвесить его значение в той науке, которой посвящена была его ученая деятельность. Но в личных воспоминаниях каждого о том, как он учился у Буслаева, могут найтись черты, впечатления и замечания, которые пригодятся для изображения того, как усвоялись и распространялись ученые взгляды Буслаева, как они отражались в преподавании и литературе, – словом, может оказаться пригодный материал хотя не для истории самой науки, то, по крайней мере, для истории русского просвещения.
С такими именно мыслями и обратился я к своим студенческим воспоминаниям, чтобы отдать себе отчет в значении Буслаева для изучения русской истории. Я вступил в Московский университет и стал слушать Буслаева в тот самый 1861 год, когда появились два тома его «Исторических очерков русской народной словесности и искусства»; в этом издании были собраны и приведены в некоторую систему исследования и характеристики, рассеянные в разных изданиях, с исправлениями и пополнениями. Не только специалист, но и простой образованный читатель мог по 34 «главам», (точнее монографиям), этого обширного издания в связанном подборе следить за развитием основной мысли и метода исследователя. Но этим изданием далеко не завершилась ученая деятельность исследователя, а только очерчивался круг явлений, избранных им для изучения, намечалась программа и выяснялись задачи дальнейших работ. Когда я стал слушателем Буслаева, его ученая деятельность шла полным ходом. И после издания «Очерков» аудитория продолжала для него стоять впереди публики. Многие исследования, появлявшиеся потом в печати, составлялись из курсов, читанных им в университете. Будущая ученая биография Буслаева, конечно, выяснит связь его профессорской и авторской деятельности, восстановив отношение его печатных исследований к его университетским курсам: это отношение – вообще очень любопытное дело как для определения влияния университетского преподавания на нашу научную литературу, так и для истории русского просвещения, и биография профессора, так долго преподававшего и так много писавшего, как Буслаев, может пролить яркий свет на эту всеми живо чувствуемую и признаваемую, но еще далеко не выясненную связь университета с литературой.
Впрочем, как бы много ни писал профессор по своей науке, он не может перелить в свои сочинения всего своего преподавательского влияния. Воображаемая публика, от которой писатель отделен типографией и книжной лавкой, никогда не заменит аудитории, живьем присутствующей прямо перед глазами преподавателя н возбуждающей его своим немым, но выразительным вниманием. Потому перу остаются недоступны многие средства действия, какими обладает живое слово. С кафедры идут дидактические и методологические впечатления, которые уносятся слушателями и которых печатный станок никогда не передает читателю. Но и эти неуловимые впечатления не пропадают бесследно в общем движении науки… И, прежде всего, мы обязаны Буслаеву тем, что он растолковал нам значение языка как исторического источника. Теперь это значение так понятно и общеизвестно; но тогда оно усвоялось с некоторым трудом и не мной одним. Живо помню впечатление, произведенное на меня чтением статьи «Эпическая поэзия». Это было в 1860 или 1861 г. Заглавие вызвало во мне привычные школьные представления об эпосе, «Махабхарате», «Илиаде», «Одиссее», о русских богатырских былинах. Читаю и нахожу нечто совсем другое. Вместо героических подвигов и мифических приключений я прочитал в статье лексикографический разбор, вскрывший в простейших русских словах вроде «думать», «говорить», «делать» сложную сеть первичных житейских впечатлений, воспринятых человеком, и основных народных представлений о божестве, Мире и человеке, какие отложились от этих впечатлений.
С течением времени, слушая Буслаева в аудитории и на квартире, читая сочинения его собственные и чужие, какие он нам указывал, вдумываясь в дело, мы постепенно входили в круг идей, внушавших совсем непривычное представление о содержании, границах и приемах изучения той отрасли знания, которую называют историей словесности.
В моей памяти, как и в студенческих заметках, уцелели следы того диалектического процесса, какой задавал Буслаев нашему мышлению и которым мы усвояли столь новые для нас воззрения. Может быть, вспомнить эти усилия студенческой мысли не будет лишним не для самой науки, конечно, а для истории университетского образования и для биографии Буслаева.
Первое и главное произведение народной словесности есть самое слово, язык народа. Слово – не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества. Это – художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром. В первых своих очертаниях этот образ заключился в корне слова. По мере накопления опыта и наблюдения, по мере осложнения впечатлений и отношений и первичный образ разрастается в верование, в идею божественной силы, незримо присутствующей в видимом мире, потом в миф, в представление о видимом, ощутительном проявлении этой незримой силы, в закон или житейское правило, устанавливаемое этим верованием и представлением, наконец, в обычай и предание, созидаемые верованиями, мифами и законами путем их передачи из поколения в поколение. Вместе с тем по мере развития понятий и отношений корни слов обрастали этимологическими и фонетическими новообразованиями; система грамматических форм, первичное коренное значение слова последовательно изменялось и разветвлялось, давая от себя сложную систему производных, складывалась синонимическая и омонимическая лексика, выражавшая оттенки и соотношение впечатлений и явлений и т. д. Так язык рос вместе с народной жизнью, и его история есть летопись этой жизни и летопись художественная, своего рода эпопея, в поэтических образах отразившая народные верования, понятия, убеждения, обычаи и права в темную эпоху их зарождения.
Все это теперь кажется так просто и элементарно. Но усвоенные вовремя, эти элементарные сведения о строении языка и его отношении к жизни народа оказали нам потом неоценимую услугу. Немногим ученикам Буслаева пришлось по выходе из университета заниматься специально историей русского языка и литературы: из нашего выпуска 1865 г., если не ошибаюсь, никто не избрал этой специальности. Но многим из нас пришлось после иметь дело со старыми текстами, с памятниками древней письменности, и, сидя за ними, мы с благодарностью вспоминали и вспоминаем доселе уроки и советы Буслаева. Уча нас строению языка и его связи с народным бытом, он учил нас читать древние памятники, разбирать значение, какое имели слова на языке известного времени, сопоставлять изучаемый памятник с другими одновременными и посредством этого разбора и сопоставления приводить его в связь со всем складом жизни и мысли того времени.
Я не берусь говорить, что сделал он, собственно, для изучения словесности. Упомяну об этом только по связи с другою заслугой, оказанною им изучению русской истории. В изучении русской словесности он поставил новые задачи и принял новый метод. Главным предметом его внимания была народность и отрасль знания, на которой он сосредоточивал свои работы, он сам называл сравнительным изучением народности, этой новой наукой XIX в., по его выражению. Перемена, внесенная этою новою наукой в направление изучения словесности, состояла в том, что научный интерес от отдельных памятников личного творчества перенесен был на народную массу. Он подробно изложил эту перемену в начале своей монографии «Сравнительное изучение народного быта и поэзии». «В прежнее время, – пишет он здесь, – …главнейшие предметы для этой науки – язык, религия, начатки семейного и общественного быта, народная поэзия и обычное право. Все эти предметы должны быть изучаемы сравнительно. Необходимость такого изучения вытекает из открывающегося все явственнее факта первобытного сродства индоевропейской семьи народов и даже народов всего земного шара, т. е. сродства общечеловеческого». Сравнительная грамматика и сравнительная мифология языков индоевропейских, по его словам, привели к тем результатам… Материалы для такого изучения заключаются в разнообразных формах словесного творчества народа: краткие изречения, заговоры, пословицы, поговорки, клятвы, загадки, приметы, песни, сказки и пр. – все эти разрозненные члены эпического предания, в которых выражалось народное миросозерцание, в которых сказывалась народная душа и которых поэтому можно назвать источниками науки народной психологии. Но не одна устная словесность народа дает такие материалы: самородное творчество народа разорванными отзвуками западало и в письменную словесность. Восстановить связь между устной народной и письменною словесностью было задачей и заслугой Буслаева. В его ученом плане история литературы получала новый, научный склад и характер: из критико-библиографического обзора отдельных памятников письменности без внутренней связи, являвшихся более или менее удачными, но всегда случайными проявлениями личного творчества, история словесности превращалась в изображение течений литературного творчества с указанием их народных источников, картину стройного и последовательного развития народного духа и быта, насколько тот и другой отразился в памятниках устной и письменной словесности, и не только словесности, но и искусства. Для восстановления этой связи устной словесности с письменной Буслаев предпринял неутомимое и широкое изучение обильного рукописного запаса, какой накопился в наших древлехранилищах, частных и общественных, и какой он сам мог найти на рынке старых книг и рукописей.
Это был другой общий источник как для истории русской словесности, так и для русской истории, и в изучение этого обильного и мало тронутого источника Буслаев внес большое оживление, даже, можно сказать, новое направление, благотворно отразившееся на успехах русской историографии вообще. Древнерусская письменность, почти исключительно духовная, церковная по своему содержанию, рассматривалась прежде как выражение нового христианского порядка жизни, какой строился на старой языческой почве русского народа. Этот порядок должен был стать на языческой почве, подавив в ней все корни и поросли языческой старины. Но предполагалось, что эта христианская письменность по положению письменного дела в древней Руси питала мысль и чувство только высших классов общества и, слабо действуя на простонародье, на эту старую языческую почву, ничего и от нее не заимствовала, была от нее изолирована. Она представлялась течением, шедшим поверх общенародной жизни, освещавшим ее, но за нее не зацеплявшимся. Из этой письменности опускалась на Народную жизнь освежительная, но скоро высыхавшая роса, а по временам падали грозные обличения, но самый этот быт своими отношениями, повериями и чувствами не поднимался до высоты порядка, какой проводился в этой письменности. Так, например, в житиях русских святых история литературы черпала преимущественно образчики благочестия отдельных древнерусских людей. В этой-то письменности, в чуде жития, в набожной легенде, в миниатюре, которою украшались поля рукописей, даже в ином назидательном сказании Буслаев стал находить мотивы и образы чисто народного происхождения, как в пословице, загадке и т. п. Многие главы первого тома его «Исторических очерков» и весь второй том, носящий заглавие «Древнерусская народная литература и искусство», посвящены изысканию этих народных мотивов и образов в древнерусской литературе. Можно сказать, что это – ряд монографий, дающих частичные ответы, прямые или косвенные, на один общий вопрос о влиянии народных поверий, мифов, понятий и обычаев на древнерусскую письменность. Оказалось, что течение, шедшее поверх старой русской жизни, не было совсем с ней разобщено, питалось и ее испарениями.
Так восстановлена была связь древнерусской письменности с ее туземными народными источниками. В содействии этому делу состояла несомненная научная заслуга Буслаева, частью испытанная мною на самом себе. Я помню, как оживился интерес к древнерусской рукописной литературе, и я раскрывал древнерусскую рукопись с нетерпеливой надеждой найти в ней свежие следы древнерусского народного быта и мышления. Изучение древнерусской письменности оживилось потому, что расширилось и углубилось. В ней стали искать отражение не одних только идеалов, норм пришлого порядка, который водворялся на Руси и часто терпел неудачи, но и той среды, которая его медленно и не всегда понятливо воспринимала. Таким образом, по этой письменности стали изучать совместную работу новых культурных влияний и старых туземных сил, которые перерабатывались теми влияниями в культурные средства. Разумеется, и изучение письменности тем самым осложнилось, сделалось труднее: ее стало необходимо изучать в неразрывной связи и с народным бытом и мышлением.
Его эстетическая и патриотическая антипатия к искусственной литературе во имя самородной народной словесности не помешала его ученому беспристрастию помирить противниц и соединить их в единый цельный неисчерпаемый источник истории русской народной жизни – мысли и художественной фантазии…
К.Н. Бестужев-Рюмин
2 января текущего года[3]3
1897 г.
[Закрыть] мы лишились К.Н. Бестужева-Рюмина, 21 год состоявшего членом нашего Общества[4]4
Общество истории и древностей российских
[Закрыть]. Имя покойного принадлежит русской историографии, в летописях которой историческая критика отведет его ученым трудам подобающее почетное место. Мы теперь под несвеявшимся еще впечатлением понесенной потери почтим его намять благодарным товарищеским воспоминанием.
Старших из здесь присутствующих я прошу Вас перенестись воспоминаниями лет за 40 назад, к концу 50-х годов.
Я принадлежу по возрасту к поколению тех из вас, милостивые государи, чье историческое мышление пробуждалось в то время, делая первые усилия в познании родного прошлого. Едва одолев учебники истории всеобщей и русской, мы тогда усилении читали «Четыре характеристики» Грановского в изданном Кудрявцевым в 1856 г. собрании иго сочинений, Костомарова «Богдана Хмельницкого» и «Бунт Стеньки Разина» в выходивших тогда уже (1859) вторых изданиях, первые тома «Истории» Соловьева, его же «Исторические письма» и статьи Кудрявцева, Кавелина, Буслаева, Чичерина и др. в «Русском вестнике», «Отечественных записках», «Современнике». Припомним также, что за этим чтением нас гораздо сильнее удерживало возбужденное общим движением любопытство юношеского ума, чем юношески незрелое понимание читаемого. Мы смутно чувствовали, что и в русской историографии веет новым духом, который проникал тогда во все отношения, в самые сокровенные углы русской жизни.
Теперь, спустя 40 лет, много перечитав и передумав, быв свидетелями широкого и разностороннего развития русской историографии, мы можем оглянуться на то далекое время с чувством некоторого самодовольства: наше тогдашнее смутное чутье нас не обманывало; мы знаем теперь, что русское историческое изучение переживало тогда глубокий перелом, успевший уже обнаружиться внушительными признаками. Археографическая комиссия обнародовала уже свои первые капитальные серии русских исторических источников, летописей и актов и в 1859 г. выпускала VII том «Дополнений к Актам историческим». В подмогу ей начали действовать Виленская и Киевская комиссии для разбора древних актов. Предпринято было немало других изданий памятников отечественной старины. Накоплялся значительный запас печатного архивного материала и вместе с тем все более выяснялось, что в тысячу раз богатейший материал таится в рукописных книгохранилищах и архивах, ожидая работников. Сколько нового открыло тогда одно «Описание» Горского и Невоструева, начавшее выходить с 1856 г.! С другой стороны, на смену старым собирателям памятников народного творчества и быта – Максимовичу, Сахарову, Снегиреву, Терещопку, – выступил ряд их деятельных продолжателей; Бессонов, Рыбников, Даль, Шеин, а в 1860 г. Общество любителей российской словесности постановило издать песни, собранные П. Киреевским. Много свежих или уже испытанных ученых сил с редкой энергией и превосходной подготовкой принимались за обработку этого нового сырого и разнообразного материала, изданного и неизданного: Буслаев, Афанасьев, Забелин, Победоносцев, Кавелин, Чичерин, Дмитриев, Тихонравов, Пыпин и много-много других; в 1857 г. вышел первый том «Истории русской церкви» Макария – и среди всех этих разнообразных, трудолюбивых и талантливых работ спокойным, мерным шагом, своей особой дорогой, по-возможности никого не задевая, по и не выпуская из вида чужих трудов, выходила о 1851 г. «История России с древнейших времен» Соловьева, своими неизменными из года в год октябрьскими томами, обозначая движение русской исторической науки, как часовая стрелка указывает на циферблате движение времени. Очевидно было, что течение русской историографии страшно дробилось, разбивалось на необозримо разносторонние специальные русла и возникал вопрос, как следить за этим все увеличивавшимся разветвлением русско-исторической изыскательности, чтобы не потерять нити общего направления русской исторической мысли.
В этот момент в «Московском обозрении» 1859 г. появилась без подписи автора обширная статья «Современное состояние русской истории, как науки». Я был тогда еще слишком юн, далек от Москвы и от ученого мира и лишь много лот спустя узнал, что эта статья Бестужева-Рюмина, а узнал это из приобретенного мною еще в студенческие годы экземпляра «Московского обозрения», на котором было написано: «Воспитаннику 3-го спец. класса Феодору Строкину на память от издателя». Под статьей рукой внимательного читателя, сделавшего в книге на полях много заметок, карандашом подписано: Бестужев. Бестужев-Рюмин участвовал в издании «Московского обозрения». Около того же времени1 он преподавал историю в Московских корпусах: не он ли сделал эту надпись, даря книгу со своей статьей одному из старших своих учеников? Я не знаю, какое впечатление произвела эта статья на своих читателей при своем появлении. Перечитывая ее теперь, видим, что она написана бойко и живо и обличает в авторе человека много читавшего, который при случае кстати припомнит и издания Сахарова, и различие между поэзией и историей по Аристотелю, и Геро-де-Сешеля, требовавшего себе из библиотеки законов Миноса для составления Французской конституции 1793 г., и сделает надлежащую выдержку из Маколея, Грановского, Юлиана Шмита. Главное содержание статьи – критический разбор первых восьми томов «Истории» Соловьева. Но чтобы быть вполне справедливым к своему учителю, которого он слушал в Московском университете, критик обозревает, как понимали историю и как пользовались источниками предшественники Соловьева, писавшие полную историю России: кн. Щербатов, Карамзин и Полевой, потом говорит о состоянии разработки источников в эпоху появления «Истории» Соловьева и всему этому предпосылает изложение современных требований от историка, как выразителя народного самопознания. Требования очень суровы и трудно выполнимы – это те сложные, возвышенные, словом, идеальные требования, какие со слов великих мастеров историографии или глядя на их мастерские произведения, любят предъявлять молодые читатели и начинающие ученые, но над которыми добродушно покачивают головой искушенные опытом и трудом обыкновенные историки. Соловьев, разумеется, не вполне удовлетворительно выдержал вооруженную такими требованиями критику своего ученика, хотя последний и отнесся к нему с большим почтением.
Но эта большая статья гораздо важнее была для самого автора, чем для Соловьева и других современных русских историков, столь же строго им разобранных. Я думаю, что этот первый большой опыт Бестужева-Рюмина по русской истории окончательно сложил его взгляд на научное дело и на задачи его собственной научной деятельности. Он, 30-летний ученый, в этой первой серьезной пробе своего ученого пера, обозревая движение русской историографии, продумал в последовательном порядке основные факты нашей истории, пересмотрел ее источники с Карамзиным, Соловьевым и Кавелиным в руках, воочию убедился, как осторожно и обдуманно надобно ими пользоваться, на образцах поучился технике исторической работы. Его критические уроки, сказанные учителям, несомненно гораздо более научили самого критика, чем их.
Этим определялось дальнейшее направление его ученых работ. Отправляясь от основательного изучения состояния, в каком он застал русскую историографию при своем вступлении на ученое поприще, он потом всю жизнь оставался зорким наблюдателем ее движения. Я даже не умею назвать, кто бы с большим вниманием следил за русской исторической литературой нашего времени. Призванный через несколько лет преподавать русскую историю в С.-Петербургском университете, он, сколько мне известно, и в свои курсы вводил вместе с обзором русских исторических источников обзор новейшей русской историографии. Всякий начинающий дельный исследователь по русской истории был им тотчас замечаем и встречал в нем внимательного и доброжелательного ценителя. Помню, видаясь с ним в давние редкие приезды его в Москву, бывало едва поспеваешь отвечать на его нетерпеливые вопросы, кто чем занимается в Москве из молодых ученых по русской истории, что кто задумывает писать, не найдено ли чего нового в рукописях в московских архивах. Сам он не брался за большие специальные работы по неизданным архивным или рукописным источникам. Правда, он оставил крупный след в разработке русских исторических источников: в 1868 г. вышла его известная диссертация: «О составе русских летописей до конца XIV в.» Этим трудом он укрепил в нашей исторической литературе прием изучения, который при умелом обращении с ним приносит плодотворные результаты – это тонкий критический разбор составных частей памятника и их часто трудноуловимого происхождения. Я назвал бы этот прием, как он был выработан Бестужевым-Рюминым на изучении древнейших летописных сводов – химическим анализом исторического источника.
В общем движении русской историографии он шел до конца своей особой дорогой, избрал себе здесь свое специальное дело, и это дело прямо отвечало на вопрос, поставленный широким развитием русского исторического изучения: он следил за все осложнявшимся движением русской исторической литературы, сводил, подсчитывал ее научные итоги, наблюдал ее общее направление и по временам отмечал в ней сомнительные или неосторожные уклонения. Плодом этих многочисленных наблюдений и научений и была его «Русская история», первый том которой вышел в 1872 г. Он сам объясняет задачу этого труда в первых строках предисловья… «Цель этой книги – представить результаты, добытые русскою историческою наукою в полтораста лет ее развития, указать на пути, которыми добывались и добываются эти результаты, и вместе с тем ввести в круг источников, доступных в настоящее время ученой деятельности». Кто из занимающихся русской историей переносит эту своеобразную книгу с письменного стола на полку! Она ежеминутно надобится, как путеводитель при обзоре осматриваемого города. Ее своеобразность в том, что в ней настоящий текст в нижней половине ее страниц, в этих неистощимо обильных цитатах и примечаниях, а верхняя половина – только прагматический фон или фактическая канва, по которой тщательной и удивительно-терпеливой рукой выведены лучшие усилия и успехи русского труда и ума по изучению родного прошлого. Нисколько не умаляя и не преувеличивая этого труда, можно сказать, что это не только русская история, но и история работы русской мысли над русской историей. Сам автор хотел дать в своей книге руководство или, лучше, пособие приступающим к самостоятельному изучению русской истории. Собирая, сопоставляя и разбирая мнения, высказанные в литературе, он не выставляет на первый план своих, а высказывает их только кстати, как научную возможность или робкий призыв ученой братии к содействию, проверке и поправке. Книга составилась постепенно из университетских чтений, в которых профессор, по его признанию, всегда давал много места оценке источников и пособий и критическому изложению высказываемых в науке мнений.









































