Читать книгу "Чутье современности. Очерки о русской культуре"
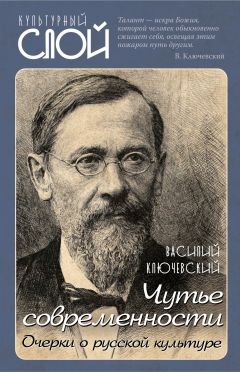
Автор книги: Василий Ключевский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей по мысли Шварца Дружеском ученом обществе, которое при торжественном открытии своем в 1782 г. объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг по школам. Указ 1783 г. о вольных типографиях дал возможность обществу завести две собственные типографии на имя своих членов – Новикова и Лопухина; потом, в 1784 г., завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на паях под фирмой Типографской компании, со складочным капиталом в 57 500 руб. (более 150 тыс. руб. на наши деньги) и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тыс. руб. по продажной цене. При таких средствах Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова у Воскресенских ворот по спросу ее. товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тыс. руб. ори Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 руб. Ежегодный доход Типографской компании, по показанию Новикова, простирался свыше 40 тыс. руб., доходя в иные годы до 80 тыс. руб. О размерах предприятия можно судить по тому, что после закрытия компании в 1791 г., когда все дело ее было разрушено, несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось еще по каталожной цене без малого на 700 тыс. руб. (более 1 1/2 млн. на наши деньги), не считая 25 тыс. экземпляров книг, сожженных или переданных в духовную академию и университет.
Трудно сметить даже на глаз, какие успехи достигнуты были такими усилиями. Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению; что благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Если частный случай что-нибудь доказывает, я приведу библиографическую подробность из своего детства: в деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы – Иосиф Битобэ и Потерянный рай Мильтона и вместе с альманахом Карамзина Аглаей были в числе первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтенче ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков Московских Ведомостей, издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемеро (с 600 до 4 тыс.). При них выходили прибавления разнообразного содержания: по литературе, сельскому хозяйству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения. Не упоминаю о других московских периодических изданиях Новикова. Он был не только типографщиком и книгопродавцом, но и издателем, выбирал, что нужно печатать, заказывал работы переводчикам и сочинителям, небывалым гонораром оживил переводную и оригинальную письменность, отдавая предпочтение произведениям научным и духовно-нравственным. Этим он внес в текущую литературу того времени новую струю, шедшую против господствовавшего направления умов и литературных, вкусов тогдашнего светского общества. Книжная лавка Новикова, откуда шла эта струя, получила Своеобразный вид и в ней бывали характерные сцены: приходил покупатель, рылся в книжных новостях, разложенных на прилавке, находил все издания духовно-нравственного содержания, которых не хотел покупать, спрашивал, почему нет романов; Новиков отвечал, что переводчики что-то перестали носить ему такие сочинения, и, набрав, связку книг, какие были на прилавке, просил покупателя принять их от него в дар. После сам Новиков показывал следователю об усилении спроса на духовные книги, а один из учеников Новикова писал, что целое море душеспасительных книг было им пущено против потока вольнодумческих сочинений. В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это – общественное мнение. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому новиковскому десятилетию (1779–1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же – сеятелем просвещения.
Это новиковское десятилетие – одна из лучших эпох и в истории Московского университета. В тот год, Когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел докончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты, были обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни; иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском факультете, оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все науки своего факультета; студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр; люди хорошего общества еще побаивались пускать в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала. У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он Основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала Утренний Свет. Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспитательной части стал, разумеется, Шварц. Приготовление учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения. Став профессором в 1779 г. и по поручению университета составляя учебники и проекты об улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тыс. руб. своих кровных сбережений и в конце того же года открыл при университете учительскую семинарию, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее «Дружеского ученого общества», которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы приготовлять их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через 3 года в этой семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых общество давало по 100 руб. на человека, купив притом дом для их помещения; в числе их находились два будущие с. – петербургские митрополита: Михаил и Серафим. Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток. «Дружеское общество» по мысли Шварца в 1782 г. учредило в университете другую семинарию, переводческую иди филологическую, в которую приняло 16 студентов; из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства уже известного нам Татищева, остальные – на счет других членов кружка. Лучших своих питомцев «Дружеское общество» посылало для довершения образования за границу. Заботы общества распространялись на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий общества. Студенты, преимущественно питомцы общества, были сотрудниками и даже руководителями периодических изданий Новикова – Вечерней Зари 1782 г. и Покоящегося Трудолюбца 1784 г. Неугомонный педагог общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа. Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике, он читал еще у себя на дому приватный курс о видах познания и особый курс «философской истории» для семинаристов Общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели «всякого рода и звания», по выражению одного из них, так что эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству. В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов устроенное Шварцем Собрание университетских питомцев. Это было если не первое, то, наверное, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи. Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнение в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительною целью. Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервозно; молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и это разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорировавших, чем освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок – они разгорятся. Среди студентов стали зарождаться нравственная товарищеская солидарность, наклонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины. Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы «Дружеского общества», как трудно уследить, куда попадали книги, которые оно рассеивало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т. е. ректора) и пять профессоров.
Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало университету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет с своей стороны немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их. Кажется, университет не остался в долгу перед обществом. Да и зачем им сводить счеты между собою? Ведь они оба будут тем богаче, чем больше задолжают друг другу.
Недоросль Фонвизина
(Опыт исторического объяснения учебной пьесы)
Добрый дядя Стародум в усадьбе Простаковых, застав свою благонравную племянницу Софью за чтением Фенелонова трактата о воспитании девиц, сказал ей:
– Хорошо. Я не знаю твоей книжки; однако читай ее, читай! Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет.
Можно ли применить такое суждение к самому Недорослю? Современному воспитателю или воспитательнице трудно уследить за той струей впечатлений, какую вбирают в себя их воспитанники и воспитанницы, читая эту пьесу. Могут ли они с доверчивостью дяди Стародума сказать этим впечатлительным читателям, увидев у них в руках Недоросля: «хорошо, читайте его, читайте; автор, который устами дяди Стародума высказывает такие прекрасные житейские правила, пером своим нравов развращать не может». Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. Ум, коль он только что ум, самая безделица; прямую цену уму дает благонравие. Главная цель всех знаний человеческих – благонравие. Эти сентенции повторяются уже более ста лет со времени первого представления Недоросля и хотя имеют вид нравоучений, заимствованных из детской прописи, однако до сих пор не наскучили, не стали приторными наперекор меткому наблюдению того же Стародума, что «всечасное употребление некоторых прекрасных слов так нас с ними знакомит, что, выговаривая их, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует». Но, кроме прекрасных мыслей и чувств Стародума, Правдина, Софьи, поучающих прямо своим простым, всем открытым смыслом, в комедии есть еще живые лица с своими страстями, интригами и пороками, которые ставят их в сложные, запутанные положения. Нравственный смысл этих драматических лиц и положений не декламируется громко на сцене, даже не нашептывается из суфлерской будки, а остается за кулисами скрытым режиссером, направляющим ход драмы, слова и поступки действующих лиц. Можно ли ручаться, что глаз восприимчивого молодого наблюдателя доберется до этого смысла разыгрываемых перед ним житейских отношений и это усилие произведет на него надлежащее воспитательное действие, доставит здоровую пищу его эстетическому ощущению и нравственному чувству? Не следует, ли стать подле такого читателя или зрителя Недоросля с осторожным комментарием, стать внятным, но не навязчивым суфлером?
Недоросль включается в состав учебной хрестоматии русской литературы и не снят еще с театрального репертуара. Его обыкновенно дают в зимнее каникулярное время и, когда он появляется на афише, взрослые говорят: это – спектакль для гимназистов и гимназисток. Но и сами взрослые охотно следуют за своими подростками под благовидным прикрытием обязанности проводников и не скучают спектаклем, даже весело вторят шумному смеху своих несовершеннолетних соседей и соседок.
Можно без риска сказать, что Недоросль доселе не утратил значительной доли своей былой художественной власти ни над читателем, ни над зрителем, несмотря ни на свою наивную драматическую постройку, на каждом шагу обнаруживающую нитки, которыми сшита пьеса, ни на устарелый язык, ни на обветшавшие сценические условности екатерининского театра, несмотря даже на разлитую в пьесе душистую мораль оптимистов прошлого века. Эти недостатки покрываются особым вкусом, какой приобрела комедия от времени и которого не чувствовали в ней современники Фонвизина. Эти последние узнавали в ее действующих лицах своих добрых или недобрых знакомых; сцена заставляла их смеяться, негодовать или огорчаться, представляя им в художественном обобщении то, что в конкретной грубости жизни они встречали вокруг себя и даже в себе самих, что входило в их обстановку и строй их жизни, даже в их собственное внутреннее существо, и чистосердечные зрители, вероятно, с горестью повторяли про себя добродушное и умное восклицание Простакова-отца: «хороши мы!» Мы живем в другой обстановке и в другом житейском складе; те же пороки в нас обнаруживаются иначе. Теперь вокруг себя мы не видим ни Простаковых, ни Скотининых, по крайней мере с их тогдашними обличиями и замашками; мы вправе не узнавать себя в этих неприятные фигурах. Комедия убеждает нас воочию, что такие чудовища могли существовать и некогда существовали действительно, открывает нам их в подлинном первобытном их виде, и это открытие заставляет нас еще более ценить художественную пьесу, которая их увековечила. В наших глазах пьеса утратила свежесть новизны и современности, зато приобрела интерес художественного памятника старины, показывающего, какими понятиями и привычками удобрена та культурная почва, по которой мы ходим и злаками которой питаемся. Этого исторического интереса Не могли замечать в комедии современники ее автора: смотря ее, они не видели нас, своих внуков; мы сквозь нее видим их, своих дедов.
Что смешно в Недоросле, и одно ли и то же смешит в нем разные возрасты? Молодежь больше всего смеется, разумеется, над Митрофаном, героем драмы, неистощимым предметом смеха, нарицательным именем смешной несовершеннолетней глупости и учащегося невежества. Но да будет позволено немного заступиться за Митрофана: он слишком засмеян. Правда, он смешон, но не всегда и даже очень редко, именно только в лучшие минуты своей жизни, которые находят на него очень нечасто. В комедии он делает два дела: размышляет, чтобы выпутаться из затруднений, в которые ставит его зоологическая любовь матери, и поступает, выражая в поступках свои обычные чувства. Забавны только его размышления, а поступки – нисколько. По мысли автора, он дурак и должен рассуждать по-дурацки. Тут ничего смешного нет; грешно смеяться над дураком, и кто это делает, тот сам становится достойным предметом своего смеха. Однако на деле Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только – недобросовестно и потому иногда невпопад, размышляет не с целью узнать истину или найти прямой путь для своих поступков, а чтобы только вывернуться из одной неприятности, и потому тотчас попадает в другую, чем и наказывает сам себя за софистическое коварство своей мысли. Это самонаказание и вызывает вполне заслуженный смех. Он забавен, когда, объевшись накануне и для избежания неприятности учиться он старается преувеличить размеры и дурные следствия своего обжорства, даже подличает перед матерью, чтобы ее разжалобить; но, увертываясь от учителя, он подвергает себя опасности попасть в руки врача, который, разумеется, посадит его на диету, и, чтобы отклонить от себя эту новую напасть, сообразительно отвечает на предложение испугавшейся его болезни матери послать за доктором: «Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю», и убегает на голубятню. Он очень забавен со своей оригинальной теорией грамматики, со своим очень бойко и сообразительно изобретенным учением о двери существительной и прилагательной, за каковое изобретение умные взрослые люди, его экзаменовавшие торжественно, с митрофановским остроумием награждают его званием дурака. Но чувства и направляемые ими поступки Митрофана вовсе не смешны, а только гадки. Что смешного в омерзительной жалости, какая проняла объевшегося 16-летнего шалопая – в его тяжелом животном сне – при виде матери, уставшей колотить его отца? Ничего смешного нет и в знаменитой сцене ученья Митрофана, в этом бесподобном, безотрадно печальном квартете бедных учителей, ничему научить не могущих, – мамаши, в присутствии учащегося сынка с вязанием в руках ругающейся над ученьем, и разбираемого охотой жениться сынка, в присутствии матери ругающегося над своими учителями?…Если современный педагог так не настроит своего класса, чтобы он не смеялся при чтении этой сцены, значит, такой педагог плохо владеет своим классом, а чтобы он был в состоянии сам разделять смех, об этом страшно и подумать. Для взрослых Митрофан вовсе не смешон; по крайней мере, над ним очень опасно смеяться, ибо митрофановская порода мстит своей плодовитостью. Взрослые, прежде чем потешаться над глупостью или пошлостью Митрофана, пусть из глубины ложи представят себе свою настоящую или будущую детскую или взглянут на сидящих тут же, на передних стульях птенцов своих, и налетевшая улыбка мгновенно слетит с легкомысленно веселого лица. Как Митрофан сам себя наказывает за свои сообразительные глупости заслуженными напастями, так и насмешливый современный зритель сценического Митрофана может со временем наказать себя за преждевременный смех не театральными, а настоящими, житейскими и очень горькими слезами. Повторяю, надобно осторожно смеяться над Митрофаном, потому что Митрофаны мало смешны и притом очень мстительны, и мстят они неудержимой размножаемостью и неуловимой проницательностью своей породы, родственной насекомым или микробам.
Да я и не знаю, кто смешон в Недоросле. Г-н Простаков? Он только неумный, совершенно беспомощный бедняга, не без совестливой чуткости и прямоты юродивого, но без капли воли и с жалким до слез избытком трусости, заставляющей его подличать даже перед своим сыном. Тарас Скотинин также мало комичен: в человеке, который сам себя характеризовал известным домашним животным, которому сама родная сестрица нежно сказала в глаза, что хорошая свинья ему нужнее жены, для которого свиной хлев заменяет и храм наук, и домашний очаг, – что комичного в этом благородном российском дворянине, который из просветительного соревнования с любимыми животными доцивилизовался до четверенок? Не комична ли сама хозяйка дома, госпожа Простакова, урожденная Скотинина? Это лицо в комедии необыкновенно удачно задуманное психологически и превосходно выдержанное драматически: в продолжение всех пяти актов пьесы с крепколобым, истинно скотининским терпением ни разу она не смигнула с той жестокой физиономии, какую приказал ей держать безжалостный художник во все время неторопливого сеанса, пока рисовал с нее портрет. Зато она и вдвойне не комична: она глупа и труслива, т. е. жалка – по мужу, как Простакова, безбожна и бесчеловечна, т. е. отвратительна – по брату, как Скотинина. Она вовсе не располагает к смеху; напротив, при одном виде этой возмутительной озорницы не только у ее забитого мужа, но и у современного зрителя, огражденного от нее целым столетием, начинает мутиться в глазах и колеблется вера в человека, в ближнего.
В комедии есть труппа фигур, предводительствуемая дядей Стародумом. Они выделяются из комического персонала пьесы: это – благородные и просвещенные резонеры, академики добродетели. Они не столько действующие лица драмы> сколько ее моральная обстановка: они поставлены около действующих лиц, чтобы своим светлым контрастом резче оттенить их темные физиономии. Они выполняют в драме назначение, похожее на то, какое имеют в фотографическом кабинете ширмочки, горшки с цветами и прочие приборы, предназначенные регулировать свет и перспективу. Таковы они должны быть по тогдашней драматической теории; может быть, таковы они были и по плану автора комедии; но не совсем такими представляются они современному зрителю, не забывающему, что Он видит перед собой русское общество прошлого века. Правда, Стародум, Милон, Правдин, Софья не столько живые лица, сколько моралистические манекены; но ведь и их действительные подлинники были не живее своих драматических снимков. Они наскоро затверживали и, запинаясь, читали окружающим новые чувства и правила, которые кой-как прилаживали к своему внутреннему существу, как прилаживали заграничные парики к своим щетинистым головам; но эти чувства и правила так же механически прилипали к их доморощенным, природным понятиям и привычкам, как те парики к их головам. Они являлись ходячими, но еще безжизненными схемами новой, хорошей морали, которую они надевали на себя как маску. Нужны были время, усилие и опыты, чтобы пробудить органическую жизнь в этих, пока мертвенных, культурных препаратах, чтобы эта моралистическая маска успела врасти в их тусклые лица и стать их живой нравственной физиономией. Где, например, было взять Фонвизину живую благовоспитанную племянницу Софью, когда такие племянницы всего лет за 15 до появления Недоросля только еще проектировались дядюшкой Бецким в разных педагогических докладах и начертаниях, когда учрежденные с этой целью воспитательные общества для благородных и мещанских девиц по его заказу лепили еще первые пробные образчики новой благовоспитанности, а сами эти девицы, столь заботливо задуманные педагогически, подобно нашей Софье, только еще садились за чтение Фенелоновых и других трактатов о своем собственном воспитании? Художник мог творить только из материала, подготовленного педагогом, и Софья вышла у него свежеизготовденной куколкой благонравия, от которой веет еще сыростью педагогической мастерской. Таким образом, Фонвизин остался художником и в видимых недостатках своей комедии не изменил художественной правде и в самых своих карикатурах: он не мог сделать живые лица из ходячих мертвецов или туманных привидений, но изображенные им светлые лица, не становясь живыми, остаются действительными лицами, из жизни взятыми явлениями.
Да и так ли они безжизненны, как привыкли представлять их? Как новички в своей роли, они еще нетвердо ступают, сбиваются, повторяя уроки, едва затвержденные из Лябрюйера, Дюкло, Наказа и других тогдашних учебников публичной и приватной морали; но как новообращенные, они немного заносчивы и не в меру усердны. Они еще сами не насмотрятся на свой новенький нравственный убор, говорят так развязно, самоуверенно и самодовольно, с таким вкусом смакуют собственную академическую добродетель, что забывают, где они находятся, с кем имеют дело, и оттого иногда попадают впросак, чем усиливают комизм драмы. Стародум, толкующий госпоже Простаковой пользу географии тем, что в поездке с географией знаешь, куда едешь, – право, не менее и не более: живое лицо, чем его собеседница, которая, с обычной своей решительностью и довольно начитанно возражает ему тонким соображением, заимствованным из одной повести Вольтера: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело». Умные, образованные люди так самодовольно потешаются над этим обществом грубых или жалких дикарей, у которых они в гостях, даже над такими петыми дураками, какими они считают Митрофана и Тараса Скотинина, – что последний обнаружил необычную ему зоркость, когда спросил, указывая на одного из этих благородных гостей, Софьина жениха: «Кто ж из вас смешон? Ха, ха, ха!» Сам почтенный дядя Стародум так игриво настроен, что при виде подравшихся в кровь братца и сестрицы, к которой в дом он только что приехал, не мог удержаться от смеха и даже засвидетельствовал самой хозяйке, что он от роду ничего смешнее не видывал, за что и был заслуженно оборван ее замечанием, что это, сударь, вовсе н не смешно. Во всю первую сцену пятого акта тот же честным трудом разбогатевший дядя Стародум и чиновник наместничества Прав-дин важно беседуют о том, как беззаконно угнетать рабством себе подобных, какое удовольствие для государей владеть свободными душами, как льстецы отвлекают государей от связи истины и уловляют их души в свои сети, как государь может сделать людей добрыми: стоит только показать всем, что без благонравия никто не может выйти в люди и получить место на службе, и «тогда всякий найдет свою выгоду быть благонравным и всякий хорош будет». Эти добрые люди, рассуждавшие на сцене перед русской публикой о таких серьезных предметах и изобретавшие такие легкие средства сделать всех людей добрыми, сидели в одной из наполненных крепостными людьми усадеб многочисленных госпож Простаковых, урожденных Скотининых, с одной из которых насилу могли справиться оба они, да и то с употреблением оружия офицера, проходившего мимо со своей командой. Внимая этим собеседникам, точно слушаешь веселую сказку, уносившую их из окружавшей их действительности «за тридевять земель, за тридесятое царство», куда заносила Митрофана обучавшая его «историям» скотница Хавронья. Значит, лица комедии, призванные служить формулами и образцами добронравия, не лишены комической живости.
Все это – фальшивые ноты не комедии, а самой жизни, в ней разыгранной. Эта комедия – бесподобное зеркало. Фонвизину в ней как-то удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания. Срисовывая, что наблюдал, он, как испытанный художник, не отказывался и от творчества; но на этот раз и там, где он надеялся творить, он только копировал. Это произошло оттого, что на этот раз поэтический взгляд автора сквозь то, что казалось, проник до того, что действительно происходило; простая, печальная правда жизни, прикрытая бьющими в глаза миражами, подавила шаловливую фантазию, обыкновенно принимаемую за творчество, и вызвала к действию высшую творческую силу зрения, которая за видимыми для всех призрачными явлениями умеет разглядеть никем не замечаемую действительность. Стекло, которое достигает до невидимых простым глазом звезд, сильнее того, которое отражает занимающие досужих зрителей блуждающие огоньки.
Фонвизин взял героев Недоросля прямо из житейского омута, и взял, в чем застал, без всяких культурных покрытий, да так и поставил их на сцену со всей неурядицей их отношений, со всем содомом их неприбранных инстинктов и интересов. Эти герои, выхваченные из общественного толока для забавы театральной публики, оказались вовсе не забавны, а просто нетерпимы ни в каком благоустроенном обществе: автор взял их на время для показа из-под полицейского надзора, куда и поспешил возвратить их в конце пьесы при содействии чиновника Правдина, который и принял их в казенную опеку с их деревнями. Эти незабавные люди, задумывая преступные вещи, туда же мудрят и хитрят, но, как люди глупые и растерянные, к тому же до самозабвения злые, они сами вязнут и топят друг друга в грязи собственных козней. На этом и построен комизм Недоросля. Глупость, коварство, злость, преступление вовсе не смешны сами по себе; смешно только глупое коварство, попавшееся в собственные сети, смешна злобная глупость, обманувшая сама себя и никому не причинившая задуманного зла. Недоросль – комедия не лиц, а положений. Ее лица комичны, но не смешны, комичны как роли, и вовсе не смешны как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь вне театра, дома или в обществе. Фонвизин заставил печально-дурных и глупых людей играть забавно-веселые и часто умные роли. В этом тонком различении людей и ролей художественное мастерство его Недоросля; в нем же источник того сильного впечатления, какое производит эта пьеса. Сила впечатления в том, что оно составляется из двух противоположных элементов: смех в театре сменяется тяжелым раздумьем по выходе из него. Пока разыгрываются роли, зритель смеется над положениями себя перехитрившей и самое себя наказывающей злой глупости. Но вот кончилась игра, ушли актеры, и занавес опустился – кончился и смех. Прошли забавные положения злых людей, но люди остались, и, из душного марева электрического света вырвавшись на пронизывающую свежесть уличной мглы, зритель с ущемленным сердцем припоминает, что эти люди остались и он их встретит вновь прежде, чем они попадутся в новые заслуженные ими положения, и он, зритель, запутается с ними в их темные дела, и они сумеют наказать его за это раньше, чем успеют сами наказать себя за свою же перехитрившую себя злую глупость.
В Недоросле показана зрителю зажиточная дворянская семья екатерининского времени в невообразимо хаотическом состоянии. Все понятия здесь опрокинуты вверх дном и исковерканы; все чувства выворочены наизнанку; не осталось ни одного разумного и добросовестного отношения; во всем гнет и произвол, ложь и обман и круговое, поголовное непонимание. Кто посильнее, гнетет; кто послабее, лжет и обманывает, и ни те, ни другие не понимают, для чего они гнетут, лгут и обманывают, и никто не хочет даже подумать, почему они этого не понимают. Жена-хозяйка вопреки закону и природе гнетет мужа, не будучи умнее его, и ворочает всем, т. е. все переворачивает вверх дном, будучи гораздо его нахальнее. Она одна в доме лицо, все прочие– безличные местоимения, и когда их спрашивают, кто они, робко отвечает: «я – женин муж, а я – сестрин брат, а я – матушкин сын». Она ни в грош не ставит мнение мужа и, жалуясь на господа, ругается, что муж на все смотрит ее глазами. Она заказывает кафтан своему крепостному, который шить не умеет, и беснуется, негодуя, почему он не шьет, как настоящий портной. С утра до вечера не дает покоя ни своему языку, ни рукам, то ругается, то дерется: «тем и дом держится», по ее словам. ю держится он вот как. Она любит сына любовью собаки к своим щенятам, как сама с гордостью характеризует свою любовь, поощряет в сыне неуважение к отцу, а сын, 16-летний детина, платит матери за такую любовь грубостью скотины. Она позволяет сыну объедаться до желудочной тоски и уверена, что воспитывает его, как повелевает родительский долг. Свято храня завет своего великого батюшки воеводы Скотинина, умершего с голоду на сундуке с деньгами и при напоминании об учении детей кричавшего: «не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет», верная фамильным традициям дочь ненавидит науку до ярости, но бестолково учит сынка для службы и света, твердя ему: «век живи, век учись», и в то же время оправдывает его учебное отвращение неопрятным намеком на полагаемую ею конечную цель образования: «Не век тебе, моему другу, учиться: ты благодаря бога столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек». Самый дорогой из учителей Митрофана, немец, кучер Вральман, подрядившийся учить всем наукам, не учит ровно ничему и учить не может, потому что сам ничего не знает, даже мешает учить другим, оправдывая перед матерью свою педагогику тем, что головушка у ее сынка гораздо слабее его брюха, а и оно не выдерживает излишней набивки; и за это доступное материнско-простаковскому уму соображение Вральман – единственный человек в доме, с которым хозяйка обращается прилично, даже с посильным для нее респектом. Обобрав все у своих крестьян, госпожа Простакова скорбно недоумевает, как это она уже ничего с них содрать не может – такая беда! Она хвастается, что приютила у себя сиротку-родственницу со средствами, и исподтишка обирает ее. Благодетельница хочет пристроить эту сиротку Софью за своего братца без ее спроса, и тот не прочь от этого не потому, что ему нравится «девчонка», а потому что в ее деревеньках водятся отличные свиньи, до которых у него «смертная охота». Она не хочет верить, чтобы воскрес страшный ей дядя Софьи, которого она признала умершим только потому, что уж несколько лет поминала его в церкви за упокой, и рвет и мечет, готова глаза выцарапать всякому, кто. говорит ей, что он и не умирал. Но самодур-баба – страшная трусиха и подличает перед всякой силой, с которой не надеется справиться, – перед богатым дядей Стародумом, желая устроить нечаянно разбогатевшую братнину невесту за своего сынка; но когда ей отказывают, она решается обманом насильно обвенчать ее с сыном, т. е. вовлечь в свое безбожное беззаконие самую церковь. Рассудок, совесть, честь, стыд, приличие, страх божий и человеческий – все основы и скрепы общественного порядка горят в этом простаковско-скотининском аду, где черт – сама хозяйка дома, как называет ее Стародум, и когда она наконец попалась, когда вся ее нечестивая паутина разорвана была метлой закона, она, бросившись на колени перед его блюстителем, отпевает свою безобразную трагедию, хотя и не гамлетовским, но тартюфовским эпилогом в своей урожденной редакции: «Ах, я собачья дочь! Что я наделала!» Но это была минутная растерянность, если не было притворство: как только ее простили, она спохватилась, стала опять сама собой, и первою мыслью ее было перепороть насмерть всю дворню за свою неудачу, и, когда ей заметили, что тиранствовать никто не волен, она увековечила себя знаменитым возражением:









































