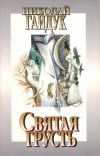Читать книгу "Воспоминания детства"

Автор книги: Василий Никифоров-Волгин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Радуница
Посвящаю Толичке Ф. Штубендорф
Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням и принадлежит Радуница. Она всегда во вторник на второй неделе по Пасхе. В Радуницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне, или рано утром, в церквах служат заупокойную утреню. Она не огорчает, а радует. Все время поют «Христос Воскресе», и вместо «надгробного рыдания» раздается пасхальное: «Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне».
Заупокойную литургию называют «обрадованной». В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для розговения усопших. Радуница – Пасха мертвых!

Хорошее слово «радуница»! Так и видишь его в образе красного яйца, лежащего в зеленых стебельках овса, в корзинке из ивовых прутьев.
И до чего это чудесны наши русские слова! Если долго вслушиваться в них и повторять раздельно и со смыслом одно только слово, и уже все видишь и слышишь, что заключено в нем. Как будто бы и короткое оно, но попробуй, вслушайся… Вот, например, слово «ручеек». Если повторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь: ручеек журчит между камешками!
Или другое слово – зной. Зачнешь долго тянуть букву «з», то так и зазвенит этот зной наподобие тех мух, которых только и слышишь в полуденную ржаную пору.
Произнес я слово – вьюга, и в ушах так и завыло это зимнее, лесное: ввв-и-ю…
Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд – гром, и я сразу услышал громовой раскат за лесною синью.
В день Радуницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охватившим меня чувством:
– Хорошо быть русским!
Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях и кустах, и все живое вместе с мертвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды. С разных сторон обширного старинного кладбища долетали голоса песнопений:
– Со духи праведных скончавшихся…
– Воскресение День, просветимся, людие.
– Смертию смерть поправ…
– Вечная память…
На многих могилах совершались «поминки». Пили водку и закусывали пирогами. Говорили о покойниках, как о живых людях, ушедших на новые жительные места.
Останавливаясь у родных могил, трижды крестились и произносили:
– Христос Воскресе!
Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало.
– Жизнь бесконечная… Все мы воскреснем… Все встретимся… – доносились до меня слова священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоронившую единственного сына.
Между могил с визгом бегали ребята, играя «в палочку-воровочку». На них шикали и внушали: «Нехорошо», а они задумаются немножко и опять за свое.
Батюшка Знаменской церкви отец Константин, проходя с кадилом мимо ребят, улыбнулся и сказал своему дьякону:
– Ишь они, бессмертники!..
– Да шумят уж очень… Нехорошо это… на кладбище…
– Пусть шумят… – опять сказал батюшка, – смерти празднуем умерщвление!..
На ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый щетинистый старик и говорил сердитым голосом, без передышек и заминок, окружавшим его людям:
– Поминальные дни суть: третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родительские субботы и вселенские панихиды…
– Это мы знаем, – сказал кто-то из толпы.
– Знать-то вы знаете, а что к чему относится, мало кто ведает. Почему по смерти человека три дня бывает поминовение его? Не знаете. Потому, чтобы дать душе умершего облегчение в скорби, кою она чувствует по разлучении с телом.
В течение двух дней душа вместе с Ангелами ходит по земле, по родным местам, около родных и близких своих, и бывает подобна птице, не имущей гнезда себе, а на третий возносится к Богу.
– А в девятый? – спросила баба.
– В этот день Ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая. И душа люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилище праведных…
В это время пьяный мастеровой в зеленой фуражке и с сивой бородою с тоскою спросил старика:
– А как же пьяницы? Какова их планида?
– Пьяницы Царствия Божия не наследуют! – отрезал старик, и он мне сразу не понравился. Все стало в нем ненавистно, даже усы его щетинистые и злые. Мне захотелось показать язык старику, сказать ему «старый хрен», но в это время заплакал пьяный мастеровой:
– Недостойные мы люди… – всхлипывал он, – мазурики! И за нас-то, мазуриков и сквернавцев, Господь плакал в саду Гефсиманском, и на Крест пошел вместе с разбойниками!..
Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери: слезы да покаяние двери райские отверзают…
Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотившегося на чей-то деревянный крест, и сказал, как пристав:
– Не нарушай общественной тишины! Не мешай людям слушать… греховодник!
– … В течение тридцати дней душа водится по разным затворам ада, а за сим возносится опять к Богу и получает место до страшного Суда Божия…
И почему такие хорошие святые слова старик выговаривает сухим и злым языком? – думал я. – Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое ее слово светиться будет… Выходит, что и слова-то надо произносить умеючи… чтобы они драгоценным камнем стали…
Мимо меня прошли две старухи. Одна из них, в ковровом платке поверх салопа, говорила:
– Живет, матушка, в одной стране… птица… и она так поет, что, слушая ее, от всех болезней можно поправиться… Вот бы послушать!..
Время приближалось к сумеркам, и Радуница затихала. Все реже и реже слышались голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти еще не угасшие пасхальные сумерки.
– Христос Воскресе из мертвых…
Отдание Пасхи
В течение сорока дней в церкви поют «Христос Воскресе».
– В канун Вознесения, – толковал мне Яков, – плащаницу, что лежала на Престоле с самой Светлой заутрени, положат в гробницу, и будет покоиться она в гробовой сени до следующего Велика-Дня… Одним словом, прощайся, Васенька, с Пасхой!
Я очень огорчился и спросил Якова:
– Почему это все хорошее так скоро кончается?
– Пока еще не все кончилось! Разве тебе мать не сказывала, что еще раз можно услышать пасхальную заутреню… на днях!
Меня бросило в жар.
– Пасхальная заутреня? На днях? Да может ли это быть, когда черемуха цветет? Врешь ты, Яков!
– Ничего не вру! День этот по церковному называется «Отдание Пасхи», а по-народному – прощание с Пасхой!
Когда я рассказал об этом Гришке, Котьке и дворнику Давыдке, то они стали смеяться надо мною.
– Ну, и болван же ты, – сказал дворник, – что ни слово у тебя, то на пятачок убытку! Постыдился бы, собаки краснеют от твоих глупостев!
Мне это было не по сердцу, и я обозвал Давыдку таким словом, что он сразу же пожаловался моему отцу.
Меня драли за вихры, но я утешал себя тем, что пострадал за правду, и вспомнил пословицу: «За правду и тюрьма сладка!»
А мать выговаривала мне:
– Не произноси, сынок, черных слов! Никогда! От этих слов темным станешь, как ефиоп, и Ангел твой, что за тобою ходит, навсегда покинет тебя!
И обратилась к отцу:
– Наказание для ребят наша улица: казенка, две пивных да трактир! Переехать бы нам отсюда, где травы побольше, да садов… Нехорошо, что в город мы перебрались! Жили бы себе в деревне…
Перед самым Вознесением я пошел в церковь. Последнюю пасхальную заутреню служили рано утром, в белых ризах, с пасхальною свечою, но в церкви почти никого не было. Никто не знает в городе, что есть такой день, когда Церковь прощается с Пасхой.
Все было так же, как в Пасхальную заутреню ночью, – только свет был утренний, да куличей и шума не было, и когда батюшка возгласил народу: «Христос Воскресе», не раздалось этого веселого грохота: «Воистину Воскресе!»
В последний раз пели «Пасха священная нам днесь показася».
После пасхальной литургии из алтаря вынесли святую плащаницу, положили ее в золотую гробницу и накрыли стеклянной крышкой.
И почему-то стало мне тяжело дышать, точно так же, как это было на похоронах братца моего Иванушки.
Я стал считать по пальцам – сколько месяцев осталось до другой Пасхи, но не мог сосчитать… очень и очень много месяцев!
После службы я провожал Якова до ночлежного дома, и он дорогою говорил мне:
– Доживем ли до следующей Пасхи? Ты-то, милый, в счет не идешь! Доскачешь! А вот я – не знаю. Пасха! – улыбнулся он горько, – только вот из-за нее не хочется помирать!.. И скажу тебе, если бы не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя! Нужна Пасха человеку!
Мы дошли до ночлежного дома. Сели на скамью. Около нас очутились посадские, нищебродная братия, босяки, пьяницы и, может быть, воры и губители. Среди них была и женщина в тряпье, с лиловатым лицом и дрожащими руками.
– В древние времена, – рассказывал Яков, – после обедни в Великую Субботу никто не расходился по домам, а оставались в храме до Светлой заутрени, слушая чтение Деяний апостолов…
Когда я был в Сибири, то видел, как около церквей разводили костры в память холодной ночи, проведенной Христом при дворе Пилата…
Тоже вот: когда все выходят с Крестным ходом из церкви во время Светлой заутрени, то святые угодники спускаются со своих икон и христосуются друг с другом.
Женщина с лиловым лицом хрипло рассмеялась. Яков посмотрел на нее и заботливо сказал:
– Смех твой – это слезы твои!
Женщина подумала над словами, вникла в них и заплакала.
Во время беседы пришел бывший псаломщик Семиградский, которого купцы вытаскивали из ночлежки читать за три рубля в церкви паремии и «апостола» по большим праздникам, и про которого говорили: «Страшенный голос».
Выслушав Якова, он откашлялся и захотел говорить.
– Да, мало что знаем мы про свою Церковь, – начал он, – а называемся православными!.. Ну, скажите мне, здесь сидящие, как называется большой круглый хлеб, который лежит у царских врат на аналое в Пасхальную седьмицу?
– Артос! – почти одновременно ответили мы с Яковом.
– Правильно! Называется он также «просфора всецелая». А каково обозначение? Не знаете! В апостольские времена, во время трапезы, на столе ставили прибор для Христа в знак невидимого Его сотрапезования…
– А когда в церкви будут выдавать артос? – спросила женщина и почему-то застыдилась.
– Эка хватилась! – с тихим упреком посмотрел на нее Яков. – Артос выдавали в субботу на Светлой неделе… К Вознесению, матушка, подошли, а ты – артос!
– Ты мне дай крошинку, ежели имеешь, – попросила она, – я хранить ее буду!
Семиградский разговорился и был рад, что его слушают.
– Вот, поют за всенощным бдением «Свете Тихий»… А как произошла эта песня, никто не знает…
Я смотрел на него и размышлял:
– Почему люди так презирают пьяниц? Среди них много хороших и умных!
– Однажды патриарх Софроний, – рассказывал Семиградский, словно читая по книге, – стоял на Иерусалимской горе. Взгляд его упал на потухающее палестинское солнце. Он представил, как с этой горы смотрел Христос, и такой же свет, подумал он, падал на лицо Его, и так же колебался золотой воздух Палестины… Вещественное солнце напомнило патриарху незаходимое Солнце – Христа. И это так растрогало патриарха, что он запел в святом вдохновении:
– Свете Тихий, святыя славы…
«Обязательно с ним подружусь!» – решил я, широко смотря на Семиградского.
В этот день я всем приятелям своим рассказывал, как патриарх Софроний, глядя на заходящее палестинское солнце, пел: «Свете Тихий, святыя славы».
Певчий
В соборе я стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почетным. Здесь стояли городской голова, полицеймейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, рогастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места, но он не слушался, хоть волоком его волочи! Почетные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: «Не могу уйти! Здесь все видно!»
Во время всенощного бдения или литургии облокотишься на железную амвонную оградку, глядишь восхищенными вытаращенными глазами на певчих, в таинственный дымящийся алтарь и думаешь:
– Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре! Все они приближенные Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепешки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал молитвы… Я не мог понять: почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого – пьяницу и сквернослова, баса торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, черствый хлеб и никогда не дает конфет «на придачу». Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дубленое, сизое, как у похоронного факельщика.
В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и праведные!
Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики – совсем как Ангелы Божии!.. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например, Митьку с Борькой. Они, жулики, хорошо в очко играют, и мне у них никогда не выиграть!
Однажды я заявил отцу с матерью:
– Очень мне хочется в алтарь кадило батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю!
– Дело это, сынок, простое, – сказал отец, – сходи седни или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они про твое озорство не наслышаны!
– Верно, сынок, – поддакнула мать, – попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с переливцем, яблочный… И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя Ангел Божий!
В этот же день я пошел к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».
– Войдите!
Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрым помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал соленый съеженный огурец.
– Тебе что, чадо? – спросил он каким-то густо-клейким голосом.
– Хочу быть певчим! – запинаясь, ответил я, не поднимая глаз.

– Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе… Вот так. Ну, тяни за мною «Царю Небесный Утешителю»… Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошелся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.
– Слух неважнецкий, – сказал он, – но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое аксиос? Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое, обозначает «достоин».
Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:
– И кафтан можно надеть?
– Какой? – не понял регент. – Тришкин?
– Нет… которые певчие носят… эти голубые с золотыми кисточками…
Он махнул рукой и засмеялся:
– Надевай хоть два!
В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением:
– Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду!
Кому-то сказал, перехватив через край:
– Приходите в воскресенье меня слушать!
Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обедни. Первым делом прошел в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня:
– Ты куда?
– За кафтаном! Меня в певчие выбрали!
– Эк тебе не терпится!
Я нашел маленький кафтанчик и облачился. Сторож опять на меня.
– Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час еще!
– Ничего. Я подожду.
Со страхом Божиим поднялся на клирос. В десять часов зазвонили к обедне. Пришел дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и диву дался.
– Ты что это в кафтане-то?
– Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий!
– Так, так! Молодецкий, говоришь? Ну, что же, «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте!»
Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот присно-радостный день. Уже не было мирской гордости – вот-де, достиг! – а тонкая, мягко-шелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного до щекотания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня…
Пели «Верую во единаго Бога Отца Вседержителя»… Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием. Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего Символа Веры… Когда певчие грянули «чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века, аминь» – я не сумел вовремя остановиться и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех: «А-а-минь»! В глазах моих помутилось. Я съежился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку, где-то фыркнули, регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным шипящим хрипом простонал:
– Снимай кафтан! Убирайся сию минуту с клироса, а то убью!
Со слезами я стал снимать кафтан, запутался в нем и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса.
Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать:
– Это ничего. Это тоже от Господа. Он, Батюшка Царь Небесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинешенек. Ишь, – подумал он, – как Вася-то ради Меня расстарался, но только не рассчитал малость… сорвался… Ну, что же делать, молод еще, горяч, с кем не бывает… Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается!
Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.
Святое святых
Желание войти во Святая Святых церкви не давало мне покоя.
В утренние и вечерние молитвы я вплетал затаенную свою думу:
– Помоги мне, Господи, служить около Твоего Престола! Если поможешь, я буду поступать по Твоим заповедям и никогда не стану огорчать Тебя!
Бог услышал мою молитву.
Однажды пришел к отцу соборный дьякон, принес сапоги в починку. Увидев меня, он спросил:
– Что это тебя, отроча, в церкви не видать?
За меня ответил отец:
– Стесняется после своей незадачи на клиросе. А служить-то ему до страсти хочется!
Дьякон погладил меня по голове и сказал:
– Пустяки! Не принимай близко к сердцу. Я раз в большой праздник вместо многолетия вечную память загнул, да никому другому, а Святейшему Синоду! Не горюй, малец, приходи в субботу ко всенощной, в Алтарь, кадило будешь подавать. Наденем на тебя стихарь, и будешь ты у нас церковнослужитель! Согласен?
Через смущение и радостные слезы я прошептал:
– Спаси Господи!
И вот опять я сам не свой! Перед отходом ко сну стал отбивать частые поклоны, не произносил больше дурных слов, забросил игры и, не зная почему, взял с подъиконника дедовские староверческие четки – лестовку и обмотал ими кисть левой руки, по-монашески.
Увидев у меня лестовку, Гришка стал дразнить:
– Э… монах в коленкоровых штанах!
Я раззадорился и хотел дать ему по спине концом висящей у меня ременной лестовки, но вовремя вспомнил наставление матери: «Да не зайдет солнце во гневе вашем».
Наступила суббота. Умытым и причесанным, в русской белой рубашке, помолившись на иконы, я побежал в собор ко всенощному бдению. Остановился на амвоне и не решился сразу войти в Алтарь. Стоял около южных дверей и слушал, как от волнения звенела кровь.

Ко мне подошел сторож Евстигней.
– Чего остановился? Входи. Дьякон сказывал, что пономарем хочешь быть? Давно бы так, а то захотел в певчие!.. С вороньим голосом-то! А здорово ты каркнул тогда за обедней, на клиросе, – напомнил он, подмигнув смеющимся глазом, – всех рассмешил только! Регент Егор Михайлович даже запьянствовал в этот день: всю, говорит, музыку шельмец нарушил. Из-за него, разбойника, и пью! Вот ты какой хват!
Я не слышал, как вошел в Алтарь. Алтарь, где восседает Бог на Престоле, и по древним сказаниям, днем и ночью ходят со славословиями Ангелы Божии, и во время литургии всблескивают над Чашей молнии, грешному оку невидимые… Я оцепенел весь от радости, – радости, не похожей ни на одну земную. В ней что-то страшное было и вместе с тем светлое.
– Ну, приучайся к делу! – сказал сторож.
– Вот это уголь, – показал мне прессованный, хорошо пахнувший кругляк с изображением креста. – Возьми огарок свечи и разгнети его. Это во-первых. Во-вторых, не касайся руками Престола – место сие святое! Далее, не переходи никогда места между Престолом и Царскими Вратами – грех! Не ходи также через горнее место, когда открыты царские врата… Понял?
От спокойного тона Евстигнея и я стал спокойнее.
– А где же мой стихарь? – спросил я. – Отец дьякон обещал!
– Эк тебя разбирает! Сразу и форму ему подавай! Ну и народ, ну и детушки пошли! Ладно. Будет и стихарь, если выдержишь экзамен на кадиловозжигателя!
В это время ударили в большой колокол. От первого удара, – вспомнилось мне, – нечистая сила, «яже в мире», вздрагивает, от второго бежит, и после третьего над землею начинают летать Ангелы, и тогда надо перекреститься.
В Алтарь пришел дьякон, улыбнулся мне: ну и хорошо!
За ним отец Василий – маленький, круглый, чернобородый. Я подошел к нему под благословение. Он слегка постучал по моей голове костяшками пальцев и сказал:
– Служи и не балуй! Все должно быть благообразно и по чину.
Началось всенощное бдение. Перед этим кадили Алтарь, а затем, после дьяконского возгласа, запели «Благослови, душе моя, Господа». Особенно понравились мне слова: «На горах станут воды, дивны дела Твоя Господи, вся премудростию сотворил еси». Когда запели «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом», я перекрестился и подумал, что эти слова относятся к тем, кто служит у Божьего Престола, и опять перекрестился.
Когда читали на клиросе шестопсалмие, батюшка с дьяконом разговаривали. Мне слышно было, как батюшка спросил:
– Ты деньги-то за сорокоуст получил с Капитонихи?
– Нет еще. Обещалась на днях.
– Смотри, дьякон! Как бы она нас не обжулила. Жог-баба!
Я ничего не понял из этих отрывистых слов, но подумал: разве можно так говорить в Алтаре?
После всенощной я обо всем этом рассказал матери.
– Люди они, сынок, люди, – вздохнула она, – и не то, может быть, еще увидишь и услышишь, но не осуждай. Бойся осудить человека, не разузнав его. От суесловия церковных служителей Тайны Божии не повредятся. Так же сиять они будут и чистотою возвышаться. Повредится ли хлеб, если семена его брошены грешником? Человек еще не вырос, он дитя неразумное, ходит он путаными дорогами, но придет время – вырастет! Будь к людям приглядчив. Душу береги. Сострадай человеку и умей находить в нем пшеницу среди сорной травы.
– Держи карман шире! – проворчал отец, засучивая щетину в дратву. – Как я там к людям ни приглядывался, ни сострадал им, ни уступал, а они все же ко мне по-волчьи относились. Ты, смиренница, оглянулась бы хоть раз на людей. Кто больше всего страдает? Простые сердцем, тихие, уступчивые, заповеди Господни соблюдающие. Не портила бы ты лучше мальца! Из него умного волчонка воспитать надо, а не Христова крестника!
Мать так и вскинулась на отца.
– Ты бы лучше оглянулся и узнал: кто стоит за твоей спиною?
Отец вздрогнул.
– Кто?
– Да тот, кто искушал Христа в пустыне! Не говори непутевые слова. Они не твои. Не огорчай Ангела своего. Сам же, когда выпьешь, горькими слезами перед иконами заливаешься. Не вводи ты нас в искушение. А ты, – обратилась она ко мне, – не всякому слуху верь. У отца это бывает. Жизнь у него тяжелая была, ну и возропщет порою. А сам-то он по-другому думает! Последнее с себя сымет и неимущему отдаст. В словах человека разбираться надо; что от души идет, а что от крови!