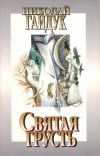Читать книгу "Воспоминания детства"

Автор книги: Василий Никифоров-Волгин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Молитва
Село Струги, где проживает отец Анатолий, – тихое, бедное, бревенчатое – и славится на всю округу лишь густыми сиреневыми садами. Очень давно какой-то прохожий заверил баб, что древо сирень от всякого мора охраняет, – ну и приветили это древо у себя, и дали развернуться ему от края до края.
В сиреневую пору села не видно. Если смотреть на него издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежащее на земле.
В эту пору я ночевал у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его «горе-священником», так как и умом он скуден, и образования маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь.
– Но зато в Бога так верит, – говорили в ответ полюбившие его, – что чудеса творить может!
Меня уверяли чуть ли не клятвою: когда отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собою загораются!
Окна батюшкиной горницы были открыты в сад, на белую ночь, всю в сирени, зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим.
… Отец Анатолий снял с себя заплатанный подрясник и облекся в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился. Расчесывая гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье.
Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег огарок свечи и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою стал затеплять перед иконами все лампады.
Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто тише, хотя пели соловьи.
И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения на колени отца Анатолия.
Он приник головою к полу и минут десять лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднял лицо к Нерукотворному Спасу – большому черному образу посредине – и стал разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее:
– Опять обращаюсь к Твоей милости и до седьмидесяти седьмин буду обращаться к Тебе, пока не услышишь меня, грешного священника Твоего!..
Подними с одра болезни младенца Егорку!.. Ему, Господи, семь годков всего… Пожить ему хочется… Только и бредит лугами зелеными да как он грибы пойдет собирать, и как раков ловить… Утешь его, мальчонку-то! Возьми его за рученьку! Обними его, Господи, Господи, Господи!.. Один он у родителей-то… Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает!..
– Господи! Как мне легко помыслить о Воскресении Твоем, так и Тебе исцелить младенца! Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца!

Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом и стоном выговаривал слова:
– Помоги… исцели… Егорку-то!.. Младенца Георгия!..
Он протянул вперед руку, словно касался края ризы Стоящего перед ним Бога.
Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужичка, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное Его сияние…
Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий положил три земных поклона и как бы успокоился.
Несколько минут стоял молча, изможденный и бледный, с каплями пота на сияющем лбу.
Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, уже тише, но с тем же упованием и твердостью:
– Аз недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя неоднократно спасти от зловредного винопития раба Твоего Корнилия… и паки молю: спаси его! Погибает он! Жена его плачет, дети плачут… Скоро в кусочки они пойдут… Не допусти, Господи! Подкрепи его… Корнилия-то!
Прости такожде раба Твоего Павлушку… т. е. Павла. Павла, Господи! Я все это Тебе по-деревенски изъясняю… Огрубел язык мой… Так вот, этот Павлушка… по темноте своей… по пьяному делу песни нехорошие про святых угодников пел… проходя с гармошкой мимо церкви, плевался на нее… Ты прости его, Господи, и озари душу его!.. Он покается!
И еще, Господи, малая докука к Тебе… Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова… Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить, а то моя-то совсем обветшала… в заплатках вся… Благослови его, Милосердный… Он добрый!
О чем же еще я хотел молить Тебя? Да. Вот, урожай пошли нам хороший… и чтобы это травы были… и всякая овощь, и плод… А Дарья-то Иванникова поправилась, Господи! Благодарю Тебя и воспеваю пречестное имя Твое!.. Три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется!
Вот и все пока… Да!.. Еще вот, спаси и помилуй гостя моего здесь лежащего раба Твоего Василия… Ему тоже помоги… Он душою мается…
И еще спаси и сохрани… раба Твоего… как это его по имени-то?
Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем.
– Ну, как же это его? Вот память-то моя стариковская!.. Да, вот этого… что у Святой горы проживает… и пчельник еще у него… валенки мне подарил… Добрый он… Его все знают… Борода до пояса… у него… Ну, как же это его величают? На языке имя-то!..
Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал Ему:
– Ты его знаешь, Господи! Ты всех знаешь… Прости меня, Милосердный, за беспокойство… Тяжко, поди, Тебе, Господи, смотреть на нас, грешных и недостойных?
Отец Анатолий погасил лампады, оставив лишь гореть одну, перед Нерукотворным Спасом.
Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул:
– Спит человек!.. А спать-то пошел, видимо, не помолившись… Эх, молодость! Ну что тут поделаешь?… Надо перекрестить его… Огради его, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста и спаси его от всякого зла…
Дорожный посох

Первая часть
Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно выразится, не может вообразить душа моя – она скорбит только смертельно!
… Я примечаю, что временами темнеют иконы. Запрестольный образ Христа неведомо отчего стал черным и гневным. Старики сказывали, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот, и в природе беспокойно… Когда выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше не примечаемый шум. Сны стали тяжелыми. Все пожары да разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении, в страхе бегущим по диким ночным полям, со Святыми Дарами в руках, а за мною гнались с длинным степным свистом косматые мужики в древних языческих рубахах.
За последнее время до горькой тоски стал людей жалеть! Так вот и чудится, что все мы на росстани-пути стоим, и скоро не увидим друг друга.
А может быть, все это беспокойство – моя болезненная мнительность?
Дал бы, Господи!..
Хотя… сказывала мне матушка, у меня в детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал и даже смерть близких моих предугадывал.
Навечерие Богоявления Господня. Идет снег, засыпая тихим упокоением наше селение. Только что совершил чин Великого освящения воды. При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. Помог бы Господь струями иорданскими омыть потемневшее лицо земли. Много стало скверны в жизни. Замутились от скверны реки Божии…
Завтра начну свою проповедь словами: «Мир, как книга из двух листов. Один лист – небо, а другой – земля. И все вещи в мире суть буквы». Осквернили мы Великую книгу Божию…
По народным сказаниям, сегодня ночью на речные и озерные воды сойдет с неба Дух Божий и освятит воду, и она всплеснется подо льдом. Наши старики пойдут с ведрами за полунощной водой, креститься будут на нее, а завтра, после обедни, зелено вино в ратоборство со святою водою вступит… Много греха всякого будет…

Господи! Избави землю твою от глубокия нощи!..
При пении «Глас Господень на водах» мы пошли Крестным ходом на Иордань. Было сумеречно от тяжелых метельных туч. Под ногами скрипел мороз. Любо глядеть, когда русский народ идет в Крестном ходе и поет! Лицо у него ясное, зарями Господними уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы освятили наше озеро. С какой светоносной верою русский человек пил освященную воду, мылся ею, сосуды наполнял – дабы в смертный час испить ее как Причастие!
Когда возвращались обратно, то началась метель. Что-то древнее, особенно русское, было в нашем заметеленном Крестном ходе. Ветер трепал старые хоругви. На иконы падал снег. Все мы были убеленными. Метель, и наше церковное древнее пение!.. Так хорошо… и особенно трогал желтый огонек несомого впереди фонаря…
До самого позднего вечера я ходил по избам «со славою» и освящал паству свою богоявленской водою. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и смертоубийство?
Ночью разболелась у меня голова. Я вышел на крыльцо. Метель вошла в полную свою силу. Тревожно было слушать завывы ее.
– Не попусти, Господи, очутиться кому-либо в поле или на лесных дорогах!
Звонари наши загуляли. Пришлось самому подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути находящимся…
Звонил долго и окоченел весь. Перед тем, как сойти с колокольни, долго смотрел на метель… Не прообраз ли она того грозного, что идет на русскую землю?
Доктор качал головою: да разве мыслимо, отец Афанасий, с вашими-то легкими на мороз да на вьюгу выходить? Все тревожились за меня. Сказывали, что смерть у изголовья стояла, но улыбнулся мне Христос и озарил чашу мою смертную…
Когда здоров священник и горя он не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ: насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет, но заболей священник – народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, помочь ему… Одинокий он, русский человек, и только священник еще «отцом» ему является… Хоть и недостойным зачастую, но все же родным и нерасстанным… Вот и со мною то же: когда здоров был, то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел тяжко – плакали навзрыд, молились, руки мои целовали.
Весь мир для меня стал теперь теремом Божьим. Все хорошо. Все разумно. Все светло. Вот что значит болезнь! На стол упало солнышко. Я положил на него руки и очень радовался – жизнь жительствует!
В первый раз я вышел на воздух. По снегам март ходит, а за ним воробьи вприпрыжку. Ах, уж эти воробьи! Хорошие они птицы! Радуют и умиляют ребячеством своим, неунывностью, вседовольностью! Хороша земля Божья. Скоро весна наступит, и по образному выражению народа нашего, зачнет она милому рубашки вышивать, разными-то цветами, травами, узорчатыми листами. Приневестит она землю в новую вышитую рубашку. Будет земля в новой рубашке ходить!
Дьякон Захарий меня под руки поддерживает, и вижу, душою чувствую, любо ему, что я с одра болезни восстал! Смотрю в широкое усветленное лицо его и думаю: вот бы и всегда так, ходили бы люди по земле Божьей, друг друга поддерживая и улыбаясь… этак тихо, из самой глубины сердечной…
Нехорошо священнику о земном думать, но сегодня подумал и загрустил: как бы радовалась моему выздоровлению покойная супруга моя!.. Она бы сегодня меня под руку поддерживала… Оба мы с нею мечтатели, и обязательно вспомнили бы, как ходили юными по Москве, поднимались на Воробьевы горы и слушали московский великопостный звон. В предвесеннюю пору всегда вспоминается юность, наше невесто-неневестное.
Да, не может человек носить в себе полную незамутимую радость!
Великий Пост. Таинство исповеди. Тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике: разрешать грехи человеческие! На многих и многих необходимо, по святым правилам нашей церкви, наложить тяжкую эпитимию, но не могу я! Нет во мне суровости, да и жалко кающегося русского человека.
Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния! Только мы способны заплакать словами канона Андрея Критского: «Погубив первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг, и стыждуся».
Побежали ручьи. После «Великого повечерия» я ходил гулять в лес и сорвал несколько красных прутиков вербы. Все очарование весны в этих красных зоревых прутиках! Когда помирать буду, то, наверное, они только и вспомнятся от всего того, что пригрезилось на земле.
… А леса-то наши вырубают! Кругом села такие были заповедники, такая чащоба, сколько птиц и зверей было, а теперь пустыри… Примечаю я: чем больше природы уничтожается, тем хуже на земле становится, и лик человека утрачивает свою ясность.
Над природой человек озоровать стал! Так и норовит разорить ее, растоптать, власть и силу над нею показать. Сколько было случаев, когда ради озорства выжигались многоверстные леса, убивали зверя и птицу. Пугливо стала смотреть природа на человека… Не произошла бы от этого великая скорбь!
В кануны Страстной седмицы я обходил избы своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что-то особенно стал тревожиться за человеческую душу. К чему-то ее приуготовить хочется, укрепить. Все кажется, что великим соблазнам она будет подвергнута. Приду в избу и скажу: на огонек к вам пришел! Все радовались приходу моему. Поставят самовар, сядут ко мне поближе, и зачну я беседовать с ними… Любо глядеть на лица крестьян, при скудном свете керосиновой лампы слушающих слова Божии!
Одинок русский человек, очень одинок! Утешитель ему нужен. В России обязательно должны быть монастыри и старцы печальники… Без них некуда деваться беспокойной душе нашей!.. Не от одиночества ли нашего и все скорби, и туга душевная, и надрыв, и грех?
На Страстной неделе деревня на монастырь похожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, братолюбивы и уступчивы. Даже озорники и отпетые держут строгий Пост. Гляжу на них и опять верю: не отречется от Христа народ русский! Пойдет к Нему, все Ему расскажет, покается и сядет у ног Его…
Я вышел на крыльцо. Тихие весенние сумерки. Сумерки предпасхалья. Ветер апрельский. Вспомнились мне трогательные слова Чехова: «Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре». Никогда такой близкой не кажется русская земля, как в пору таяния снега, в сумерках, при ветре. За последнее время она особенно почему-то ненаглядна, словно уйти куда-то хочет от меня…
Сижу сейчас один у пасхального стола и думаю: отчего грустно мне в эту спасительную и светоносную ночь? Почему опять тревожит мысль, что все мы на росстани-пути стоим, и скоро не увидимся друг с другом.
Троекратным лобызаньем целовал в уста пасомых своих, и хотелось плакать. Особенно грустно было смотреть, как шли они по весенним размытым дорогам с узелками освященных куличей, светло, по-Христову улыбаясь друг другу. Вот, думаю, сейчас скроются и никогда больше не придут сюда, на радостную Христову вечерю.
А может быть и впрямь у меня что-то болезненное?… Дал бы Господи!
Солнце заливает землю. Яблони в полном цветении. Глаз не нарадуется дивному благолепию весны. Кто-то очень хорошо сравнил двенадцать месяцев года с двенадцатью учениками Христа. Май месяц – это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик.
Я сижу на солнышке и листаю псалмы Давида. На мое плечо и на страницы книги падают лепестки яблонь. И так кстати открылись мне слова Псалмопевца о солнце:
«Небеса поведают славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь. Он поставил в них жилище Солнцу… От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его».
От этих слов, или от вешней красоты я не мог не перекреститься и не воскликнуть:
– Господи! Да приидет Царствие Твое!
– Вот бы скорбь людскую изжить! Радость на земле насадить! Жития безмятежного достигнуть!
Лето стоит знойное. Во многих местах горят леса. Солнце застилается дымом. Свет стоит тревожный, словно апокалипсический. По ночам вспыхивают гневные сухие молнии.
Ползают темные приглушенные слухи…
Старик Кирик сказал мне сегодня, что он приникал к земле ухом и слышал, как гудит земля:
– К беде это, батюшка!
Деревенский дурачок Сема ходит по деревне и во все горло распевает пугающую песню:
Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной,
Иль мою погибель чуешь, да э-эх!..
Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным взвизгом: «Э-эх!..»
Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не приникнуть ухом к земле – послушать, гудит ли она?
А может быть, это мое сердце гудело?
Я проснулся с великим криком. Во сне привиделось мне, что Господь покидает землю… Я встал с постели и никак не мог успокоиться.
Горница моя озарялась сухими молниями. Я подошел к окну и долго смотрел на потемневшую землю. Меня стал охватывать страх. Пал перед иконами на колени, но молитва не успокоила:
– Неужто Он не слышит?
Среди ночи я побежал в церковь. В Алтаре затеплил семисвечник и до самого утра простоял перед престолом. Мне стало легче.
Объявлена война.
По всей Руси панихиды служат. Помянники все гуще и гуще заполняются именами убиенных воинов. Душа подвига ищет. Все свое имущество я р¹оздал осиротевшим. Смотрю сейчас на прохладную пустоту своих комнат и думаю: нет выше блага, как отречение от вещей. Верно сказано: кто приобрел себе одну фарфоровую чашку, то он уже не свободен.
Не хочется мне и дома своего. Завтра прибудут беженцы из военной полосы. Поселю их у себя, а сам в бане притулюсь.
Очень остался доволен самим собою, но потом стыдно стало: несовершенные и себялюбивые мы натуры! Не умеем творить добро без оглядки, без упоения самим собою! Далеко еще нам до совершенного, светоподательного подвига!
Банька у меня ладная, укромная, из свежих душистых бревен. Зимою тепло в ней будет. Затеплил лампаду, и стало так утешно, словно Сам Христос пришел ко мне в гости и сидит на деревенской лавочке.
Пришивал я пуговицу к своей рясе и думал: хорошо жить под низкими потолками! Тишины на сердце больше!..
Да, опять я доволен, опять самообольщаюсь, опять впадаю «в духовную прелесть». Мало над собою работаю.
Земля волнуется. Народ тревожится. Вокруг меня горя – непочатый край. Жмутся ко мне люди. Утешения ищут. До поздней ночи сижу я с народом своим и слушаю тревоги их и скорбь. Все горе большое носят. «Вси в житии крест, яко ярем вземшии». Посмотришь на них, сказать что-то хочешь в утешение, но вместо слов опустишь голову и молчишь…
Большое горе стряслось над нами, но сердце накликает еще что-то грозное и страшное.
– К каким же еще испытаниям ведешь Ты, Господи, народ русский?
Вторая часть
… Наша деревенская коммуна началась с того, что на кладбище стали гулянки устраивать, парни сбросили с колокольни большой колокол, а в моей баньке стекла выбили. Алексей Бахвалов поджег часовню при дороге. Кузьма икону Владычицы топором разрубил и в горящую печь бросил. По ночам стреляют из ружей и пистолетов.
Я хожу из избы в избу. Утешаю, увещеваю, молюсь. Поздно вечером меня подкараулили, напали и тяжко избили. Три дня не выходил на улицу. Весь в повязках лежал.
… Голод. С превеликим трудом доставали горсточку муки для просфор. Литургийный хлеб стал теперь ржаным – почернело Тело Христово…
Служил сегодня литургию. Церковь была переполнена голодными. Матери принесли на руках голодных детей и не могли держать их от слабости. Они укладывали их на пол, под иконы. Глядя на детей, все плакали. В церкви умер четырехлетний сынок кузнеца Матвея. Многие в церкви лежали пластом – так были слабы.
Я причащал голодных детей и еле сдерживал в руке Чашу Христову… Страшно смотреть на голодного ребенка. На клиросе упал с голодухи псаломщик. Дьякон с жадностью смотрел на служебные просфоры. Детям давали по кусочку просфоры. Они проглатывали его и тянули ручонки за другим:
«Дай хлебушка, батюшка, дай ради Христа!»
Перед окончанием литургии я вышел говорить проповедь. Взглянул на эти опухшие от голода лица, на голодных детушек, положенных матерями под иконы небесных заступников, и на этого мертвенького младенца, лежащего на скамейке, – не выдержал я: заплакал, упал перед народом на колени и ничего сказать не мог! Мы только плакали и кричали, что есть сил: Господи, спаси! Матерь Божия, заступи!
В ночь на 20 ноября замутившиеся души сожгли наш храм.
Мне Господь помог неврежденно пройти через пламя в Алтарь. Удалось спасти антиминс, запасные дары и несколько служебных книг. Чашу Господню не мог спасти. Она была объята пламенем.
Друзья мои упреждают: «Беги, батюшка, от греха! Убить тебя хотят!» Я никуда не убегу. Господь защититель живота моего, да не убоюся! Сейчас размышляю: где бы разложить священный антиминс и начать совершение Святых Христовых Тайн?
В нашем лесу стоял барский охотничий теремок. Этот теремок мы превратили в Дом Божий.
Пасомые мои принесли сюда иконы, лампады повесили. Из свежего лесного теса сделали иконостас, престол и жертвенник. Сшили мне из добротных деревенских мешков ризу. Столярный искусник Егорушка сделал деревянную чашу и даже вырезал на ней по-славянски слова: «Чашу спасения прииму, и имя Господне призову».
Идет народ, идет за многие десятки верст в Божий наш теремок за утешением. Места не хватает. Стоят под небом. До поздней ночи я исповедаю их, беседую с ними и утешаю. Сейчас глубокая морозная ночь. Молодежь с песнями и руганью проходит по деревне. Вот они к моей баньке приближаются. Вот остановились. Комом снега в окно запустили.
А меня все время упреждают: «Беги, батя, покуда жив! Злобятся на тебя. Врагом народа объявляют».
Будь что будет.
Мне сказали, что в городе приказ подписан арестовать меня как мятежника и возбудителя народных масс.
Пришли ко мне в метельную ночь.
– Сряжайся, батя, поскорее! Едем!
Я им в ответ:
– Не поеду, други! Совесть пастырская не дозволяет!
Тут уж они силою заставили меня одеться. Уложили в саквояжик бельишко мое, книги и прочее. Все мои мольбы были яко сеяние зерен на камне. Меня не слушали, а только понукали.
Ничего поделать с ними не мог. Взял я антиминс с божницы, дарохранительницу и Евангелие. Усадили меня в деревенский возок и тронули.
Поселили меня в маленьком речном городке в домике сапожника Саввы Григорьевича Ковылина. Стал я обучаться сапожному ремеслу.
Сидим мы с Саввой Григорьевичем «на липках» и беседуем на тихие душевные думы, а по вечерам Священное Писание читаем и молимся. Истовый и светлодушный он старик, от смолевых, древнерусских истоков! Жизнью своею словно икону Спасителя пишет. По субботам и воскресеньям приходят к нему сродственники и хорошие благочестные люди. В задней боковуше, окном на пустырь, совершаем богослужение. Про меня узнали. Потайно приносят ко мне младенцев для Крещения, приходят венчаться, каяться и причащаться. До моего прибытия сюда городское духовенство великим уничижениям и гонениям подверглось. Одних выслали на Соловки, а иных с большими мучениями предпослали в вечное жилище. Во время литургии у одного из священномучеников вырвали из рук Чашу и расплескали по полу Кровь Христову, а священника вывели в ризах на площадь и в ризе же на фонарном столбе повесили. В селе Дубнах однокашника моего по семинарии священноиерея Димитрия штыками ослепили.
Сегодня совершил я необычный чин отпевания. Приходит ко мне старуха. Вся в слезах.
– Отпой, батюшка, сына моего, богоотступника! Убили его!
– Где же почивший? – спрашиваю.
– Там, батюшка, у них… В народном доме лежит. Тебя туда не допустят. По-граждански его хоронят, с музыкой и песнями… Он ведь комиссаром состоял…
– Как же я отпевать стану?
– Отпой его, голубчик, заочно… у себя в боковуше! Дай душе его благословение…
Плачет старуха, Христом Богом молит. Стал отпевать.
… Мимо окон везут мертвого комиссара, с музыкой, а я читаю ему вслед: «В вечных Твоих селениях упокой душу усопшего раба Твоего в месте Светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже обеже болезнь, печаль и воздыхание».
Стал я заправским сапожником. Пошли у нас дела с Саввой Григорьевичем складно да ладно.
«Ночная паства» моя росла, и в боковуше становилось тесно.
В городе не прекращались расстрелы…
Однажды ночью к нам постучали. Открыли. Входит комиссар Ахтыров. Обращается ко мне:
– Пойдем со мною, батюшка!
Я приготовился к смерти. Савва Григорьевич белее снега стал. Комиссар успокаивает:
– Не бойтесь, отцы! Я затем пришел, чтобы батюшка сына моего окрестил в потайности… а то он не выживет!..
Сегодня было у нас совещание. Мы решили из боковуши перебраться в лес (а леса здесь хорошие, затаенные, с глубокими чащобами). Недавно одному из наших посчастливилось найти здесь глухую пещеру. Ночью пошли к этому месту. До самого рассвета приводили ее в благолепный вид. Тайком принесли сюда иконы. Будущая церковь наша сокрыта черными вековыми елями – лучшего места не найти! Условились мы ходить на молитву разными путями и в одиночку, памятуя слова Христа: «Блюдите, како опасно ходите».
Первая молитва в лесной пещерной церкви!.. Свечей у нас не было. Горела лучина. После «Хвалите» я запел величание преподобному Сергию, ибо только Он вспомнился при горящих лучинах! Всем народом мы пели: «Ублажаем, ублажаем тя, преподобие отче Сергие, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов». По самую заночь я принимал исповедь собравшихся…
После ночной молитвы я долго гулял по лесу. Издали послышался нутряной смертный крик и вслед за ним несколько ружейных залпов… Я присел на поваленном дереве.
Как малое дитя, спрашивал душу свою: почему так страшен человек? Разве нельзя жить без этих ночных криков и выстрелов?
Шума тревоги больше не слышу. Тихо стало и притаенно. Иконы стали светлыми. Сказывают, купола на многих церквах обновляются! К чему сие? Что значит этот Господень знак?

Наступил рождественский Сочельник. Весь он в снежных хлопьях. На земле тихо. Хочется грезить, что ничего страшного на Руси не произошло. Это только нам приснилось, только попритчилось… Все мы сегодня, как встарь, запоем «Рождество Твое, Христе Боже наш» и во всех домах затеплим лампады…
Но не долго пришлось мне грезить. Мимо окон повели бывшего городского голову, директора гимназии, несколько человек военных, юношу в гимназической шинели, девушку в одном платьице, простоволосую. Седого сгорбленного директора подгоняли ружейными прикладами. Он был без шапки, а городской голова в ночных туфлях.
Сердце мое заметалось. Я вскрикнул и упал.
… Очнулся я к самому вечеру. Савва Григорьевич долго приводил меня в чувство.
– Как же ты, батюшка, служить сегодня будешь? Посмотри в зеркало, ты мертвому подобен! Что это с тобою произошло?
Я ничего не сказал. Помолился, попил святой воды, частицу артоса вкусил и стал совсем здоровым.
В ночь на третье января к нам постучали.
– Беда, батюшка! – воскликнули вошедшие. – Завтра хотят из собора все иконы вынести, иконостас разрушить, а церковь превратить в кинематограф. Самое же страшное: хотят чудотворную икону Божьей Матери на площадь вынести и там расстрелять!
Рассказывают и плачут.
Меня охватила ретивость. По-командирски спрашиваю:
– Сколько вас тут человек?
– Пятеро!
– Так… Ничего не боитесь?
– На какую угодно муку пойдем! – отвечают гулом.
– Так слушайте же меня, чадца моя! – говорю им шепотом. – Чудотворную икону мы должны спасти! Не отдадим ее на поругание!
Савва Григорьевич все понял. Молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долото и молоток. Перекрестились мы и пошли…
На наше счастье, Владычица засыпала землю снегом. В городе ни одного фонарика, ни голосов, ни собачьего лая. Так тихо, словно земля душу свою Богу отдала. К собору идем поодиночке. Я вдоль заборов пробираюсь. Наши уже в соборной ограде. Тут же и лошадка приготовлена. Нас оберегают старые деревья, тяжелые от снега. Оглянулись. Перекрестились. Один из наших по тяжелому замку молотом звякнул – замок распался. Прислушались. Только снег да наше дыхание. Мы вошли в гулкий замороженный собор. Из тяжелого киота сняли древнюю икону Богоматери. Положили ее в сани, прикрыли соломой и благословясь, тронулись к нашей пещерной церкви. Сама Пресвятая лошадкой нашей правила. Ехали в тишине. Никого не повстречали. Снег заметал наши следы.

К пещере несли Ее на руках, увязая в глубоких сугробах. Я раздумно вспоминал:
– Не так ли и предки наши уносили святыни свои в леса, в укромные места, во дни татарского нашествия на Русь?
В городе слух пошел о чуде – Владычица покинула собор! Да, воистину чудо! Ибо только сила Божия помогла нам спасти древнюю святыню русскую.
Около собора днем и ночью толпился народ. Его разгоняли ружейными залпами. Народ ощеривался и выходил из себя.
Когда из собора выносили иконы и бросали их на мостовую, произошла рукопашная. Народ с криком набрасывался на кощунников, вырывал у них иконы, а те, размахивая ручными гранатами, вопили:
– Ра-а-с-хо-дись, а то сейчас бабахнем!
Когда в соборе все было очищено, там устроили пьянство с песнями и музыкой. Сказывали, что Чаша Господня, наполненная водкой, обносилась «в круговую». Молодежь волочила по улицам иконы и распевала:
Эх, играй, моя двухрядка,
Против Бога и попов.
На пустыре Савва Григорьевич нашел икону преподобного Серафима Саровского, изрешеченную пулями.
Много горьких дорог прошло с того времени, когда мне вновь удалось найти свои записи и склониться над ними.
…Недолго пришлось нам собираться в подземной церкви. Нас выследили. На Крестопоклонной неделе, во время выноса Креста, пред нами предстали они…
Два рослых, дурно пахнувших солдата, с заломленными на затылок папахами, с неумолимыми дикими руками тяжело подошли и связали меня веревками. Мне не дали снять с себя ризы – так и повели в полном священническом облачении. Паству мою, по счастью, не тронули, и она сопровождала меня со слезами и стенаниями. Пробовали защитить меня, но им угрожали ручными гранатами. Меня тревожила мысль: догадаются ли пасомые мои спасти чудотворную икону Богоматери? Тревога моя, видимо, передалась Савве Григорьевичу. Он издали, из темноты, крикнул мне:
– Не беспокойся!..
Легко мне стало, словно Бог возглаголал из лесной чащи.
В одном месте, на леденице, я поскользнулся и упал. Солдаты засмеялись, не помогли мне подняться, а схватились за край веревки и с песней «Эй, дубинушка, ухнем» волоком потащили меня по земле.
Я весь избился и окровянился. Потом они пожалели меня и подняли.
Поздно вечером привели к следователю. Я встал около письменного стола. Следователь писал и не смотрел на меня.
У него были сверкающие белые руки. Лицо румяное, молодое и как будто простодушное. Все обыкновенное, человеческое, если бы только не уши… Пепельно-лиловатые, широкие, они свисали наподобие тряпок, закрывая ушную раковину.
Прошло минут двадцать, но он все еще не поднимал на меня глаз. В кабинете, освещенном душным светом электрической лампочки без абажура, было тихо. Только два звука было слышно: сухое шуршание пера и влажное падение на паркетный пол кровяных капель с моих избитых о гололедицу рук.