Читать книгу "Марфа Васильевна. Таинственная юродивая. Киевская ведьма"
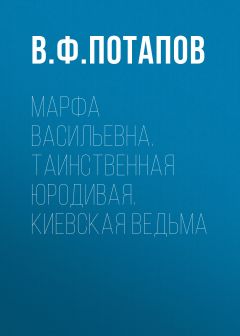
Автор книги: Василий Потапов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
В. Ф. Потапов
Марфа Васильевна. Таинственная юродивая. Киевская ведьма
© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
* * *
Марфа Васильевна
Часть первая
Благословите, братцы, старину сказать.
Сахаров
Глава I
Ладога. – Сын наместника. – Тайна. – Признание. – Первая любовь.
Прелестное летнее солнце совершило бÓльшую половину пути своего, и огненные его лучи, предвещая хорошее утро, догорали на разноцветных окнах теремов боярских. День клонился к вечеру. Благочестивые жители Ладоги тихо возвращались домой от вечерней молитвы; девушки, поджавши руки, чинно сидели на скамьях подле тесовых ворот, разговаривая между собою и улыбаясь изредка молодым парням, которые, проходя мимо, приветливо им кланялись. (Это было в последних числах июля 1571 года.) Улицы мало-помалу начинали пустеть, как к дому наместника подъехал всадник. Это был молодой человек, по-видимому, с небольшим двадцати двух лет: красивые черты лица изобличали благородство его происхождения; русые волосы, щеголевато подстриженные, вились природными локонами; небольшая бородка, пробираясь по нижней части лица, едва захватывала подбородок; томные глаза горели необыкновенным огнем; на белом лице его играл румянец молодости, который противоречил желтым впалым физиономиям петиметров нашего времени. На нем было короткое зеленое полукафтанье из тонкого фряжского сукна, сверх которого накинутый небрежно охабень[1]1
Охабень – верхняя одежда с длинными рукавами, которая обыкновенно надевалась нашими предками сверх полукафтанья.
[Закрыть] рисовал стройный стан юноши, малиновая, опушенная соболем, шапка покрывала его голову. Это был Иоанн, сын ладожского наместника.
Соскочивши с коня, молодой человек подошел к воротам и несколько раз ударил железным кольцом о медную бляху; вскоре на дворе послышались шаги, и высокий, сухощавый мужик отворил калитку. Иоанн, отдавши лошадь привратнику, в темноте вбежал через высокое крыльцо в сени и потом, тихо отворив дверь, вошел в довольно просторную светлицу. Около стен светлицы тянулись широкие дубовые скамьи; в переднем углу в большом киоте сияли иконы, унизанные жемчугом и дорогими камнями; под киотом висела алая бархатная пелена, шитая золотом; пред иконами горело несколько серебряных лампад. За дубовым столом, покрытым дорогою скатертью, сидел старец в богатом парчовом полукафтанье; правая рука его подпирала украшенную сединами голову; глаза были устремлены на большую книгу в кожаном переплете, которая лежала перед ним на столе. То был почтенный и всеми уважаемый наместник Ладоги.
Когда Иоанн вошел в светлицу, старик слабым голосом произнес: «Господи! да не яростию Твоею обличиши мя, ни же гневом Твоим накажеши мя!..» Увидев сына, он оставил чтение. Иоанн, сбросивши охабень, набожно помолился иконам, почтительно поцеловал руку отца и безмолвно сел на скамью.
– Давно, Иоанн, давно я не видал тебя… – сказал наместник ласковым голосом, сквозь который явно просвечивала искра упрека.
– Батюшка! – начал юноша дрожащим голосом. – Батюшка, я виноват пред тобою, очень виноват!
– Имей терпение, сын мой, выслушать меня! Мне давно хотелось поговорить с тобою о многом. – Старик остановился на несколько минут, как бы желая собраться с мыслями, и потом продолжал: – После смерти твоей матери ты один был мне утешением в горестном одиночестве; все мои надежды, все желания, все радости я полагал в одном тебе; я лелеял тебя, как нежный цветок, привезенный из восточных стран; хранил, как драгоценный перл, в сравнении с которым ничтожны все сокровища мира, и надежды мои оправдались: ты был добрым, послушным сыном; мою волю почитал ты священным для себя законом; ты радовался, когда я был весел, а в грустные минуты мешал свои слезы с моими слезами. Суди же, каково мне было лишиться такого сына!.. – Старик отер выкатившуюся слезу. – С некоторого времени обыкновенная веселость твоя пропала: все, что прежде тебе нравилось, что занимало, – все тебе наскучило; ты убегаешь от людей, убегаешь от меня… Неужели на душе твоей лежит ужасное преступление, которое ты страшишься открыть? Или ты уже не уверен более в любви моей? Разве сердце отца было когда-нибудь для тебя закрыто? Разве твои горести были иногда для него нечувствительны? разве он недостоин твоей доверенности?.. О, Иоанн, Иоанн! Ты разлюбил меня!
– Батюшка! – сказал юноша, потупив глаза. – Батюшка! Я огорчил тебя! Чувствую, что недостоин любви твоей и своею недоверчивостью оскорбил священные права родителя; но успокойся, будь уверен, что я никогда не переставал любить тебя, а душа моя так же чиста, как пламенна любовь к тебе. Выслушай и потом будь судьей моим. Уже скоро год тому, как я в последний раз, по твоему приказанию, ездил в Новгород с грамотою к дяде и прожил там против обыкновения гораздо долее; этому были особенные причины: привыкнув всегда находиться вместе с тобою, я по приезде туда скучал, и если бы ласки доброго дяди не обязывали меня послушанием – я тотчас бы полетел назад, в Ладогу. Таким образом, живя в Новгороде против желания, я находил отраду только в том, что ежедневно ходил в Софийский храм, где мог думать о тебе и молиться за тебя, родитель мой! Однажды, по обыкновению моему, я отправился в собор; день был праздничный, и народ толпами стекался со всех сторон; мимо меня прошла какая-то незнакомка под покрывалом, сопровождаемая старухою. Хотя я не видал ее лица, но какой-то невольный трепет пробежал по всему моему телу, какой-то тайный голос шептал мне: вот она, вот та, которая должна быть спутницею твоей жизни; люби ее… и я уже любил… Незнакомка остановилась перед иконою Спасителя, начала молиться и в это время откинула покрывало. Родитель мой! Не требуй от меня объяснения тех чувств, которые волновали мою душу. Незнакомка была невыразима: небесные глаза, обращенные на образ Спасителя, щеки, которые горели необыкновенным румянцем, движение розовых губ, которые произносили молитвы, слезы, которые, подобно перлам, сверкали на ее ланитах, все, все окружало ее каким-то величием; я не сводил глаз с нее и не скрою от тебя, родитель мой, что впервые в жизнь мою не слыхал божественного пения и забывал молиться. Обедня кончилась, и красавица, которая в продолжение божественной службы не обращала ни на кого внимания, выходила вон из церкви, сопровождаемая старухою. В это время глаза наши встретились, и, может быть, этот взор высказал бы многое; но тут старуха шепнула незнакомке что-то на ухо, щеки ее зарделись румянцем, покрывало упало, и они удалились. Боясь оскорбить ее, я не смел следовать за нею, но я видел, что черные пламенные глаза ее сквозь воздушный покров устремлялись часто на меня… В первый воскресный день, лишь только Софийский колокол возвестил утреннюю молитву, я был уже в храме; незнакомой красавицы там не было. He сводя глаз с дверей, под каждым покрывалом я думал увидеть ее, но тщетно: обедня кончилась, а ее не было. Грустный, с растерзанною душою, я удалился из храма. В продолжение нескольких дней напрасно искал я предмета любви моей, и день ото дня тоска более и более овладевала моим сердцем. Однажды, возвращаясь домой после обыкновенной своей прогулки, я был выведен из задумчивости смешанным говором нескольких голосов; я подошел к плетню сада, мимо которого проходил: несколько девушек играли под развесистыми ветвями серебристого тополя; хороводные песни их прерывались веселым хохотом; но не то занимало меня: между ними я увидел ее, ее, мою прелестную незнакомку; она задумчиво сидела на дерновой скамье и не принимала участия в играх подруг своих; я глядел на нее, я любовался ею, я дышал одним с нею воздухом… чего же еще не доставало для моего счастья?.. Тут одна из девушек увидела меня, со страхом показала в ту сторону; все взглянули, вскрикнули и в одно мгновение разбежались. Но задумчивая красавица осталась неподвижна; она устремила на меня прелестные глаза свои, радость и вместе испуг выразились на лице ее. В одно мгновение я был в саду; незнакомка хотела встать, но я остановил ее.
– Не уходи так скоро, не убегай от меня! – сказал я ей. – Прежде выслушай и после будь судьбой моей; но знай, что одно твое слово или сделает меня счастливейшим человеком в свете, или безнадежным сиротою!.. Так, красавица! Один взор твой решил мою участь: я люблю тебя, люблю более моей жизни! Скажи, захочешь ли принадлежать мне?.. Ты молчишь, ты плачешь. Прости! Я оскорбил тебя, я сделал дурно, необдуманно – прости!
Я хотел идти, но она остановила меня; рука моя невольно обвилась около ее стана, красавица склонила свою голову на грудь ко мне, роковое «да!» вырвалось, и я с розовых губ ее сорвал пламенный поцелуй первой любви.
– Наталья Степановна, Наталья Степановна! – раздался в саду голос; девушка стыдливо опустила глаза.
– Это матушка зовет меня, – сказала она, – прощай!
– Неужели эта разлука будет вечна? Неужели мы никогда более не увидимся? – сказал я. – Неужели ты меня забудешь?
– Нет, нет, никогда! – прошептала она.
– Наталья Степановна! – раздался опять голос близ нас, и я поспешил удалиться из сада.
На другой день в такое же время я был уже у плетня и нашел незнакомку одну на дерновой скамье. После взаимных вопросов и обещаний я узнал, что Наталья круглая сирота, воспитанная Василием Степановичем Собакиным, богатым купцом новгородским. Клятва в верности заключила наше свидание, мы расстались. Вскоре я уехал из Новгорода и уже скоро год, как не слыхал ничего о Наталье; а кто знает, чтÓ могло случиться в это время?.. Вот, родитель мой, причина моей задумчивости. Вот о чем грущу я и чтÓ скрывал в глубине души своей, боясь твоих упреков.
– Иоанн, ты худо знаешь сердце отца, когда не уверен в любви его! – сказал наместник, ласково взглянув на юношу. – Неужели ты думал, что ничтожное честолюбие или звон золота для меня дороже благополучия сына? Вот тебе рука моя – Наталья будет твоею женою, если она еще свободна. По крайней мере скажи: знает ли дядя о любви твоей?
– Нет, батюшка, я скрывал ее до сих пор от всех, как драгоценное сокровище; я боялся открыть людям сокровенные чувства сердца: они не оценили бы их, они не умели бы оценить!
– Страсть ослепила тебя, сын мой! Но не должно быть столь несправедливым. Ты знаешь, дядя твой уже десять лет тысяцким в Новгороде, всеми любим и тебя любит без ума. Поживи недельку со мной и потом, с Богом, поезжай в Новгород; я дам тебе грамоту, и поверь, что дядя устроит твое счастье. Я уже стар, стою одною ногой в могиле и не мне пировать на твоей свадьбе: по крайней мере буду молить Всевышнего, да не лишит Он меня последней радости – увидеть тебя еще раз, умереть на руках твоих, и молодая жена твоя закроет мне глаза!..
Глава IIСиротка Наталья. – Марфа Васильевна Собакина. – Разговор Натальи с мамой. – Еще признание. – Незнакомец. – Суеверие. – Нечистый.
Почитаю за нужное перенести вас мысленно, мои читатели, в Великий Новгород, чтобы познакомиться несколько с героинею моего романа. Наталья, известная в доме купца Собакина под именем сиротки, была дочь псковского купца; лишившись родителей еще в младенчестве, она была призрена крестным отцом своим и воспитывалась вместе с дочерью своего благодетеля, Марфою Васильевною, бывшею впоследствии супругою царя Иоанна Васильевича Грозного. Марфа также лишилась матери в детстве, и потому две сиротки, порученные попечениям мамок, были связаны неразрывными узами дружбы.
Послушаем разговор, который происходил в девичьем тереме между старухою-мамкою и Натальею:
– Да полно же кручиниться, мое красное солнышко, моя белая лебедушка! Погляди, уж ты сама на себя не походишь: пропал румянец с белого личика, потускнели твои очи ясные; все плачешь да грустишь… а по чем? Бог весть! Уж подлинно Господне наказанье, худой человек сглазил; да постой, ужо, как будешь ложиться почивать, я спрысну тебя святой Богоявленской водицей[2]2
Обыкновение спрыскивать Богоявленскою водой, которая богомольными людьми получается в день Богоявления в храме и хранится вместе с Богоявленскою свечою в продолжение всего года, исполняется и по сие время, употребляясь преимущественно от так называемого сглаза. Едва ли кто будет говорить против сего благочестивого обыкновения.
[Закрыть], и все пройдет! – так говорила Пахомовна, старая мамка, своей питомице, которая сидела у разноцветного узорчатого окна светлицы и задумчиво смотрела вдаль. Девушка не отвечала ничего на вопрос старухи, которая продолжала скороговоркою: – Охо, хо, хо! Глаз злого человека хуже болезни лихоманки[3]3
Лихоманкою называли простуду и вообще болезни, от нее происходящие.
[Закрыть], чтобы ему лопнуть, проклятому, чтобы тому, кто тебя сглазил, мое нещечко, ни дна ни покрышки, чтобы… Да я и сама не дура! Завтра же схожу к куму Авдеичу и поклонюсь ему; он не последний ворожейка – знает всю подноготную, даст мне наговоренной водицы[4]4
Что религиозные обряды у нас на Руси, в низшем классе народа, очень часто мешаются с суеверием, также всякому известно и к несчастью справедливо.
[Закрыть], и ты, моя пташечка, опять запоешь, будешь весела…
– Нет, мамушка! – прервала ее Наталья. – Я, знать, никогда не буду счастлива, разве в могиле! – И слезы повисли на длинных черных ее ресницах.
– Что ты, что ты, мать моя, Господь с тобою! Ты думаешь о могиле тогда, как тебе должно бы веселиться с подружками, петь, прыгать, плясать. Э-эх-хе-хе! Не то было в наше время: бывало, я, как была молода, золото ли хоронить, песню ли спеть, венок ли заплести – все первая: уж какая я была затейница! Бывало запою: «Земляничка-ягодка, на полянке выросла»… да пойду плясать, так только всем на диво. Ну, полно же, моя красавица, развеселись! Да и об чем тебе печалиться? Ведь ты у нас не чужая в доме. Василий Степанович жалует тебя как родную дочь свою; боярышня Марфа Васильевна любит словно сестрицу; жемчугу, золота, серебра, самоцветных каменьев, сластей ли каких – сколько твоей душеньке угодно. Другая на твоем месте и ох-то не молвила бы. Да взгляни же на меня, моя родимая, повеселее!
– Ах, мама, я рада бы веселиться, но не могу – мне грустно!
– Да об ком же ты грустишь, моя милая?
– Об нем, мама! – сказала Наталья, опустив стыдливо глаза, и румянец заиграл на бледных щеках ее.
– Об нем! – вскричала Пахомовна, и удивление, смешанное со страхом, выразилось на лице ее. – Об нем? – повторила она. – Да кто же это он-то? Уж не оборотень ли какой? Прости господи мое согрешенье! – Старуха набожно перекрестилась. – Кто же он-то? Скажи поскорее, моя лебедушка, не мучь меня!
– Так и быть, мамушка! Ты меня воспитала, ты любишь меня как дочь свою, и я от тебя ничего не скрою…
– Да кого же мне и любить, моя красавица, как не тебя? Ты у меня, моя разумница, как свет в окошке, ты моя радость, мое утешение! Говори, говори поскорее…
– Прежде побожись, что ты не откроешь никому этой тайны!
– Ну, клянусь, клянусь всем: пусть отсохнет язык мой, пусть пришибет меня черная немочь, пусть…
– Довольно, мама, садись и слушай: несколько месяцев тому назад Марфа Васильевна пошла с крестным батюшкой в гости, а я пошла с подружками в сад. Солнышко спускалось за плетень, и красивая малиновка, перепархивая с дерева на дерево, с кусточка на кусточек, своими приятными песнями прощалась с веселым днем. Мне было грустно; подружки играли, пели веселые песни, хохотали, бегали; я не играла с ними, а села на дерновую скамью и задумалась, об чем – и сама не знаю. He помню, долго ли это продолжалось, только девушки вскрикнули и разбежались; я не могла понять причины их страха и сидела. Вдруг… – Наталья остановилась, как бы желая вспомнить все с нею случившееся; старуха читала: «Да воскреснет Бог!» – Вдруг, – начала опять девушка, – я увидела пред собою молодого человека, того самого, которого видела и ты в церкви; красивое лице его было, как лицо девушки; он глядел на меня так нежно, так нежно…
– И ты также на него глядела, Наталья Степановна? – спросила со страхом Пахомовна.
– Да! И я на него глядела.
– С нами Бог! – прошептала старуха и опять перекрестилась. – Ну, что же далее? – спросила она.
– Я хотела уйти, но молодой незнакомец остановил меня, и какие сладкие речи говорил он мне…
– А что бы такое он говорил тебе?
– Он сказал мне, что любит меня, что умрет в разлуке со мною, что во всем мире нет меня краше, что я его солнце… Ах! Если бы ты знала, с каким жаром потом он взял мою руку, как крепко прижал меня к своему сердцу, как пламенно поцеловал меня!
– Что, что, моя матушка? Так он уж брал твою руку, так уж он обнимал тебя, целовал? Ахти, мои батюшки, пропала моя головушка! Вот до каких времен мы дожили: красные девицы изволят тайком целоваться с молодыми парнями! Нет, видно пришли последние дни, скоро, скоро света преставленье! Ну, скажет же мне спасибо твой крестный батюшка, когда узнает все это! Да и за дело мне: за тобою надобно смотреть в оба глаза. Сегодня же пойду и расскажу все Василью Степанычу, брошусь ему в ноги, авось умилостивится и простит меня…
– А твоя клятва, мама? Разве ты не обещалась мне, что никому не откроешь того, что я скажу тебе?.. Я тебе одной поведала мою тайну.
– И впрямь так! Ахти! Связала ты мою головушку! Скажи же мне – ты не видала его более?
– Видела один только раз еще: он простился со мною, сказавши, что едет в Ладогу к отцу своему, будет просить его благословения; что он непременно воротится и станет на мне свататься у батюшки. Ты помнишь, мама, как я гадала в Васильев вечер о суженом и, выбежавши за ворота, спрашивала у первого прохожего его имя[5]5
Обыкновение, забытое в высшем кругу столицы, но до сих пор еще соблюдаемое в провинциях красавицами – особливо в Васильев вечер.
[Закрыть]? Мне отвечали Иван! А незнакомца зовут Иоанном. He правда ли, это мой суженый?.. Но вот уже давно об нем нет слуху. Быть может, он забыл меня, а я, я его люблю и как свеча таю от печали и неизвестности! – Глаза Натальи наполнились слезами; она закрыла передником лицо свое и зарыдала.
– Ну, не правду ли я тебе говорила, что это был либо оборотень, либо – наше место свято! – нечистый дух, который принимает на себя все виды: то прикинется красной девицей, то молодым парнем, то кошкой или собакой! Избави Бог, моя милая, тебя от такого несчастия!
– Нет, няня, этот незнакомец был человек; он говорил так нежно, клялся мне, поминал имя Господа, которое недоступно для сынов тьмы!..
– Правда, правда! Но все-таки я боюсь; дело другое, если он приедет да будет на тебе свататься, а то вздумал лазить через забор, – ну, по-человечески ли это? Вот опомнясь ключник наш Афанасьич рассказывал мне такие чудеса, что волосы становятся дыбом; Афанасьич слышал это от своей бабушки, которой рассказывал его дедушка, а дедушка за-верное слышал это от своей кумы, которая, говорят, была большая грамотница. Коли хочешь, так я расскажу тебе; да погоди, прежде схожу и позову сюда сенных девушек – они также послушают моего рассказа, а после позабавят тебя песенкой, так авось ты будешь повеселее. – Пахомовна вышла и чрез несколько минут опять возвратилась в светлицу: за нею шли девушки с пяльцами; поклонившись Наталье, они не заняли по обыкновению мест своих, а почтительно остановились, как будто кого-то ожидая. Между тем Пахомовна, обращаясь к Наталье, проговорила: – Ну вот, мое нещечко, у нас теперь будет полная беседа: Марфа Васильевна воротилась домой и сама пожалует: то ли, кажись, она сказок-то и не любит слушать, а как услыхала, что ты все грустишь, так бросила вышиванье и изволит идти к тебе… то-то добрая боярышня… В это время дверь отворилась, и Марфа Васильевна вошла в светлицу. Это была статная девица, во всем блеске красоты и молодости; черные глаза ее были полны огня и жизни, но прелестная улыбка носила на себе печать какой-то задумчивости, подобно тому, как ясное солнышко скрывается иногда за утренним туманом. Поклонившись девушкам и усадивши их, она подошла к Наталье и, ласково поцеловавши, сказала: «Вечно в слезах! Да скажи, ради бога, что все это значит?.. Ты и меня скоро заставишь плакать, глядя на себя… Как хочешь, Наташа, а я должна узнать причину твоей горести! Не правда ли, ты не скроешь от меня ничего, моя родная, ты любишь меня как сестру свою?»
Наталья пожала руку Марфы и, чтобы скрыть свое волнение, обратилась к Пахомовне с просьбою об обещанной сказке. Старуха несколько раз кашлянула и начала…
Глава IIIЗмей Горыныч. – Страшное предание. – Песня. – Юродивый. – Его таинственные предсказания.
«На берегу широкой Волги стоял древний терем; большая стена и широкий ров окружали его. Это было давно, очень давно – тогда царствовал великий князь Василий Васильевич, по прозванию Темный, прадед нашего государя. Много было слухов о том тереме: одни говорили, что в нем живет нечистый дух; другие уверяли, что видели ягу-бабу, которая из него выехала в ступе; третьи – киевскую ведьму, которая вылетала в трубу. Долго он был необитаем: никто и днем не смел подойти к нему, а кого застигала темная ночь и кому приходилось идти мимо этого терема, тот творил молитву и боялся взглянуть на заклятое место – так все называли его. Вдруг переехал туда какой-то боярин; говорят, что он был очень богат: все кладовые наполнил сундуками с золотом, серебром и дорогими соболями; он все знал о тереме, но ничему не верил: жил себе припеваючи; глядел и не мог наглядеться своею дочкою. Анастасия (так звали девушку) цвела, как маков цвет, была красива, как солнце красное, и стройна, как подсолнечник. Боярин часто давал праздники, и к нему съезжалось много гостей и молодых детей боярских; с ними вместе боярин охотился за медведями. Один из них увидел Анастасию и полюбил ее, а девушка и сама была без души от него. Боярину это было не в противность. Что же медлить? – ему не пиво варить, не вино курить – веселым пирком, да и за свадебку. Начались приготовления, холопов с ног сбили – день свадьбы приближался, но в то время, как обручали жениха с невестой – черный ворон сел на кровлю терема, и зловещий крик его раздался в воздухе; в это же время собака на дворе жалобно завыла… все вздрогнули, а старики говорили, что быть худу! Так и случилось…»
Рассказ Пахомовны возбудил удивление в девушках, женское любопытство разыгралось: они оставили работу, боясь проронить каждое слово, и даже Марфа Васильевна и Наталья, мало обращавшие внимания на сказку, перестали смотреть в окно; старуха, видя успех своей повести, с самодовольствием окинула глазами все собрание и с важностью оратора продолжала: «Накануне свадьбы жених пропал без вести и никто не знал, куда он скрылся; бедная девушка чуть не умерла от горести: она сохла, как травка в поле от зноя солнечного, как с ветки сорванный цветочек, – плакала от утра до ночи; вдруг опять переменилась: сделалась весела, прыгала, пела… Никто не постигал тому причины, и даже сам отец с-диву дался. А в народе слух носился, что жених ее был нечистый дух, обитатель терема, который хотел наказать боярина; многие говорили, что он летал к своей невесте в виде огненного змея[6]6
Простолюдины и по сие время наши северные метеоры объясняют не иначе как полетом огненных змеев. Всякому, я думаю, известны эти рассказы, но не всякий знает настоящую причину сих видений. Долго еще, кажется, надобно ожидать, пока низший класс наш совершенно сбросит с себя иго суеверия и нелепых сказок.
[Закрыть] и являлся ей в прежнем своем виде. Вот отчего была весела Анастасия, и ей никогда не приходило на ум перекрестить своего мнимого суженого. Пословица говорит: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… так и тут – время шло; настала зима, а Анастасия виделась каждый день с женихом своим и была по-прежнему весела. Боярин ничего этого не знал. В один день пошел он утром в светлицу любимой дочери, но Анастасии там не было; начали искать, перерыли все мышиные норки, но все понапрасну – девушка сгинула, да пропала! Отец поплакал, уехал неведомо куда, и терем опять остался необитаем.
Пришла весна: вскрылись реки, и рыболовы начали свой промысел. Однажды, ловя рыбу, они вытащили безобразное мертвое тело, и как вы думаете, красные девицы, кто это был такой?»
– Боярин! – вскричали девушки в один голос.
– Нет, это была сама Анастасия.
– Ну а куда же жених-то девался, бабушка? – спросили некоторые из них.
– С тех пор об нем ни слуху ни духу; но все говорят, что это был нечистый…
Вдруг в светлице раздался стук; все слушательницы вскрикнули и, прижавшись одна к другой, затрепетали от страха; это упали пяльцы, которые опрокинула одна из девушек, заслушавшись рассказа.
– Что же, хороша ли моя быль, красные девицы? – спросила Пахомовна.
– Хороша-то, бабушка, хороша, да страшна больно!
– А ты, моя пташечка, опять призадумалась! – продолжала старуха, обращаясь к Наташе. – Ну-ка, красные девицы, начните хорошенькую песенку… да начинайте же скорее…
Одна из девушек. Затягивай хоть ты, Аннушка!
Аннушка. Нет, пусть начинает Маша, а я пристану.
Маша. Начинай ты, Дуня, а я…
– Да долго ли вам перекоряться? Начинайте! – закричала на них грозно Пахомовна, и девушки запели:
Сидит девица, сидит красная,
У окна сидит в своем тереме.
Плачет девица, плачет красная,
По своем дружке, по молодчике:
«Нет, не едет он, мил-сердечный друг, –
Говорит себе красна девица. –
Позабыл меня добрый молодец,
Позабыл свою клятву в верности…»
Наталья сидела, подперши голову рукою, и слезы ручьями текли из глаз ее.
– Перестаньте петь эту погребальную песню! – возразила Марфа. – Глядите, Наташа опять плачет!
– Нет, голубка! Эта песня мне нравится. Пойте, подруженьки, пойте! – заметила Наталья.
Девушки начали:
Но вот по полю, по широкому
Едет молодец, сам боярский сын.
Конь под всадником словно лютый зверь,
Сбруя бранная горит золотом;
Сердце вещее шепчет девице,
Что то миленький, давно жданный друг;
Подскакал всадник прямо к терему,
На крыльцо бежит, на высокое,
Дверь тесовая отворяется…
В это время дверь в самом деле отворилась, и человек среднего роста, пожилых уже лет, скоро вбежал в светлицу; серый изорванный кафтан его, подпоясанный веревкою, едва закрывал тело; босые ноги загрубели от ходьбы; в руках он держал толстую ореховую палку; черные с проседью волосы, разбросанные в беспорядке, и редкая небольшая бородка довершали странность его одеяния; но морщиноватое чело и огненные глаза выражали спокойствие совести и надежду на благость Творца; на шее у него висело медное Распятие – это был юродивый.
– Здравствуйте, красные, здравствуйте! Знаете ли, что я молвлю вам – царский венец тяжел, нерадостен! И тебя, Наташа, жаль, да делать нечего, – полно плакать, молись, авось Господь умилостивится. – Юродивый сказал это вдохновенным голосом, со слезами на глазах, и потом, приняв веселый, обыкновенный вид свой, прибавил: – Молись, Пахомовна, молись и ты; Господь долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается!
– Здоров ли ты, Яша? – спросила Наталья ласково.
– Здоров, Наташенька, здоров! Да и что мне делается; я от царя далеко, ухо мне не отрежет, в опалу у меня взять нечего, и живу себе без горя, без печали. Бедненький ох, а за бедненьким Бог! А вот ты, боярышня, всего у тебя много – и золота, и серебра, а все плачешь да грустишь, и чрез золото слезы льются!
– Да, Яша, вот запала ей на сердце кручина, – сказала со вздохом Пахомовна, а что попритчилось – бог весть….
– Жаль мне ее, бедняжку; ну! да и царский-то венец тяжел, ох тяжел! Хороши почести при веселье, при радости, а при горе, при печали – не дай господи! Правда ли, Марфуша?..
– Да какой же венец, Яша? – спросила опять с любопытством старуха. – Ты так загадочно говоришь, что я тебя и не разумею.
– Не твое дело, Пахомовна, молись! Авось Господь умилостивится; а ты, Марфа Васильевна, собирайся в путь далекий. Наташа тебя будет провожать. Всякому свое на роду написано: чему быть, того не миновать.
Здесь Наталья встала и, подошедши к юродивому, взяла его руку:
– Скажи мне, Яша, ради бога скажи: увижу ли я его?
– Кого, Ивана? Увидишь, Наташа, увидишь…
Лицо Натальи запылало: как мог Яша, думала она, проникнуть в тайну моего сердца? Я никому ее не открывала, кроме мамы, видно, что он Божий человек; между тем это предсказание чрезвычайно ее обрадовало. Юродивый пристально глядел на девушек и наконец сказал, обращаясь к Марфе Васильевне:
– Не радуйся, Марфа, не радуйся и ты: после вёдра всегда бывает дождь, а после радости слезы… Слушай, я скажу тебе побасенку: цветочек рос в поле; никто за цветочком не ухаживал, никто не думал о цветочке, да он цвел во всей красоте своей; вот и пошел царь гулять по полю, увидел цветок и полюбил его; велел пересадить в свой сад: начали за цветочком ухаживать, каждый день поливали его, да цветок стал уже не тот – он начал вянуть, блекнуть, да и засох совсем! Молись, молись, Марфуша, царский венец тяжел, нерадостен, молись, Марфуша, молись!
И юродивый выбежал из светлицы. Марфа и Наталья стояли неподвижно, стараясь разгадать таинственные слова его; Пахомовна в недоумении покачивала головою; девушки перешептывались….









































