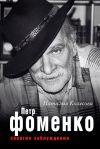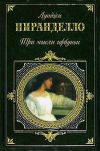Текст книги "Театр моей памяти"

Автор книги: Вениамин Смехов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Иннокентий-Ангел немедленно принялся очаровывать хозяина кабинета, а я зажмурился и зажался. Я такого никак не ожидал. Изумительно сверкая улыбкой, великий лицедей убедил начальника в два счета: что я таких-то высот покоритель (в искусстве), что семья моя – это гордость всей Страны Советов, что метров столько-то, а орденов и заслуг у тестя столько-то… Он жонглировал именами, цифрами, эпитетами, снова цифрами… Как он мог столько удержать в голове!
…Я вез И.М. домой, мы заехали в школу за его дочкой Машенькой, а когда я очухался от впечатлений, то спросил Смоктуновского, откуда такие познания в дипломатии и неужели двух часов подготовки хватило, чтобы столько удержать в памяти?
И.М. обворожительно изумился: "Дорогой мой, у меня ведь одна профессия и нет другой! Я вынужден относиться серьезно каждый раз! Как я мог перед этим… долбодуем быть самим собой? Я обязан был сыграть такого же… из его же круга… а как иначе?"
Чиновник не сделал ничего из того, о чем его просили, но это неважно. Я его все равно люблю: мы оба были зрителями уникального спектакля. Одного Артиста.
1995 год. Я вернулся в Москву в сентябре, и у меня не было шанса надеяться на прежнюю роскошь: позвонить и узнать, что во всем виноваты дурацкие слухи. Раньше были надежды. Нынче умирают мифы.
УМЕР, КАК МОЛЬЕР
1987 год, 17 августа, гастроли театра «Современник» – Хабаровск. Здесь 16 часов, в Москве 8 утра. Звоню Табакову из автомата. Прими, Олег, телефонограмму:
Дурачине по причине очень давнего восторга, мне не спится на границе очень Дальнего Востока.
Дорогой мой Табаков,
Будь здоров со всех боков!
Вместо веселого ответа – ужасное сообщение. Чем живет сегодня Москва: умер Андрей Миронов. В Риге, на гастролях, через пять дней после смерти А.Папанова. Настоящее черное горе. Оно амортизируется дальностью расстояний, долго кажется бредом. Постепенно обрастает подробностями. И все тревожнее посматривали в театре на Игоря Квашу: Андрей – его друг, и дальность расстояний убивает его еще больше…
В «Известиях» было сказано, что Миронов умер на сцене – как Мольер. Страшно – на руках ближайшего друга – Шуры Ширвиндта. А Гриша Горин сопровождал движение машины в Москву, и население и милиция салютовали по всей тысяче километров пути.
Уже в предсмертном состоянии, в "скорой помощи", он произнес последний монолог Фигаро и умер, не оставшись у зрителя в долгу. Он ведь упал на сцене и не договорил монолога… Как Мольер.
Он был сразу хороший артист. Сразу, с 1958 года, когда поступал к нам, в Щукинское училище. Авторитет его родителей был столь высок, что трудно понять, где кончалось удовольствие видеть их сына, а где начиналось лицезрение его собственного обаяния.
…На щукинских вечерах, как и по всей стране, робко возрождалась культура западного танца. Раскованно буйствует в «буги-роке» один Андрюша Миронов (из мужского персонала). Первокурсник легко летает, грациозен, европейский шарм подчеркнут самоиронией – словом, хорошо смахивает на тех "стиляг", которых журнал «Крокодил» еще пару лет назад «смахнул» с нашего победоносного пути. Впрочем, в одежде Андрей весьма строг, подтянут и совсем был бы похож на лорда, если бы не краснел на каждом шагу. Девичий стыд, надо признаться, делал его простым, неизбалованным пареньком… Ада Владимировна Брискиндова, обратила наше внимание на младшего щукинца: Андрей ежесекундно и всепогодно, не для показухи, а по личному кодексу – выбрит, причесан, при галстуке и при крахмальном воротничке… Причем не какой-нибудь полукрахмал, а тугая жесткость: ошейник аристократа…
…Стороннее наблюдение за Андреем могло вызвать ложную обиду: "Ты не слишком зазнаешься, юноша?" Виноваты, конечно, и комплексы "стороннего", и сумма внешних примет – фасонистая выправка, пружинистое парение над толпою и небрежное скольжение в речи, где запросто слагаются репризы.
Но при близком общении – все по-другому. Детская дотошность в расспросах о жизни, о семье, о театре, о вкусах, о слухах, о твоем личном мнении… Умение хорошо вслушиваться, вглядываться в собеседника, а рядом – искренняя пренебрежительность к славе, "успехам". Всегда памятлив к общим встречам и событиям и очаровательно благожелателен. Даже в мрачном расположении духа – готовность отозваться на юмор, отдаться течению импровизации, словесного перепала. И думаешь о нем: "Не слишком ли он скромен и прост для всенародного любимца?"…На хабаровских гастролях грустно возвращаю артисту Антону Олеговичу Табакову воспоминание о его детском признании. Маленького Антошку спрашиваю, кого после отца от считает великим актером? Или лучшим? Любимым? Ответ показался тогда пижонским забиячеством: "Я, дядь Вень, вообще никого не считаю, кроме Миронова, он для меня самый первый – Андрей Миронов – среди всех вообще!" Сокрушенно кивает Антон Олегович; так и было, так и есть. И только что звонил в Москву, разыскивал Ларису, жену своего кумира.
…Начало 70-х годов – много-много счастливых вечеров в доме нашего общего друга Игоря Кваши. Собрание громких имен – и актеров, и художников, и врачей. И Гриша Горин, и Слава Голованов, и открытие огромной мастерской на троих (Л.Збарский, Б.Мессерер, В.Красный) на ул. Воровского… Я ощущаю себя случайным зевакой на этих карнавалах талантов, где Андрей всегда бывал в центре как веселых, так и серьезных разговоров. К тому же он один из первых (как и сам Кваша) владел магией автомобильных терминов, что по тем временам казалось столь же мудреной областью, как и космонавтика.
…На вечере 4 февраля 1983 года в «Современнике» Андрей со своим партнером Александром Ширвиндтом завершали праздник пятидесятилетия Игоря Кваши. Атмосфера в доме на Чистых прудах была примерно такой, какую сама Фея могла заказать Золушке – к ее пятидесятилетию. Бывает иногда в театре такое стечение обстоятельств, что полный зал разного народа живет единым дыханием, когда все как один счастливы и у всех один кураж, одна печаль, одни и те же ассоциации. Словно все играют в одну и ту же игру, у всех разом "ложится карта", полная колода козырей, и все в крупном выигрыше. В картах так не бывает, а в театре бывает. Всех, кто в тот вечер выходил на сцену – поздравлять, зачитываеть или острить от себя, – всем и каждому везло. Меня, например, "несло", как Остапа Бендера с голодухи – такой прием, такой народ, такой фурор… Остапа с голодухи, а нас – от любви. Все были прекрасны – и Ахмадулина, и Окуджава, и Юрский, и Арканов, и целые коллективы, и представители с "адресами", ну и, конечно, Валентин Гафт – ведущий вечера. Они только что отыграли булгаковского «Мольера» ("Кабала святош"), которого друг Миронова и поставил, и сыграл. Там в финале (как теперь оказалось) Кваша – Мольер умирал на сцене, точно "как Андрей Миронов"…
Гафт в полурасстегнутом костюме Людовика был звонок и щедр на комплименты. Вся труппа, сидя на сцене, была детски смешливой. Особенно юбиляр, который задыхался от хохота и бил каблуком об пол… Так вот, пиком вечера, его триумфальной развязкой был финал: Ширвиндт без единого слова играет на скрипке, бережно возлагая под щеку иссиня-чистый платок; Кваша, задерганный послушник, невпопад вторит припеву, а всей песенной галиматьей сухо дирижирует Миронов. Он дирижировал скрипачом и пробами сил юбиляра, куплетами-припевами и перерывами на гомерические раскаты публики… Он действительно довел до слез, истерзал Квашу, пока тот не выучил и не спел припев гимна про себя самого. Куплет идеально исполнял Андрей, успевая на ходу глазами и телом намекнуть имениннику на скорый приход припева… вот-вот… вступай, брат! Опять не попал… Зал грохочет, юбиляр исступленно лягает каблуком сцену. Труппа изнемогает от хохота… И только двое невозмутимы, как часть неживой природы: мрачен фрачный скрипач, по знаку дирижера снова бросая подбородок на плечо, и адски серьезен Андрей в своем просветительском рвении – научить Квашу петь причитающийся ему гимн. При всем том он ухитряется оставаться самим собой – изящным, пластичным, как циркач, и обаятельным, как Миронов!.. Добавлю, что всю ночь актерское собрание гудело восторгами воспоминаний о вечере, буфетный подвал на Чистых прудах ходил ходуном от возбуждения и любви…
В тот же год, весной, я летал дважды в Ялту, к моему товарищу Александру Митте на съемки его фильма. Как часто бывает у нас, я дал себя обморочить клятвами типа "картина погибнет, если ты не сыграешь эту роль", "роль гениальная, хотя в сценарии ее почти нет", "она небольшая, но от таких ролей мастера не отка…", "только ты один, не считая, может быть, Марлона Брандо, да и он не вытянет"… Словом, выворачиваешься в театре, бюллетень тебе в тоску, но летишь, дабы спасти судьбу шедевра СССР и Каннского фестиваля… Все это – из области суеты. Так сказать, виновата суета, а не данная Митта… И вот съемки "Сказки странствий" и мое мелкозернистое участие дали возможность наблюдать «младшекурсника» в работе. В дневнике я записал, что Андрей неутомимо послушен мучителю Александру Наумовичу. На площадке почти не заметен стаж его популярности, он умеет беречь в себе стартовое, дебютное самочувствие. Любит, можно сказать, быть учеником. Это не всегда удается, но я с удовольствием замечаю исполнительское достоинство и моментальную отзывчивость в репетициях к съемке. А уж когда объявлен «мотор» – тут у Андрея точность без изъяна. Ни на долю секунды, ни на полвершка вправо, ни на полтона ниже – ни в чем не отступит от просьбы режиссера. Он впервые у Митты, он привык к другому режиму, его природа пропитана духом импровизации, но он послушен воле режиссера. В этом и достоинство профессии. Обеденный перерыв. Мы спасаемся в зыбкой тени декораций. Далеко внизу режет своим блеском наши усталые глаза Черное море. Очень жарко, мы оба раздражены, каждый по-своему; однако новости театра и жизни, общие темы и друзья – все это приводит нервы в штилевое состояние. Потом, как индейцы с гор, к ногам Андрея сваливаются дети, с ними – парочка отдыхающих дефективных дамочек, и актер раздает автографы. В его глазах – привычная вежливая тоска. Наш разговор развалился, и теперь мы дружно спрягаем и склоняем режиссера, которому палящее солнце не мешает носиться, ругаться без отдыха и тени. А вечера прекрасны. Ужины в гостинице "Ялта", споры и сговоры в пользу завтрашней смены… Рассказу Андрея о параллельной съемке в Ленинграде я не придал того значения, которое имеет теперь в моей душе и его роль, и весь фильм Алексея Германа об Иване Лапшине…
Самый памятный день – 16 июля. Рано "отстрелялись", навестили в Мисхоре дочку Андрея Машеньку и тут же, двумя террасами выше, над морем, расположились на даче Вадима Туманова. Андрей очарован уютом и миром дома, и сада, и кухни с банькой, а перед телевизором в гостиной, направив на себя мощный вентилятор, замирает в блаженстве: "Я отменяю съемки, передай своему Митте. Я всю жизнь искал эту точку на планете. Мечта идиота: покой, изоляция, диван и телевизор с вентилятором. Я счастлив, а ты?" Весь вечер, что мы просидели под виноградными плетениями, уничтожая плоды гостеприимства хозяев, показался одним из самых славных и добрых в жизни. У меня сошлось в одну чашу радости: начало отпуска в театре, канун дня рождения жены, дорогой мне мир Владимира Высоцкого (в честь его пристрастия к этому дому и была приобретена дача другом поэта, Вадимом), любимый Крым, принудительно отдыхающий Митта… И, разумеется, особую приподнятость настроения я отношу к факту присутствия Андрея. При многолетней привычке ощущать какую-то дистанцию между нами я всегда, издалека или ближе, как-то теплел "щукинским родством", мне в нашем знакомстве было дорого все, что нас соединяло, и все, что не соответствовало клише «кумира» и "кинозвезды". На этот вечер 16 июля ласковый ангел Тавриды (выразимся высокопарно) подарил мне замечательного Андрюшу Миронова. Такого, каким он был, видимо, для всех своих друзей. Добавлю на основании единичного опыта: для счастливцев.
В последнем разговоре, в мае 1987 года, возле служебного входа в его театр, мы говорили о новостях. Андрей, мне кажется, всегда охотно переключался на волну собеседника… В моем случае назовем это даже волной идейного занудства. Назначение Николая Губенко на Таганку. «Самоубийца» Эрдмана. Что будет, что есть, что было. И я назвал лучшие для меня, зрителя, работы Андрея в театре. Более всего – Жадов в "Доходном месте", постановка Марка Захарова. Под занавес 60-х годов спектакль был запрещен, и с ним вместе лишилась своего развития, быть может, важнейшая грань таланта артиста.
В ту же Ригу, где случилось несчастье, два года назад мы ехали втроем, и очень весело… Я морочил ему голову борьбой с никотином, он за это смешил мою Галю разоблачительными этюдами на тему занудной идейности ее мужа – еще с институтской, мол, скамьи! – а в тамбуре мы совершали перекур и печальный обмен тогдашними новостями об обоих театрах. А в купе продолжались веселые речи и шаржи… Июльский вечер в Крыму, как водится, был детально и гиперболически помянут добром и хохотом. Андрей уморил нас изображением бедного Саши Митты, которого и в глаза, и за глаза объявлял падучим советским режиссером: за панику в работе, презрение к отдыху и, конечно, за обморок в баньке, до которого довел себя сознательно, которым гордился, а нас весь вечер укорял за невежество в области банных обмороков…
В Риге Андрея почему-то не встретили, отчего мой брат и друг получили приятный шанс «комфортировать» артиста транспортом и завтраком в отеле "Латвия". Через пару дней мы, как договорились, наведались к Андрею в санаторий "Яункемери". Мама, Мария Владимировна, возмущенно описала дикий режим «отдыха» ее сына и доказала, что «звезды» ее поколения были не такими доступными и разбросанными психопатами, как эти "звезды"-дети… Я в ответ утешил ее рассказом о собственной дочери.
Начало 70-х годов, поселок на Пахре под Москвой. Я гуляю с Аликой – дочкой-пятилеткой, егозой и худышкой. Остановка на аллейке. Папа увлекся беседой с чужими тетей-дядей. Дочь рвется из рук. Я крепко держу ее за руку, не уставая смеяться и продолжать скучнейший, с ее точки зрения, разговор – опять о "Таганке", о какой-то "Сатире", об Эрдмане и Утесове, об эстраде и о каком-то Хазанове, выступавшем в Кремле у кого-то на семидесятилетии… Дочь уже изнемогает, скулит и тащит меня в дом, к обеду. Я извиняюсь, прощаюсь с незнакомыми ей людьми и шлю привет их сыну Андрюше… Через пару шагов Алика замерла от разгадки: "Какой-какой Андрей? Миронов?! Это, что ли, мама Андрея Миронова?! И папа?!" И восторг, и отчаяние, и срочный порыв в их сторону – разглядеть чудаков, которых кумир наградил правом его родить… И, конечно, я в результате получил первый выговор от малютки: "Как тебе не стыдно! Ты же знал и не сказал, что это Андрея Миронова мама! Что мне теперь делать?!" Думаю, назавтра в детсадике она сообразила, что делать, и юные коллеги моей дочери получили яркую картину ее встречи с Его родителями… Так замкнулось время: в пятидесятых глядеть на сына мешало очарование родительской славы, а в семидесятых наши дети с обожанием и завистью взирают на тех, кто "лично знаком" с Андреем Мироновым… Сомкнулась радуга фамильной легенды.
ЮРА ВИЗБОР
Знаете, что очень часто говорит перед съемкой режиссер актеру? Он говорит: «Ничего не играй!» Странное указание, не так ли?
…В конце пятидесятых уходили в прошлое (и в будущее) военные сюжеты, героические профили суперменов, становились популярными фильмы итальянского неореализма. Эффект простоты усиливался тем, что большинство исполнителей не были актерами: их приглашали на экран прямо с улицы.
Мы учились в театральном институте, бегали в кино, а собираясь дома после итальянских картин, слушали пластинки с французскими шансонье. Песни Ива Монтана, наверное, не меньше повлияли на здоровье поколения, чем решения ХХ съезда партии.
Новые имена советской культуры конца пятидесятых – прямые родственники неореализма.
Какая музыка была, какая музыка звучала —
Она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала…
Звала добро считать добром, а хлеб считать благодеяньем,
Страданье вылечить страданьем, а душу греть вином или огнем…
…Лет через пятнадцать после института я участвовал в передаче радиостанции «Юность». Она состояла из песен и стихов Б.Окуджавы. Помню ответ поэта на вопрос корреспондента: «Вам нравится, когда ваши песни исполняют другие?»:
– Я не люблю, когда поют другие, потому что придумал их по-своему, по-другому. Наверное, ближе всего к тому, как я придумал, – это когда поет Юрий Визбор… Он поет очень просто, по-мужски, и, кроме того, он не изображает чувства, он вообще ничего не играет…
Сказано так легко, а исполнить трудно. Когда актеру говорят: "ничего не играй", то имеют в виду: не позируй, не афишируй чувств, оставайся естественным.
Комплимент Окуджавы я понимаю так. Юрий Визбор много знал, пережил. Он был личностью. Ему не надо было "доигрывать", актерствовать – и на экране, и на эстраде, и в жизни тоже.
Советский образ игры на публике до сегодняшнего дня сохраняет демонстрацию чувств. Если персонаж переживает – это выражается ярко, с нажимом. Все без конца твердили и твердят о правде, о реализме. Но эту правду стесняются выпускать на люди – такой, как она есть. Ее одевают в кричащую обложку. Кислая конфета в сладком фантике пафоса.
"Ничего не играть" – значит еще играть от себя и только по существу, не занимать чужих жестов и интонаций.
Владимир Высоцкий шокировал своих первых слушателей (и коллег), потому что он кричал "по существу", а мы привыкли кричать – по праздникам. Александр Галич язвил системе власти, а мы привыкли, когда язвят по… "системе Станиславского". Булат Окуджава пел в обществе и был свободен от общества. Юрий Визбор задушевной манерой вроде как бы исполнял одно из главных требований к массовой песне: "она, как друг, и зовет, и ведет…" Его песня звала, вела и уводила – по-одному из толпы – в горы, в ясность, в чистоту, в сторону от коллективного разума…
Все «данные» Ю.И.Визбора звали повториться "советский тип" в характере и внешности, однако его натура предпочла сходство с персонажами из Хемингуэя или Ремарка. Таким мог быть закадычный друг детства Жана Габена, лично подпевавший Иву Монтану где-то у стен Малапаги…
Фильм "Июльский дождь" любимого «неореалиста» московской заставы режиссера Марлена Хуциева вызвал восторги умной публики и раздражение публики официальной. Юра Визбор "ничего не играл" в одной из главных ролей и пел в фильме свою песню "Спокойно, дружище, спокойно". Марлен Хуциев взял героя из жизни, а не из актеров. Героя с антигероической внешностью. И Юрий Визбор сразу стал знаменитым. Его снимали Лариса Шепитько, Андрей Смирнов, Михаил Калатозов. Конечно, он был обаятельным, киногеничным… как говорилось – неотразимый мужчина. Но разве мало не менее эффектных, но «обученных» актеров? Почему такие хорошие режиссеры предпочитали Юру? Я думаю, по той же причине, по какой мы все тянулись к фильмам неореалистов и голосу Монтана: Визбор был абсолютно натуральным и в жизни, и на эстраде, и на экране. Он "никогда не играл".
Наполним музыкой сердца,
Устроим праздники из буден,
Своих мучителей забудем,
Вот сквер – пройдемся до конца…
…Снимался фильм «Красная палатка». Персонажи Визбора и Бориса Хмельницкого, по воле сценария, попали в ледяную воду, боролись, стреляли, отснялись, вылезли. Съемка шла за Полярным кругом… Белые медведи глядят и не верят своим глазам: человек добровольно купается в ледяной воде?! Юра и Боря сразу опрокинули по стакану чистого спирта, оттуда – в каюту, там – горячий душ, довольны, вернулись на площадку. Вместо благодарности – приказ режиссера: снимаем второй дубль.
– Как? Да вы что?
– Да ничего! Кино есть кино! Быстро в кадр! Грим, костюмы! Группа, внимание!
– Да вы что? А наши детородные органы, а ваш гуманизм…
– Все! Время! Первый дубль в браке – а мы снимаем итало-советский фильм! Впервые в истории! Быстро в кадр!
И они полезли в ледяную ванну. Борьба, брызги, стрельба, и белые медведи – в ледовитом шоке… Вылезли, им опять сразу – спирт, каюта, горячий душ. Вернулись на площадку (помните, куда преступников обычно тянет?)… Калатозов крепко обнял героев. Овации всей группы. И – маленькая просьба от оператора, при поддержке режиссера:
– Ребята, нужен третий дубль, нужен до смерти! Есть погрешности, словом, это наша вина, простите, без третьего дубля – фильма не будет!
– Да вы что, озверели?! Вам нужен третий дубль до смерти, да? До нашей, что ли, смерти, а?!
И оба артиста скрылись в каюте. К ним посылали гонцов, им сулили, им угрожали. Молчал океан. На двери каюты появился листок с ответом Юрия Визбора: "Кино найдет себе другого, а мать сыночка – никогда".
Что за погода? Как эти сумерки ужасны!
Что за погода? Меняет климат свой земля…
А я устала. Ходила целый день напрасно…
1975 год. На съемки фильма «Смок и Малыш», где я изнывал от одиночества посреди литовского кинематографа, посреди снегов Кольского полуострова, явился мне спасатель Юрий Иосифович. В красной пуховке, круглый, крепкий, румяный и рыжеватый.
Явился будто бы снимать документальное кино про Апатиты и флотаторов, про героев наших будней, но на самом деле – спасать друга. Он был в курсе моих переживаний: я впервые столкнулся с интригами большого кино, и с комплексом неполноценности кинорежиссера (того же, что снимал трифоновский "Обмен"), и с антирусскими комплексами тоже… Я играл главную роль, меня втащили в кадр, надеясь на мой театральный опыт, а я нуждался в уроках совсем новой профессии. Режиссер психовал, учить не умел и все недостатки начального периода смело валил на упрямого актера, да еще из ненавистной Москвы… Экспедиция в красивых горах превращалась в филиал тюрьмы народов.
Юра приурочил свою работу к месту и времени моих съемок, погостил пару часов в киногруппе, обворожил всех моих литовцев:
1) тем, что, будучи всесоюзной звездой экрана, шутил, смешил и все время высоко уважал каждого литовского представителя;
2) тем, что, по секрету от меня, хвалил их за выбор «такого» актера, сулил бешеный успех первому литовскому сериалу на всесоюзном телеэкране;
3) тем, что намекал на большие симпатии к этим съемкам большого начальства киностудии "Экран";
4) тем, что выпивал и закусывал со всеми литовцами запросто и за свой счет;
5) тем, что признался сразу и без пыток, что его натуральная фамилия Визборас, что отца его, Йозаса, сгноили в сталинских лагерях, но он с матушкой (украинского происхождения) никак не мог, к сожалению, выучить родной литовский язык…
Юра провел несколько сеансов ненавязчивой психотерапии, носился со мною, в свободные мои часы окружал братской заботой, перезнакомил со многими хорошими апатитовцами… Были теплые вечера посреди снежных гор, были его песни – в том числе о соседних вершинах… Юра принял участие в «Академиаде» горнолыжников, на одном из этапов которой его рассмешил большой физик из Киева…
– Ты можешь себе представить мой неслабый успех в высоких слоях гениев науки? На плато Росвумчорр группа ученых подъезжает, пожимает мне трудовую перчатку, а самый смелый из них, академик Савельев, заявляет… Что, мол, они понимают, я и то умею, и в этом преуспел, и песни мои они, дескать, с молоком своих мам приняли, и что на лыжах держусь, не падаю и вершин не боюсь… Но одного они все, хотя и очень умные, понять не могут: как я, такой мягкий и добрый, сумел перевоплотиться в этого суку Бормана? Каких трудов мне, наверное, стоило – сыграть на фоне маститых мастеров экрана этого суку Бормана? И даже голос, дескать, я как-то филигранно изменил, и глаза, и щеки, и нутро – ну вылитый сука Борман! Особенно, конечно, голос!
Рассказ сопровождался нашим обоюдогромким хохотом. Разумеется, попав в артисты, журналист Визбор готов был терпеть возвышенные фантазии кинозрителей на счет особых трудностей в жизни киносъемщиков, но такой высоты еще не брал никто… Этот Борман был сыгран Юрой срочно, по просьбе коллеги-режиссера в Останкино, без отрыва от основных занятий. Портретный грим "суки Бормана", два-три дня съемок – и Юра прочно забыл о случайном эпизоде. Он даже не сумел расстроиться, узнав, что его роль озвучивает другой актер… Но успех фильма "Семнадцать мгновений весны" и лично образа Бормана превзошел все мечты – "особенно, конечно, голос!".
…Когда Визбор уехал со съемок в Москву, у меня начался перелом к лучшему – в работе, в отношениях с режиссером и просто в душевной области… В гостинице Юра поделился большой сердечной новостью, которой он уже посвятил несколько прекрасных песен. «Новость» жила в Москве и через год превратила жизнь Юры в кромешный ад.
Романы, лирика, любовь – дело, конечно, тайное, и всегда неприятны сплетни и версии, но… Данный пожар сердца дорого стоил замечательному человеку, и мне впервые пришлось сыграть "ответную роль" спасателя… А на Кольском полуострове, на старте романа – только ахи да охи, только румянец и радость, а также песни, шутки, прибаутки…
Ax, как нам хорошо! Как хорошо нам жить на свете!
Дождь, кажется, прошел. Наступит скоро теплый вечер…
Ах, как светло вокруг! И птицы весело щебечут…
Ах, дорогой мой друг! Как хорошо нам с тобой вдвоем…
1976 год. Юра в моей квартире справляет свои сорок два года. Он сбросил бремя «любовного наваждения». (Очень скоро ему улыбнется судьба – в лице «прекрасной Нинон», навеки верной и любимой жены.) Теперь он ожил, и в океан его обаяния вливаются снова реки его друзей. Звучат умные и бодрые шутки, тосты блистают прозрачными намеками, хохот компании сменяется песнями Ю.Визбора, С.Никитина, В.Берковского, Д.Сухарева… А я, хозяин дома, счастливей счастья. И надежно скрываю от друзей то, что случилось буквально накануне Юриного дня рождения. Он пренебрег моим мудрым советом и сбежал по адресу бывшей «новости». Вернулся домой страшнее тучи, улегся на кровать, замкнул уста… В глазах – такая скорбь, такая тоска… Ни слова между нами, тишина. Вижу: рука Юры набирает горсть лекарств, он их глотает, запивает, не меняя выражения остановившихся глаз… Я, не очень разбираясь в медицине, в ужасе мечусь, предчувствуя худшее. Дальше случилась моя идиотская импровизация, за которую впоследствии, к моему удивлению, он хвалил меня родным и близким.
Я вбежал в ванную, смочил холодной водой полотенце, вернулся к Юре и огрел его прямо по шее, по лицу, по голове… И остановился, в страхе от содеянного. А Юру именно этот шок вернул к жизни – так он потом рассудил.
Что ни баба – то промашка,
Что ни камень – то скала.
Видно, черная монашка
Мне дорогу перешла.
1980 год. Роман мой, квартира – его. Легко об этом читать в чужих книгах, а если и страсти, и страхи – твои, родные? Не стану ворошить черных чертей проклятого прошлого: не я первый, не я последний получал удар за ударом в эпоху развода. В черные дни я спасался – от надзора, от сплетен, от риска потерять любимую, от исполнения безумных угроз… Меня укрывали теплые стены дома Юры Визбора. А однажды случилась комедия, по ошибке принятая за трагедию.
Юра отдал нам свои ключи с предупреждением: являться тихо, на звонки и стуки не откликаться, ибо его дом только для меня – крепость, а для него – мишень разбоя. Одна, скажем, суровая к Визбору дама жила в том же кооперативе и осаждала квартиру повышенным вниманием, а застань она там посторонних – готово дело о незаконной сдаче жилья и т. д.
И вот однажды Юра явился к себе домой, уверенный, что мы с Галей в театре, и забыв, что среда на «Таганке» – выходной день. Он привычно вставил ключ в дверь. Дверь не открылась. Он услышал шорох внутри и замер. Мы, в квартире, услыхали вражеские звуки и замерли тоже. Юра позвонил. Мы не ответили. Он стал помогать ключу, нажимая плечом на дверь. Я догадался: ломятся с проверкой. Надо спасать дом друга! Я занял позицию у двери. Враг жмет. Я держу дверь. Враг со всей силы толкает. Я изо всех сил креплю оборону. Бедная моя Галка, решив, что дом обречен, решила спасать меня: собрав в охапку зимние пальто и свитер, раскрыла окно (оно выходило на заснеженную крышу магазина "Диета"), звала, умоляла жестами – на крышу! огородами! на волю! в пампасы… Но я стоял насмерть. И тут враг в барсовом прыжке долбанул дверь ногами. Дверь зашаталась, закряхтела, но с петель почему-то не сорвалась. Враг пыхтел и сопел. Силы терялись по обе стороны двери. А Галка все тянула меня – туда, откуда тянуло диким холодом – на свободу, на "Диету", в пампасы. Сердце колотилось громче двери, а дверь ходила ходуном, ибо враг был (как потом выяснилось) серьезным горнолыжником…
На мое счастье, спортсмен устал прыгать и приложил ухо к двери: кто, мол, прячется и почему так тихо? Сразу пришла в его кипящую голову странная мысль: а вдруг?.. И Юра шепнул неуверенно: "Ве-ень! Ве-ень! Это ты?" И я широко распахнул дверь… Ни волков, ни красных шапочек – две изнуренные «бабушки» рухнули на кровать. Нервный смех родился у Галки. Свежий воздух возродил сознание. Сердечные капли помогли понять, что было и что есть. Потом Юра и я надолго ушли в хохот. Через час его, профессионала, волновал только один вопрос: как бы это все так описать, чтобы читателю передать все нюансы трагикомедии… Вот я и попробовал… почти двадцать лет спустя…
В конце семидесятых была им написана песня о нашей дружбе. Я ее очень стеснялся и на своих концертах отвечал на вопросы так: "У Визбора таких, как я, сотни, просто мое имя удачно попало в его рифму…" А первыми слушателями песни оказались замечательные друзья Юры – Лариса Шепитько и Элем Климов. Я цитирую песню, и больше нет стеснения, осталась только грусть:
Впереди у нас хребет скальный,
Позади течет река – Время.
Если б я собрался в путь дальний,
Я бы Смехова позвал Веню.
…
…Никакого не держа дела,
Раздвигая на пути ветки,
Мы бы шли, и, увидав девок,
Мы б кричали: «Эй, привет, девки».
…
Я бы сам гитарный гриф вспенил,
Так бы вспенил, что конец свету…
"Я бы выпил, – говорю, – Веня,
Да здоровья, дорогой, нету!"
Ну а он свое твердит, вторит:
"Воспарим, мол, говорит, в выси,
Дескать, пьяному почем горе,
Ну а трезвому – какой смысел?"
Так и шли б мы по земле летней,
По березовым лесам – к югу,
Предоставив всем друзьям сплетни,
Не продав и не предав друга.
А от дружбы что же нам нужно?
Чтобы сердце от нее пело,
Чтоб была она мужской дружбой,
А не просто городским делом.
Ю.Визбор жил и пел естественно и просто. «Ничего не играя», он сыграл важную роль в жизни многих, многих людей. Я видел благодарных ему в театре Марка Захарова, где шли две его пьесы; на телевидении, где он сделал много отличных документальных фильмов; в институтах и научных городках.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.