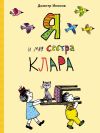Читать книгу "Мужество"

Автор книги: Вера Кетлинская
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
– Да нет, Лизавета Артемьевна, это на два года поездка, на два года!
– Ишь ты… – протянула старуха, притворяясь, будто не понимает, чего хочет жених. – Я вижу, ты запасливый. Ну, дело ваше, женихайтесь, празднуйте. А вернешься – отпируем настоящую. Даст бог, и я к тому времени крепче стану.
– Лизавета Артемьевна, – набравшись решимости, жестко сказал Коля, – вы не так поняли. Мы сейчас поженимся, и мы не хотим расставаться, Лидинька поедет со мной.
Увидев испуганное лицо старухи, он добавил:
– Конечно, когда вам станет лучше…
Но старуха энергично села, затряслась в старческой бессильной злобе и закричала:
– Не будет этого! И обсуждать тут нечего! Иди лучше добром, выгоню!
– Лизавета Артемьевна…
– Выгоню! – крикнула старуха и взмахнула тощей ручкой с набухшими жилами. – Не пущу Лидку, сама не поедет, врешь! А будешь ей голову крутить – так и говорю обоим: прокляну! Так и передай Лидке – прокляну, и кончен разговор…
Она бессильно опрокинулась на подушки и захныкала:
– И уходи ты от меня, пожалуйста. Выйду из больницы, будет время – наговоримся, а сейчас уходи. И что это, право, в больницу прибежали, приспичило… умереть спокойно не дадут…
Старуха закатила глаза, будто потеряла сознание. Но краешком глаза зорко следила за женихом. Коля встал, потоптался, сказал растерянно:
– Зря это вы, Лизавета Артемьевна…
Она не двигалась.
– Ну, как хотите, Лизавета Артемьевна, наше дело было сказать…
И пошел к двери.
Старуха поднялась, хотела что-то ответить – и, на этот раз по-настоящему, без чувств повалилась назад.
А Коля Платт бежал домой, весь дрожа от негодования и злости. Его запутали, его обманули. Лидинька принадлежала ему, но он не мог назвать ее своей женой, он не имел власти над нею, он должен был оставить ее здесь. Он вспомнил всех этих парней, которые вечно крутились около нее… Вспомнил ее кокетство, ее шутки, ее песенки под гитару, которые будут слушать другие, другие…
Лидинька сидела на кровати в пальто и берете. Когда он вошел, она только посмотрела ему в лицо – и все поняла.
Он стал рассказывать.
Слезы потекли по ее щекам, но она молчала.
– Подумаешь – ее согласие! – презрительно сказал он. – Мы сделали все, что могли, мы хотели устроить все по-хорошему, а теперь черт с ней! Наше дело было сказать…
Лидинька вскочила, возмущенная:
– Как ты можешь! Она больной человек. Она несчастный, больной человек… Что она будет делать без меня?
– Ну конечно, ты уже сдаешься! – запальчиво крикнул он. – Ты уже струсила, ты готова остаться, лишь бы твоя мама не накричала на тебя!..
Она побледнела, но сказала твердо:
– Ты знаешь, что я хочу ехать… Но как я оставлю ее? Если бы она поняла сама… Я не хочу убивать ее… Я тебе клянусь, что приеду, как только будет можно… А сейчас – нет, нельзя, это убьет ее.
Подавляя раздражение, он сказал:
– Но ведь она хроник… Неужели ты веришь, что она поправится так скоро?
Он думал о смерти, но не смел сказать это. Лида поняла. Слезы брызнули из ее глаз.
– Я не могу убивать ее! – повторяла она упрямо. – Раз она не хочет, я останусь…
Тогда он дал волю своему гневу.
– Ну что ж, оставайся! Только не надо говорить, что ты меня любишь. Ты запуталась, запутала и меня. Теперь-то я вижу! Вижу! Скажи прямо, что ты испугалась этого дурацкого проклятия. Скажи прямо, что ты мещанка и маменькина дочь, что любовь, комсомол, идеи – все ложь, ложь, ложь!
– Коля!
– Молчи уж! Не притворяйся. Если бы ты любила, ты не стала бы колебаться, ты поехала бы со мною, и пускай все пропадет.
– Да ведь я люблю тебя! – крикнула она в отчаянии. – Ты же знаешь, что я люблю тебя. Если бы она была здорова…
– Она притворяется! – крикнул он вне себя. – Она хитрая старуха. А ты – яблочко от яблони недалеко падает, вот что я тебе скажу.
Она испуганно молчала. Она никогда не видела его таким.
– Ты клянешься, что приедешь? – он зло рассмеялся. – Дурак будет, кто поверит! Да ты побоишься дороги, ты побоишься, что будет холодно, что будет неудобно, ты пожалеешь свои вещи…
Она сказала, дрожа от обиды:
– Я комсомолка, я ничего не боюсь для себя, ты прекрасно знаешь. А мама…
Он подхватил со злостью:
– «Мама», «мама»!.. Ты не комсомолка, а маменькина дочь. Твоей любви грош цена. Ты все забудешь через месяц, можно не сомневаться. Еще бы! За тобою целый хвост, старуха сама выдаст тебя замуж…
– Коля!
– Что «Коля»! Она прикрикнет на тебя, и ты выйдешь… поплачешь и выйдешь… Она тебе подыщет женишка, и не такого, как я, а богатенького, с комодами, с подушками, с полтинниками в чулке. Мне противно! Противно!
Он готов был кричать еще долго, выдумывая новые и новые оскорбления. Но Лидинька вдруг опустилась на пол, уткнула голову в подушку и разревелась до судорог.
Это отрезвило его. Он раскаялся в своей резкости, испугался, стал рядом с Лидинькой на колени и взял обратно все свои упреки. Но Лидинька продолжала рыдать и только повторяла с отчаянием: «Я такая несчастная, такая несчастная!..»
Он уложил ее на кровать, отпаивал водой, целовал ее мокрое, дрожащее, несчастное лицо, умолял простить его.
Потом Лидинька спохватилась – пора домой, скоро вернется тетка, будет скандал.
Он проводил ее, и ему было ясно, что самое худшее произошло: он невольно согласился с нею, Лидинька останется, он уедет без нее.
4
Четыре девушки – ткачихи и комсомолки – только что получили путевки на Дальний Восток. Все четыре ехали добровольцами. Тоня Васяева вызвалась первая, потому что ее привлекали трудности и борьба; Соня Тарновская ехала потому, что ехал Гриша Исаков; Клава Мельникова – потому, что работать на Дальнем Востоке казалось ей очень интересно, а Лилька – чтобы не отставать от подруг: девушки жили коммуной, вчетвером, и Лилька не хотела остаться одна, да и почему не посмотреть новые места, если представляется случай.
Придя домой, в светлую комнату с четырьмя койками, девушки еще раз со всех сторон оглядели свои путевки и вдруг поняли, что разговоры окончились, дело свершилось – скоро отъезд. И все невольно задумались – никто из них не уезжал еще из родного города Иванова.
Соня села с ногами на койку, обхватила колени руками и мечтательно заговорила:
– А мы с Гришей думали летом в Ленинград поехать… В музей пойти, в Петергоф съездить, фонтаны посмотреть, белые ночи…
– Ну что ж, а на Дальнем Востоке – тайга, – сказала Клава. – Если пойти без компаса – заблудишься. Мне охотник один рассказывал: идешь по тайге, кажется тебе – прямо идешь, а сам по кругу вертишься. Сутки проходишь – на старое место вернешься… Так и гибнут некоторые.
– Медведи могут задрать, – шепотом сказала Лилька, вытаращив испуганные глаза.
Тоня отвернулась, легла на дальнюю койку, закинула руки над головой, глаза прикрыла. Молчальница.
Клава покосилась на нее и сказала многозначительно:
– Открытому человеку везде хорошо. Нам здесь весело жилось – и там весело будет житься… А когда построим Дальний Восток, побываем и в Ленинграде, и в Москве, и на Кавказе.
– Я бы туда поехала, где фруктов много, – со вздохом сказала Лилька. – Вот читаешь: гранаты, бананы. А какие они? Не видала!
– «Королева просила перерезать гранат», – продекламировала Соня с блуждающей улыбкой – она вспомнила Гришу Исакова и стихи, которые он читал ей.
– Ты бы картошки начистила, королева, – не открывая глаз, резко сказала Тоня.
Соня промолчала, но не двинулась с места. Клава сделала гримаску в сторону Тони и начала растапливать печурку.
– Все-таки скучно там будет, – сказала Лилька. – Ни театра, ни кино. Какие там развлечения, если тайга да медведи?
– Развлекаться везде можно, – быстро и убежденно возразила Клава. – Мне вот никогда скучно не бывает. И Соньке тоже. Ну, Сонька влюблена, это понятно, а я сама счастливая.
Она тихонько засмеялась и с улыбкой смотрела на разгорающийся огонь.
Тоня открыла глаза и переспросила с живым интересом:
– Сама счастливая? Это как же так?
– Я других не жду, – охотно откликнулась Клава, – я сама себя развлекаю… Работаю и песни придумываю. Сама себе пою. И хорошие такие песни получаются, громко так не споешь, голосу не хватит. Или гулять иду – приключения придумываю. Как в книгах. Вдруг кого-нибудь встречаю и спасаю от смерти, или он меня спасает, и оба влюбились с первого взгляда. Или ночью лягу – сказки составляю. Возьму первую строчку наугад: шел мужик лесом и вдруг видит – сидит на дереве райская птица и говорит человечьим голосом: «Остановись, несчастный!» – а потом придумываю – почему да отчего… Интересно иногда складывается… прямо хоть записывай…
Огонь разгорелся. Если смотреть внимательно и от всего отвлечься, в пламени можно увидеть многое. Клава видела и сражения, и города, и стаи испуганных птиц, и сказочных рыцарей с конскими хвостами" на шлемах.
Тоня тоже смотрела на огонь, но ничего, кроме огня, не видела.
– А знаете, девушки, – заговорила Клава с увлечением, – пока мы в горкоме дожидались, я вот что придумала: что, если бы мы все вдруг переменили профессии? Ведь совсем другие люди получились бы! Возьмите хоть Гришу Исакова. Мюльщик, рабфаковец, поэт. Видно это по нему? Видно. На спину посмотришь, сразу скажешь – мюльщик, а в глаза посмотришь – поэт… Помните, мы в Доме культуры балет смотрели? И вдруг Гриша стал бы балетчиком!
Лилька взвизгнула:
– В трико!
И покатилась со смеху.
Соня обиженно покачала головой.
– Не в трико дело, – возразила Клава. Ее мысль была глубже и казалась ей очень занятной. – Вы подумайте. Сейчас он чем живет? Ну, работает, о выработке думает, стихи составляет. А тогда чем? Перед зеркалом тренировался бы, какую позу принять, какое движение сделать, о костюме заботился, чтобы красивей быть… Ведь совсем заботы другие, все мысли меняются.
Лилька хихикала, ее смешило – Гришка в трико!
– Или вот я. Если бы я была не я, а цирковая наездница. Могла бы я тогда комсомолкой быть?
Тоня подняла голову, строго отрезала:
– Комсомолкой можно быть везде.
И повернулась лицом к стене.
– Конечно, – неохотно согласилась Клава. – Только вы представьте, девушки, я – и вдруг вылетаю на арену, в юбочке такой, в золотых блестках, в шляпе с белым пером, стою на лошади на одной ноге и рукой в воздухе: вуаля! Знаете, как они делают…
Она покосилась на спину Тони, подмигнула и продолжала:
– Или вот представьте Тоню знаменитой певицей. Платье на ней шелковое с хвостом, руки голые, на плечах меховой палантин – станет у рояля, музыканту кивнет, чтоб начинал, и запоет на весь зал: «Бьется сердце беспокойное, затуманились глаза…»
Лилька и Соня смеялись. Тоня сказала недовольно:
– Глупости все.
Встала и молча вышла из комнаты.
– Вот ведь сухарь какой! – бросила вслед Соня и вздохнула. Она боялась Тони.
Тоня вернулась с котелком картошки, высыпала картошку на колени и стала чистить ее. Лилька взяла нож и. принялась помогать. Клава и Соня молчали. Всем расхотелось болтать из-за Тониного угрюмого лица.
И вдруг мягко заговорила Тоня:
– Девушки, я вам про мать свою не рассказывала?
И в лице ее мелькнуло не то отчаяние, не то просто страх, что не поддержат девушки, не захотят слушать. Клава поддержала:
– Нет, не рассказывала.
А Лилька застыла с ножом в руке – удивилась, что у сухаря Тони есть мать.
– Вот ты сама счастливая, – сказала Тоня и прикрыла глаза. – А во мне ненависти много, зависти много.
Лилька уронила нож.
Тоня говорила резко, чуть хрипловатым голосом, а руки ее аккуратно и быстро обчищали картошку:
– У каждого человека горе бывает. Но не всякий такое видел, что и рассказывать стыдно… а я, как себя помню, в отхожем месте жила. В парке. Парк большой был, общественный. И отхожее место было – целый дом: половина мужская, половина женская. Мать там уборщицей была. Сперва, верно, в другом месте жили, а потом отец помер. Нас было трое, все маленькие: мы с сестрою да братишка. Мы на женской половине жили – по одной стене стульчаки в ряд, с перегородками, а по другой стене окошко, известкой замазано. Под окошком и жили. Кровать стояла. Шкафчик. На кровати и ели и спали все четверо. Потом сестренка умерла – трое стало. А вони не замечали – привыкли…
Она помолчала, снова заговорила, ни на кого не глядя:
– Дамы заходили. Девицы разные. Все веселые, с гулянья. Копейки нам давали. Иногда иголку с ниткой спросят. Или туфли почистить. Однажды зашла большая барыня с двумя дочками. Девчонки моих лет. Я так и уставилась на них. Белье с кружевами. Шляпы соломенные на лентах по спине болтаются. Барыня все морщилась, все боялась, что грязно. Все девчонкам приговаривала: «Осторожно, осторожно, ни к чему не прикасайтесь, это же зараза, зараза».
Тоня выронила картошку, нагнулась за нею, да так и осталась.
Лилька вдруг всхлипнула:
– Господи, Тонечка, мы ведь не знали.
Тоня резко подняла голову и продолжала хрипловатым и ровным голосом, будто и не слыхала Лилькиных слов:
– Когда братишка немного подрос – вы знаете его, Николай, математик, он приезжал зимой, – еще хуже стало. Парень высокий, большой, неудобно. Стали выгонять его. Весь день до ночи по улице бегает. Мы поедим, а ему миску вынесем, он и жрет, как собака, на улице. А если холодно, на кровать уложим, тряпьем прикроем, мать прикрывает его с головой, чтобы не заметили, да вдруг как заплачет…
Лилька сопела носом, сдерживая слезы.
Тоня сердито махнула на нее рукой, сказала спокойно:
– Потом тифом заболели. Мать умерла, братишку в приют отдали, а в революцию приехал дядя и меня сюда привез. Мать ивановская была до замужества, а дядю вы знаете – мастером теперь. Пришел Евграфов, старый ткач, он и теперь у Соньки в этаже работает. Он с мамой вот с этих лет знаком был. И пришел меня посмотреть. Мне уже девять лет было. Долго смотрел, по голове погладил. И говорит: «Похожа на мать. Узнаю. Только Олюшка веселая была. Певунья. В перерыв, бывало, выбежит во двор и запоет. А пела – все забудешь, заслушаешься. Даже хозяин останавливался слушать. Любимая песня ее была – „Полянка, полянка…“ После, – говорил Евграфов, – в опере бывал не раз, а такого голоса уже не слыхал…»
Тоня вдруг вскочила, уронив картошку с колен, и бросилась из комнаты.
Все молчали, избегая встречаться взглядами.
Потом Клава побежала за Тоней. Тоня стояла в темном коридоре и плакала навзрыд. Клава обняла ее и тоже заплакала.
5
Солнечная Одесса вся золотилась в жарких весенних лучах. И снова, как летом, казалось, что в этом городе никто не работает, – столько всякого народа праздно шаталось по улицам, столько было людей, может быть только что окончивших тяжелый труд, но всеми своими движениями, всем своим обликом похожих на бездельных ротозеев, для которых только и существует на свете, что веселая одесская улица, солнце, болтовня и синее море на горизонте. В этой толпе, также праздно и медленно двигаясь, также глазея по сторонам и не спеша переговариваясь, шли два молодых человека. Один был мощен, широк, высок – великолепный образец мужской красоты и силы. Другой был худощав, мал ростом, невзрачен – не то подросток, не то юноша. И в то время как первый свободно распахнул куртку, подставляя солнцу румяную грудь в голубой полосатой майке, второй зябко кутался в осеннее пальто.
Это были два друга, известные всей Одессе и особенно всему судоремонтному заводу, – лучший форвард заводской футбольной команды Геннадий Калюжный и лучший заводской изобретатель Сема Альтшулер – оба токари, оба коренные одесситы, навсегда связанные между собой узами глубокой дружеской любви.
Сема сказал, подняв лохматые брови:
– Они знают, что я могу и чего я не могу?
После паузы ответил Геннадий:
– Я. им говорил: если надо ворочать камни – позовут меня. А если надо ворочать мозгами – кто будет это делать, если не Сема Альтшулер? Они говорят, что ты слабый здоровьем и завод тебя не отпускает. Они говорят, что ты будешь инженер и гордость завода.
Поразмыслив, заговорил Сема:
– А ты не гордость завода? Посмотрим, кто будет забивать киевлянам на встрече Киев – Одесса. Может быть, я? Или секретарь райкома?
Они долго шли молча.
Футбольное поле уже манило их своим простором, стиснутым со всех сторон неспокойной и шумной толпой. И тогда Сема сказал:
– Я пойду и скажу им, что они дураки. И если им нужны только биндюжники вроде тебя, я скажу им, чтоб они убирались сами, пока их не прогнали другие.
Когда Геннадий надумал ответ, Семы уже не было. Он быстро шел назад, полы его пальто развевались на ходу. Геннадий постоял, поглядел ему вслед и пошел в раздевалку.
Сегодня была первая весенняя игра. Игра – рядовая, тренировочная, но, казалось, вся неугомонная и любопытная Одесса сбежалась «болеть» на трибуны стадиона. И когда две команды – голубая полосатая металлистов и черно-красная пищевиков – мерным шагом выбежали на поле, тысячная масса зрителей разом застыла, готовясь стонать и радоваться при первых же ударах по мячу.
Толстый судья, уже много лет лишенный возможности лично участвовать в игре, но ощущавший острую дрожь наслаждения при одном виде упруго подскакивающего мяча, – толстый судья подтянул живот, строго оглядел публику и поднес свисток к губам торжественным и плавным движением, каким горнист на параде поднимает фанфару.
Мяч взлетел высоко вверх, повертелся, словно поддерживаемый тысячами жадных взглядов, и, потеряв силу, полетел вниз, прямо в середину трепещущего клубка игроков. Клубок закружился как одно пестрое, черно-красно-голубое тело, и вдруг мяч выскочил на свободу, ведомый опытной ногой, но тотчас же другая опытная нога перехватила его, мяч полетел в сторону, его снова поймали… Игра началась.
А в одесском обкоме комсомола перед отборочной комиссией по мобилизации на Дальний Восток Сема Альтшулер произносил речь, гордо скрестив на груди сухие нервные руки:
– Я вас спрашиваю: вы себе отдаете отчет, что вы делаете и что надо делать? Может быть, вы никогда не изучали исторического материализма и ничего не слыхали о роли личности в истории? Или вы знаете, что был Наполеон, и для вас все не Наполеоны – мелочь и барахло?
– Это ты – Наполеон? – сказал председатель комиссии. – Будем знакомы.
Но Сема только отмахнулся:
– А если я вам скажу, что Наполеон был маленького роста, и Суворов был маленького роста, и все-таки их имена знает всякий школьник, – а кто знает ваши имена? Сейчас не царское время, чтобы зашибать маленьких людей. И если я не уродился здоровым, что же, прикажете вешаться или сидеть дома, пока не подрасту? Если для вас люди – это такие жлобы, как мой лучший друг Калюжный, так возьмите у меня комсомольский билет, и не будем говорить о гордости завода. А если я человек и комсомолец – пишите мне путевку, и забудем про мой рост. И если я решил строить социализм на Дальнем Востоке, я хочу посмотреть, кто может меня удержать!
Председатель комиссии сказал растерянно:
– Не будем говорить про твой рост, но разве социализм только на Востоке, разве здесь, на заводе, ты не строишь социализм тоже?
Сема взмахнул руками и презрительно рассмеялся:
– Когда здесь будут нужны люди больше, чем на Дальнем Востоке, я приеду обратно, и Генька приедет тоже. Но если сейчас комсомольцев зовут на Дальний Восток – какое право вы имеете не пускать меня? И как вы можете думать, что Калюжный поедет, а я останусь, когда во всей Одессе знают, что еще не бывало дня, чтобы мы не встречались, и когда команда ездила в Николаев, я взял отпуск и поехал с ними в Николаев.
Комиссия не нашла возражений.
И Сема скомандовал, так как победа осталась за ним:
– Давайте мне анкету, пишите путевку, и не надо задерживать, потому что игра уже началась, и я не понимаю, почему вы сами не бежите на стадион? Или физкультура не дело комсомола?
На стадионе голубые полосатые вели напористое нападение на ворота черно-красных. В центре общего внимания были Генька Калюжный и Борис Хаймович. Никому не удавалось провести мяч мимо их ловких и быстрых ног; мяч прыгал и метался от одного к другому, вот он взлетел вверх, вот его принял головой Борис Хаймович и неожиданно передал крайнему левому голубому, крайний левый стремительным ударом послал его по лабиринту ног прямо в ноги Геньке Калюжному – и мяч в воротах черно-красных; черно-красный защитник растерянно жмурится, вздыхает и оглядывается на трибуны, а на трибунах стоит визг, рев и стон, и только опытное ухо различит отдельные выкрики приветствий победителям и насмешек над побежденными.
Но игра продолжается. Черно-красные рвутся в бой, стремясь отыграться во что бы то ни стало. Под их неудержимым натиском игра перекинулась к воротам голубых, и голубым никак не удается увести мяч со своей половины. На трибунах все повскакали с мест. Толстый судья приседает на корточки, забыв про свой живот.
Генька Калюжный ринулся навстречу черно-красному форварду, ловким боковым ударом выбивает у него мяч, на короткой пассовке передает Борису – и мяч взвился вверх, закружился и сильным ударом головы отброшен на половину противника. Генька летит за ним как птица, за ним летят и голубые и черно-красные. Генька завладел мячом, он обманывает и обходит противников; с трибун несется вой одобрения, и вдруг из этого воя вырывается пронзительный и хорошо знакомый голос:
– Геньчик, на тебя бегут сзади!
Это Сема. Он протискался к самому барьеру, вцепился в него напряженными пальцами и следит – следит – следит за полетом мяча и неуловимо быстрой и ловкой фигурой друга.
Черно-красные подбегают к нему сзади… Надо кричать, предупредить, спасти!
Но Генька уже ударил по воротам. Мяч отбит. Борис принимает его и снова без прицела шпарит в ворота; мяч снова отбит в ноги черно-красным. Вспотевший защитник вытирает лоб, но Генька молниеносно налетает на мяч и с ходу в третий раз отправляет мяч в ворота.
– Геньчик! Геньчик! Геньчик! – орет Сема вне себя от счастья и хлопает в ладоши. Пальто прыгает на его тощей фигурке, в глазах блестят слезы. На него никто не обращает внимания, вокруг тоже хлопают, кричат, неистовствуют; свисток судьи, возвещающий перерыв, тонет в этом неистовом шуме… И вдруг с трибуны на поле спрыгивает одна фигура, потом другая, третья, десятая, сотая – поле заполняется, и никакая сила не может сейчас прекратить этот стихийный напор восторга.
Около Геньки Калюжного, окруженного толпой болельщиков, появляется секретарь комсомольского райкома. Секретарь тоже бледен от возбуждения, он жмет Геньке руку и говорит, тщетно стараясь придать своему лицу и голосу выражение спокойного и уверенного превосходства.
– Вот что, Калюжный. Мы не должны были тебя отпускать. Пиши заявление. По семейным обстоятельствам. Райком пересмотрит решение.
Судья отчаянно свистит. Сторожа загоняют публику обратно на трибуны.
Футболисты расходятся по местам. Игра возобновляется в том же стремительном темпе. Секретарь райкома задыхается от волнения и вместе с другими кричит, позабыв о спокойном превосходстве руководителя:
– Сам, Калюжный, сам!
В трех шагах от него, вцепившись в барьер напряженными пальцами, истошно кричит Сема:
– Геньчик, держи! Геньчик, сам!
Над шумной Одессой, над тихим морем медленно опускается солнце…
Толстый судья шел домой в плотном кругу болельщиков. Он отдувался, с трудом взбираясь по ступеням, и говорил внимательным слушателям:
– Э, что такое сила без ума? У Калюжного умные ноги!
А Калюжный и Сема шли вдвоем, избегая толпы. Сперва они молчали, переживая радость победы. Потом Сема сообщил:
– Дело сделано. Они попросили прощенья, путевка в кармане, и ты не поедешь один – с тобой поеду я.
Генька обернулся, сверху вниз посмотрел на приятеля. Но спросил только:
– Окончательно?
– Ну да, подписано и припечатано! – радостно подтвердил Сема.
Калюжный промолчал.
– А что хотел от тебя секретарь райкома? – спросил Сема.
Генька пожал плечами.
– А я знаю?.. Так, дружеское рукопожатие и пожелание успеха.
И они пошли дальше, к дому Семы Альтшулера. Сема открыл дверь своим ключом, но тотчас по квартире зазвенели звонки – сигнализация от воров, придуманная Семой. Из кухни выскочила испуганная мать, – она все еще не привыкла к зловещему трезвону.
– Мама, – сказал Сема, – собери мне вещи, послезавтра мы уезжаем на Дальний Восток.
Друзья прошли в комнату, опутанную проводами, загроможденную радиоприемниками, моделями и металлическим хламом. Сема распахнул окно, нажал кнопку – и перед окном завертелся пропеллер, разгоняя застоявшийся комнатный воздух.
– Мама! – позвал Сема. – Слушай меня внимательно. Этот приемник я подарю тебе, чтобы ты слушала и развивалась. Только ты должна завести календарь и заряжать батареи каждые шесть недель. А тот приемник я дарю матери Геньки, пусть она развивается тоже. Все эти штуки, которые вам мешали, я заколочу в ящик и спрячу в кладовую, но если оттуда пропадет хоть один винтик, мама, ты отвечаешь своей головой.
Мать плакала. Из кухни донесся разбойничий посвист.
– Мама, перестань плакать, ты же слышишь, закипел чайник, – сказал Сема и ласково подтолкнул ее к двери. Здесь, среди сотни вещей, придуманных и любовно сделанных собственными руками, Сема и сам расчувствовался.