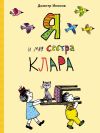Читать книгу "Мужество"

Автор книги: Вера Кетлинская
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Сначала в гроб постелили два новых одеяла из приданого молодой женщины. Укладывая, их надрезали ножом по самой середине. Потом стали приготавливать покойницу. На ней был светлый шелковый халат с китайскими вышивками вокруг ворота, на рукавах и по подолу. На ногах поверх расшитых белых чулок были надеты туфли лосиной кожи и синие наколенники.
Наймука положил у гроба ворох одежд. Он поднял в воздух бархатный, украшенный тесьмою и раковинами халат, не торопясь повертел, чтобы все успели разглядеть, затем полоснул его ножом, бросил отрезанный лоскут в толпу и стал надевать халат на мертвую. Все старались помочь, торопясь увидеть, сколько халатов наденут на Урыгтэ. Халаты были меховые, суконные, шелковые и сатиновые; с китайскими вышивками, и расшитые нанайским сложным узором, и отделанные лентами и кружевами; было два халата из рыбьей кожи, были халаты с пуговицами, и с морскими ракушками, и с бронзовыми побрякушками, которые звенели при каждом движении.
Надев на Урыгтэ все, что было возможно натянуть, Наймука и отец взяли бесформенный труп и осторожно опустили в ящик. Женщины у костра завыли громче. Мужчины стали бить посуду, принадлежавшую Урыгтэ, черепки складывали в гроб. Но вещей оставалось еще много. Наймука поднял кусок пестрого китайского шелка, пожелтевшего на сгибах от долгого лежания в сундуке, проткнул его ножом и положил в гроб. За шелком последовали ситцы, бархат, шерсть, сатины. Потом полетели в гроб трубки, и лоскутная кукла, и нитки, и крючки, и много других мелочей, принадлежавших Урыгтэ. Непрерывно мелькал в воздухе нож, летели в толпу лоскутки, обрезки, черепки; их подхватывали и прятали на счастье: у самых ловких зрителей раздувались карманы.
Снова появился Ходжеро.
Ходжеро заглянул в гроб, но уже не увидел Урыгтэ – она была завалена вещами. У него задрожали губы и подбородок. Опустив голову, он бережно положил в гроб маленькую камышовую трубку и ушел. Трубку подарила ему Урыгтэ в обмен на его подарок. Трубка принадлежала ей. Она должна была уйти в землю вместе с Урыгтэ.
Ходжеро сел в лодку и пустил ее по течению – так, без цели, чтобы разогнать тоску. Если бы у него были деньги на калым, Урыгтэ была бы его женой. Но денег не было, и теперь не стало и Урыгтэ.
На тропинке, ведущей из соседнего маленького стойбища, Ходжеро увидел приезжего русского с Михайловым. Они шли рядом, вяло переговариваясь. Немного дальше Ходжеро увидел Степана Парамонова, быстро удаляющегося в сторону своего стойбища. Степан Иванович был русский охотник. Он приехал сюда пять лет назад, построил избу на окраине маленького стойбища, завел огород, корову, собак, жил молчаливо и замкнуто, зимою подолгу ходил в тайге за зверем, а летом огородничал, рыбачил, мастерил забавные вещицы из дерева и бересты. Нанайцы сперва косились на русского пришельца, а потом привыкли к Степану Ивановичу, покупали у него забавные вещички, расплачивались беличьими шкурками, а нанайские ребятишки стали играть с ребятишками Степана.
Только комсомольцы не любили, избегали Степана, потому что он неизменно спрашивал при встречах:
– Ну, комсомол, а что значит ком-со-мол? Ве-ка-пе-бе?
Комсомольцы не умели толком объяснить, и Степан смеялся над ними.
«Сволочь!» – мысленно обругал его по-русски Ходжеро. Потом подумал: «Русские были у Степана в гостях». И забыл о них.
А Парамонов и Михайлов прошли мимо кладбища, мимо интеграла и подошли к самому большому дому в стойбище, стоявшему на пригорке над рекой. Дом был глубоко врыт в землю, как фанзы, но крыша была железная, стены побелены, окна со стеклами, полы не земляные, а дощатые и крашеные, и комната отделялась от улицы широкими сенями, где были свалены в кучу корзины, сети, нарты, плетеные круги для рыбы и всякая хозяйственная утварь.
– Деламдени джегдо бы?[5]5
Хозяин здесь?
[Закрыть] – вежливо спросил Парамонов и вошел. Вслед за ним вошел и Михайлов.
В просторной комнате вдоль стен тянулись широкие каны, покрытые камышовыми циновками. В очаге горел огонь, и две женщины – молодая и старая – возились возле очага. Старый нанаец сидел с ногами на кане и большим ножом стругал кусок дерева. За ним, в углу, стоял нанайский бог – почерневший от времени коротконогий уродец в остроконечной шапке, с продырявленными точками вместо глаз. Другие боги – поменьше – висели над ним на веревочках, покачиваясь в струе воздуха. Старый нанаец не встал, но выронил нож и молча уставился на Парамонова.
– Здравствуй, Самар, – сказал Парамонов. – Узнаешь?
Гости сели. Нанаец молчал, раскуривая трубку. Парамонов предложил ему папиросу, и Самар охотно взял ее, отложив трубку. Улыбка мелькнула на его лице и пропала. Парамонов угостил женщин – обе смутились, спрятали лица, но папиросы взяли.
– А я думал, тебя нет здесь, – как бы вскользь сказал Парамонов. – Совет ничего не говорит?
Нанаец качнул головой, но промолчал.
– Тебя считают – кулак, – сказал Парамонов. – Голоса нет. На собрания тебя не пускай?
– Не пускай, – сердито заговорил нанаец. – Моя сам не ходи, и совет не пускай. Моя голос нет, налог есть. Хайтанин сегодня приходи, кричи, руками маши. Сын невеста покупай. Хайтанин кричи покупай нет, советская власть не могу покупай.
– Это про дочку Наймука, – объяснил Михайлов. Парамонов вспомнил светлую тень под деревом и песню Кильту. Он усмехнулся, но спросил участливо:
– Большой калым платишь?
Нанаец закивал головой. Старая нанайка быстро заговорила с молодой, и обе чему-то смеялись.
– Большой калым польза есть, – сказал нанаец. – Малый калым плати – первый год халат шей, унты шей, все купи, все шей. Большой калым плати – пять лет ничего не шей. Наймука много халат давай, одеяла давай, все давай. Богатый. Сегодня жену хорони – богато хорони. Дочка замуж давай – тоже богато давай.
– А Хайтанину какое дело?
Нанаец плюнул и потянулся к своей трубке.
– Комсомол кричи нельзя, – сказала старая нанайка не то возмущенно, не то вызывающе. Молодая фыркнула и выбежала из комнаты.
– Это везде так, – сказал Парамонов. – Здесь еще хорошо. Не добрались. Скоро и тебя раскулачат. Голоса лишили? А теперь и дом заберут. Ты кулак. Торговал. На Сунгари лодку гонял. Китай ездил, товар привозил, продавал.
– А твоя торговал, Степан торговал – ничего? – обиженно возразил нанаец.
– Так разве нам хорошо? Плохо тебе, плохо всем, – сказал Парамонов. – Хайтанин задавил. Интеграл задавил, – он вдруг улыбнулся, вспомнив про сидящего тут же Михайлова, и спросил, показывая на него пальцем: – Товарищ Михайлов тебя не – обижает?
Нанаец засмеялся шутке и крикнул жене:
– Чепчи бы? Лача чепчи буру![6]6
Кушать есть? Русским надо дать кушать!
[Закрыть]
Парамонов, видимо, понял его распоряжение и добавил:
– Да позови Наймука Алексея, пусть девочка сбегает.
Обедали только мужчины – женщинам полагалось есть отдельно. Алексей Наймука пришел мрачный и подавленный. Присутствие Парамонова, видимо, тоже не веселило его. Но Парамонов поставил на стол бутылку спирта, и после нескольких глотков «горячей воды» Наймука оживился. На низеньком столе, установленном на кане, появилась юкола – сушеная рыба, и копченая, отделенная от костей рыбья мякоть; белое перетопленное сало сохатого – его резали кусками – и такое же сало, растопленное в миске на огне, – в него макали хлеб; вареные кишки с белым мясистым жиром внутри – их нарезали ломтиками, как колбасу. Под жирную закуску незаметно выпили по чашке спирта. Парамонов привычно по-нанайски брал рыбу и сало руками, чокался с нанайцами чашкой, и нанайцы охотно выполняли приятный русский обычай. Михайлов тоже чокался, но ел неохотно, брезгливо оттопыривая губу и часто вытирая пальцы платком.
А женщины уже разрубили на большие куски темное сохатиное мясо, и на очаге булькал в горшке кипяток. Хозяйка бросила мясо в кипяток – бульканье прекратилось. Потом потихоньку запела, вновь закипая, вода. Но хозяйка уже вытаскивала из горшка темное, слегка обваренное мясо и укладывала его на тарелку.
Гости встретили мясо приветствиями. Наймука уже напился и повторял:
– Хороший вода! Моя любит горячий вода!
Нанайцы и Парамонов хватали мясо руками, вгрызались зубами в его твердоватую массу и быстро ножом у самого рта отрезали кусок за куском. Михайлов с уважением следил, как ловко орудует ножом Парамонов, но сам не решался следовать его примеру и вяло ковырял мясо в тарелке.
Еще не докончили мяса, как старуха с дочкой притащили к столу дымящийся котел с вареной уткой в лапше.
Парамонов снова налил в чашки спирт.
Наймука прослезился. Самар смеялся, икал и гладил себя по. животу.
Все были сыты.
Женщины уже присели в другом углу, доедая обильные остатки. И тогда Парамонов сказал:
– А помните, друзья, как мы с вами собирали ружья?
Нанайцы вздрогнули. Жена Самара подняла голову от еды. Михайлов равнодушно смотрел в окно, только руки его дрожали.
– Сто ружей собрали, да? – продолжал Парамонов. – И для белых собирали, да? За это теперь не похвалят.
– Такое дело надо забывай, – сказал Наймука быстрым полушепотом, – моя не хочу вспоминай. Много солнца прошло, белый борода стал, не надо вспоминай.
– Да, – медленно протянул Парамонов, – хочу не хочу, а если другие люди вспомнят, плохо будет твоей бороде.
Нанайцы настороженно молчали. Они чуяли, что не зря приехал нежданный гость и богатым обедом от него не откупишься.
– Вот я теперь большой начальник, – сказал Парамонов, как бы размышляя вслух, – и если скажу – после водки или по обиде – большая беда вам будет. Большая беда!
Нанайцы сосали трубки, ждали.
– На Амур много людей приехало, – продолжал Парамонов, – два парохода, четыре парохода. Люди идут в тайгу, строят большой город, большие заводы. Плохо будет нанайцам. Зверь не любит дыма, рыба не любит нефти. Уйдет рыба, уйдет зверь. Что будет делать нанаец без рыбы и без охоты?
Нанайцы задвигались. Им хотелось расспросить, но они боялись, они выжидали, куда клонит Парамонов.
– Люди будут приходить сюда, – резко сказал Парамонов, – требовать рыбу, мясо, сено. Иван Хайтанин будет говорить – надо давать! А я говорю – не надо давать! Если давать – останутся люди, уйдет рыба, уйдет зверь. Если не давать ничего – нечего кушать людям, голод будет, лошади будут умирать, люди болеть, – уедут обратно.
Жена Самара возбужденно сказала с места:
– Совет скажет давай, как наша моги не давай?
– Хамабису![7]7
Молчи.
[Закрыть] – крикнул Самар, метнув на женщину злобный взгляд.
– Я приехал вас предупредить, дать совет, – объяснил Парамонов, пропуская мимо ушей слова женщины. – Я хочу вам помогать. Но если вы не хотите слушать, я могу сделать вам большая беда: могу вспомнить дело, которое все забыли.
– Зачем вспоминай? Тебе польза нету, тебе тоже беда, – сказал Наймука, уже протрезвев от страха.
– Мне беда – не страшно. Я сегодня – здесь, завтра – Хабаровск, послезавтра – Харбин. А куда пойдете вы? Куда дети, жена, дом?.. Ничего не давать! – вдруг властно крикнул он, зорко вглядываясь в перепуганные лица нанайцев. – Приказываю вам не давать ни-че-го! Сами не давать и все стойбище не давать!
– Почему стойбище будет слушай? – снова подняла голос женщина.
– Хамабису! – вторично крикнул Самар, но вопросительно посмотрел на Парамонова: женщина спрашивала правильно.
– Надо делать так, – мягко заговорил Парамонов, – надо говорить с каждым хозяин отдельно. Каждому хозяин надо объяснить: уйдет рыба, уйдет сохатый, уйдет белка и лиса – беда будет. Помирай нанаец. Иван Хайтанин может жить, советская власть платит ему деньги, а другие не могут жить. Поняли?
Наймука и Самар кивали головами.
– А теперь выпьем, – сказал Парамонов ласково и налил в чашки еще спирту.
Жена Самара поставила на стол печенье и конфеты.
Михайлов развернул пеструю бумажку и медленно обсасывал твердый леденец. Его руки уже не дрожали, но ему томительно хотелось, чтобы ушел Парамонов, и чтобы можно было тихо сидеть у окошка, и чтобы жена сидела напротив с рукодельем.
– Товарищ Михайлов уедет месяца на два, – сказал Парамонов. – Если что надо, к вам будет приходить мой брат Степан.
Когда они шли домой, Михайлов сказал сдавленным голосом:
– Стар я, Николай Иваныч… если бы кого другого…
– Зажился! – побагровев, прикрикнул Парамонов. – Ждешь, когда и отсюда вычистят? Шляпа!
Вечером в «красной юрте» происходило комсомольское собрание. Комсомольцев было всего шесть человек, но сбежалась вся молодежь стойбища, да и пожилых людей немало собралось на манящий огонек керосиновой лампы. Кильту рассказывал о том, что на берегу Амура строится город, что на строительство города приехали комсомольцы и что они зовут к себе нанайскую молодежь.
Председатель сельского совета Иван Хайтанин сидел в уголке за печкой. Он был очень молод, ему едва исполнилось двадцать два года, но он учился в далеком городе Ленинграде, в Институте народов Севера, и чувствовал себя и старше и опытнее окружавших его сородичей.
Когда Кильту рассказал все, что знал, вышел вперед Иван Хайтанин. Его карие глаза светились, широкоскулое загорелое лицо вспыхнуло темным румянцем.
– Товарищи, – сказал он и поднял натруженную маленькую руку, – товарищи, мы живем дико, не видали даже Хабаровска. У нас нет больниц, нет бани, нет кино. У нас умерла вчера молодая женщина – некультурность убила Урыгтэ, дикость, грязь. Нет больницы, а старики шаманят, старики гонят черта – а кто его видел, черта? Сказки, обманывать дураков! А теперь советская власть строит на Амуре город. Будет больница, театр, автомобиль, магазин. В городе есть другой свет, он горит сам, не надо спичек, он идет по проволоке, надо только двинуть такой крючок на стене – и стеклянная бутылка дает свет. В городе магазины – что хочешь купи. И в городе школа, институты, для детей, для больших людей, кто хочет – учись. Мы, нанайцы, жили не как люди, а как паршивые собаки. Мы хотим жить как люди. Мы хотим город. Мы поможем строить город, товарищи!
В тусклом свете лампы по лицам бродили улыбки. Ходжеро сказал с места:
– Я поеду первый.
У двери стояла Мооми. Она замирала от предвкушения чего-то большого и нового, что надвигалось на нее. Она до головокружения боялась перемены, но все-таки чувствовала, что перемена похожа на свежий ветер, обжигающий лицо, и знала твердо, что ничто не сможет удержать ее от смелого, отчаянного шага прямо навстречу ветру.
20
Они были завоевателями, Колумбами. Эта земля принадлежала им, но она лежала кругом неизведанная и немного страшная, как только что открытая Америка.
Катя Ставрова рвалась в таежную глушь, чтобы изведать ее тайны. Она предложила друзьям большую прогулку в первый же выходной день. Она была уверена, что стоит отойти от села и от участков работ – и на каждом шагу будут ожидать необычайные и прекрасные приключения. Ее поддержал Епифанов; вернувшись со сплава, он воспринимал палаточный лагерь уже как город, и его тянуло в глушь, к неожиданно пересекающим путь горным ключам, к тихим зарослям незнакомых кустарников, в мягкие дебри прошлогодних засохших трав, в которых запутывается, проваливаясь, нога… С ними пошли Тимка Гребень, Круглов и Катин приятель Перепечко. По дороге к ним присоединился Валька Бессонов – он вечно попадался на Катином пути.
Было раннее утро. Жаркое солнце разгоняло туманную дымку, повисшую над берегом Амура.
Они поднялись на тенистый пригорок над самой рекой. Белостволые березы мягко шуршали молодыми листьями. Под березами торчали незатейливые кресты сельского кладбища. С пригорка были далеко видны Амур, плавный и широченный, как озеро, и темные сопки правого берега, упирающиеся в воду скалистыми подножиями.
На этом берегу комсомольское наступление уже видоизменило общий вид побережья. Под открытым небом лежали груды ящиков, бочки, тюки, бухты канатов. Горбились под брезентами станки. Над скатом все так же подслеповато глядели домишки села, но сразу за ними стояли бесчисленные палатки, и сама сельская улица совершенно видоизменилась – по ней группами ходили, бегали, играли в городки и в лапту сотни молодых людей. На церковной паперти чистили картошку.
Налево тянулся пустынный и болотистый берег, перерезанный протокой, соединявшей озеро Силинку с Амуром.
Сквозь листву, заслонявшую Силинку, поблескивала ее гладкая поверхность и видна была угрюмая, черная баржа, грузно осевшая в протоке. На барже помещался административно-технический штаб наступления.
А от берега на север, сколько глазу видно, вплоть до далекого горного хребта, замыкавшего горизонт, лежала перед ними тайга – расцветающая, опьяневшая от напора живительных весенних соков. Тайга карабкалась и на горы, теснилась в распадках, цеплялась за камни на скалистых кручах. Только на самых вершинах, обнаженных и острых, тяжелыми пластами лежал снег.
– Это вечные снега! – восторженно утверждала Катя.
Но Круглов смотрел не вдаль, а на то, что расстилалось прямо перед ним. Он видел дикую, нетронутую гущу тайги и верил, что она недолговечна.
– Вот здесь, – произнес он торжественно, указывая рукой на лежащую перед ним низину, – вот здесь вырастут доки, перед которыми самые высокие лиственницы – жалкие карлики.
– А ну, пошли знакомиться с карликами, покуда они целы, – сказал Епифанов и первым вразвалочку спустился с пригорка. Все двинулись за ним. Под ногами мягко подавался рыжий мох, склонялась молодая травка. Им попался куст багульника, усыпанный не лиловыми, а белыми цветами. Они удивились, каждый сорвал себе по ветке. Катя приколола цветок к волосам.
– Кармен! – бросил Валька Бессонов и засунул цветок за ухо.
Идти приходилось медленно. В ямах стояла весенняя вода. Иногда дорогу перегораживали огромные деревья, с корнями вырванные бурей. Комсомольцы с удовольствием перелезали через них, разглядывали мощные, уже обветренные корни.
– Идея! – вдруг сказал Круглов и остановился над поваленным деревом, сощурив один глаз и что-то соображая.
Как ни добивались от него друзья, в чем дело, так и не узнали.
– Озеро! – крикнул Епифанов, шедший впереди. Все побежали, не разбирая дороги, как будто озеро могло исчезнуть, если не прибежишь быстро. Только Круглов остался позади, занятый своими мыслями.
В тенистых заросших берегах лежало маленькое тихое озеро. В него смотрелись деревья; упавшая ветка неподвижно застыла на поверхности воды.
– Силинка! – объявил Валька Бессонов.
– Ты с ума сошел! – возмутилась Катя. – Силинка большая и с протокой, там пароходы стоять будут, а где же здесь пароход станет? Да в Силинку бревна сплавляли – где же эти бревна? Голова!
Валька сам понял, что напутал, и ограничился добродушным замечанием в сторону:
– Ну и заноза! Женись на такой – пропадешь.
– А ты не женись, – сверкнув глазами, ответила Катя и засмеялась. Вот уже месяц, со дня отъезда из Москвы, ее распирало все возрастающее ощущение счастья. Истоком этого ощущения были новизна и романтичность обстановки и то сознание девичьей свободы и легкости, которое охватило ее, как только поезд унес ее от Москвы – от мужа. Валька Бессонов не занимал особого места в ее мыслях, она просто включила его в общий круг веселых и радостных переживаний.
– Спаси бог! – с шутливым ужасом вскричал Валька.
– Бог не спасет, спасайся сам, – быстро отрезала Катя и побежала к самой воде, чтобы оставить последнее слово за собой.
Ноги увязали в тине. Из воды торчали какие-то водяные растения с жесткими четырехлистными шишками. Катя сорвала шишку и чуть не порезалась: шишка была чугунно-серая, с очень острыми на концах листками – не шишка, а металлический цветок. Друзья с интересом исследовали странное растение. Сходство с металлом было так велико, что Костя Перепечко даже заволновался: чем черт не шутит, может быть на Дальнем Востоке железо растет из воды?
– По весу не подходит – легок! – поправил его Тимка Гребень, но продолжал с интересом ощупывать растение.
На той стороне озера раздался треск сучьев и заколебались ветви кустов.
Комсомольцы насторожились. Не смотрели друг на друга, чтобы не признаться, что страшно.
Из кустов вышел человек с дробовиком и дружески помахал комсомольцам рукою. Это был высокий, тонкий, сухощавый человек с коричневым загаром, с резкими чертами сухого лица. На поясе у него болтались головами вниз две утки.
Комсомольцы и охотник пошли навстречу друг другу вокруг озера. Охотник шел быстрее – он умел выбирать путь, меньше спотыкался, легко обходил препятствия.
Катя бежала впереди всех, обуреваемая любопытством. Она бежала кратчайшим путем, оцарапывая руки и колени. В густом кустарнике она запуталась – светло-коричневые гладкие ветви не ломались и не клонились, они охватили ее со всех сторон. Она разозлилась, ободрала ладони и уже готова была зареветь от обиды, когда раздался дружеский голос:
– Запутались, дорогой товарищ?
Сильной рукой оттягивая непокорные ветви, охотник помог Кате выбраться из ловушки.
– Держи-дерево, – объяснил он, – крепкое дерево, нанайцы гвозди делают.
Забыв обиду, Катя во все глаза разглядывала охотника.
– Вы в тайге живете?
Он засмеялся и не ответил. А тут подошли все остальные. Круглов поздоровался с незнакомцем за руку и сказал обыденным голосом:
– Здорово, Касимов! Как охота?
Касимов кивнул на уток, снял с плеча дробовик и уселся на корягу. Катя села рядом. Она была разочарована. Нет, это не человек из тайги. Это Касимов, местный работник. Он помогал при разгрузке пароходов. Он курил ленинградские папиросы «Совет».
– Запомните это место, ребята, – сказал Касимов, закуривая папиросу, – скоро здесь не будет ни озера, ни держи-дерева, – он, усмехаясь, покосился на Катю, – и никто не поверит, что здесь охотились на уток.
Катино разочарование прошло. Она с восторгом смотрела на маленькое озеро, на тихие травы, полускрытые водой. Костя Перепечко предъявил металлический цветок и требовал объяснений.
– Озерный орех, – еле взглянув, сказал Касимов. – Медвежье лакомство. Разгрызешь – внутри орешек. Ничего, вкусный.
– А вы медведя видали? – с уважением спросил Валька.
Касимов показал рукой куда-то в сторону.
– Вон там однажды удирал от него. Шел на рябчиков, пулевого ружья не было. Гляжу, медведь поднялся. Я давай удирать.
– А убивать не убивали?
– Ну как. Убивал…
Он был немногословен.
– А как убивали? Один на один?
– Разно бывало, – сказал Касимов. – Случалось и в одиночку. А чаще несколько человек ходили. Ради мяса били: оно сладкое, вкусное. Убьем одного – две недели сыты.
– А вы с кем ходили? С охотниками?
– С партизанами. Ну, партизаны все охотники.
Вспомнилась песня: «Шли лихие эскадроны приамурских партизан…» Вот он, один из легендарных партизан!
– А вы долго партизанили? – спросил Валька. Катя с благодарностью посмотрела на него. Она сама хотела, но не решалась начать расспросы.
Касимов, видимо, не любил рассказывать. Он кивнул головой, спросил, зачем пришли сюда комсомольцы, и вызвался проводить их к Силинке.
– Это Малая Силинка, – сказал он. – Есть Большая Силинка и еще река.
– Я же говорил! – победоносно воскликнул Валька. Катя промолчала.
– А почему Силинка, знаете? Был здесь старик Силин из первых переселенцев. Богатый старик. Мельницу имел. От него и река стала Силинкой и озеро.
Он повел их тайгой. Останавливался, указывал комсомольцам новые породы деревьев. Всех заинтересовала черная береза – кора черная, как будто ее покрасили.
Озеро Большая Силинка было просторное, гладкое, такое же тихое. Справа по воде шла неторопливая рябь – там озеро сливалось с Амуром.
Касимов повел комсомольцев вдоль берега, иногда отходя в тайгу, чтобы укоротить дорогу. Чувствовалось, что ему знакомы здесь каждая кочка, каждое дерево.
Они вышли на просеку. Вывороченные пни торчали корнями вверх. Дощечка сообщала, что здесь «Третий участок. Ударная бригада Симонова». Просека утыкалась в озеро; под высоким берегом, в запани, покачивались пригнанные сплавом бревна.
– Наши голубчики! – с гордостью говорил Епифанов. – Дожидаются.
И все как будто увидели на месте оголенной просеки уже готовый, уже действующий лесозавод. И у каждого в душе на миг шевельнулась зависть к тем, кто попал на третий участок. Ведь бревна уже готовы, только работай.
Они прошли по участку бригады Симонова и снова углубились в тайгу.
В третий раз Силинка предстала рекой. Ее порывистое течение начисто промыло русло, и сквозь хрустально-прозрачную воду был виден обкатанный гравий. На извилинах реки образовались перекаты – здесь неглубоко, можно перейти вброд. Но зато течение так и крутит, того и гляди собьет с ног.
– Вам не перейти, – сказал Касимов Кате, – мужчине, и то тяжело. А вода круглый год студеная.
Все по очереди попробовали. Застывали пальцы, но на вкус вода была изумительна.
– Летом она пересыхает. А в паводок все кругом заливает, деревья выворачивает, несет, как перышко.
По берегам лежали почерневшие коряги, обглоданные водою стволы. Епифанов столкнул одну корягу в воду – река подхватила ее, закружила и легко понесла вперед. Но на перекате коряга застряла, и вода побежала дальше, через и вокруг нее, с насмешливым говорком.
Касимов уселся, прислонил к дереву дробовик.
– Мальчишкой нанялся возить дрова, – отрывисто начал Касимов, и сразу не понять было, о себе ли он рассказывает или о ком другом. – Были кулаки Зотовы. Ниже по Амуру. Сынок Алексей потом в офицера вышел. А в то время вроде хозяина со мной в лесу работал. Злобный человек. Нагрузим сани – не стронуть лошади. Сугробы ведь. Он ее палкой. Рванется лошадь да в такую трущобу заскочит – ни взад, ни вперед. Зотов кричит: «Тащи!» А где ее вытащить? На меня замахнулся. Этой же палкой. Я сказал: «Не тронь». Чуть не убил со злости. Слово за слово. А что я, раб какой? Скинул полушубок – ихний был, бросил лошадь – и в тайгу! По зимовищам ночевал. Смерз совсем. Сюда пришел, снова нанялся. А с Зотовым в двадцатом посчитался.
Где-то неподалеку сонно закуковала кукушка. Однотонное кукование подчеркнуло тишину.
– А как вы в партизаны пошли?
– Обыкновенно.
Он встал, вскинул дробовик на плечо и повел комсомольцев дальше, вверх по реке. Он шел как следопыт, ко всему внимательный, все подмечая, спокойный. Только курил папиросу за папиросой. И вдруг, обернувшись к спутникам, сказал:
– А как было не пойти? Положение такое: или бороться, или гибель. Справа – беляки, слева – японцы; в «вагон смерти» не попадешь – так на месте карательный отряд зарубит. Да еще надругается. Знаете, что делали? Повесят, живот распорют да мороженую рыбу воткнут – жрите, мол. Куда денешься? Я в шестнадцать лет пошел. С рыбалки. Сеть запустил под лед. Тянуть надо. Слышу, партизаны. Сеть, топор – все бросил, пошел.
Его скулы судорожно сжимались. Пальцы кромсали изжеванный окурок. Комсомольцы ждали, любопытные и слегка взволнованные. Касимов снова сел и движением руки пригласил сесть комсомольцев.
– Враг – всегда враг. Но самураи – хуже врагов. Провокаторы. Льстивые люди, с улыбкой, с поклонами. Нейтралитет объявили. Ихние офицеры с нашими партизанскими начальниками дружбу заводили. Красные бантики нацепляли: «Мы любим русский большевика…» А ночью оцепили штаб, сонных перерезали. Некоторые спаслись. Три дня сражались. Зима на улицах – сугробы выше человека. Вдоль домов расчищено – окопы. Они всех резидентов вооружили, женщины ихние – и те с винтовками. А с нами – все рабочие. Винтовок не хватало. Бывало, придет рабочий и сидит, пока винтовка освободится. Случалось, убьют прежде, чем дождется. Ничего, одолели все-таки. Потом называли – николаевский инцидент. А какой инцидент? Просто звери, провокаторы!
Он рассказывал не торопясь. Помолчит, вспомнит, расскажет. И снова помолчит. Вопросы сбивали его. Он шел по цепи своих воспоминаний, дорогих и страшных.
– Был партизан Орлов. Молодой парень, смелый. Любили его у нас. Подошли к Николаевску. В Николаевске – японцы и белые. С белыми война, а японцы – этот самый нейтралитет. Послали парламентера. Орлов поехал. Схватили его японцы, свечкой палили, на плите поджаривали… На плите! Потом уж, после взятия Николаевска, мы откопали труп… Лицо обезображено, глаза выжжены, нос и язык обрезаны, спина исполосована…
Тогда же замороженных отрыли. Выведут они наших партизан на Амур – могилы во льду колоть. Проткнут лед, чтобы вода в могилу поднялась, свяжут человека по рукам и ногам – и в воду. Так и вмерзает вместе с водой. Таких тридцать трупов нашли… Все целые, мороженые… И каждый – в японских отметинах: или руки вывернуты, или штыком истыкан, или поджаренный… Мы тогда выставили эти наши партизанские трупы в бывшем гарнизонном собрании. Вот они, жертвы японско-белогвардейского террора, смотрите! Партизаны плакали…
Как я жив остался – и не пойму. Что стоит жизнь, тогда не думали. Думали – как дороже отдать ее. Пусть умру – лишь бы на мою жизнь ихних жизней побольше взять. Как в беспамятстве были. Был у меня друг, однолеток мой, Сашка. И пулемет – в бою отбили. Сашка был на пулемете вторым номером, я – первым. Однажды бой. Нащупали беляки наш пулемет, так и шпарят по нему. А пулемет у нас – единственный. Сашка на пулемет бросился, лег, обхватил руками. Будто ума решился. Я тащу его, кричу: «Сашка!», а он отбивается. «Боюсь, кричит, пулемет попортят гады!» Ничего, и сейчас живой… В Средней Тамбовке в кооперации служит…
Так и воевали. Смелостью да нахрапом… Где сотня нужна – двенадцать человек брали. Где тысяча нужна – сотней шли. Крепость Чныррах брали с берданками против артиллерии да с деревянными трещотками – для страху. А то еще делали так. Сани у нас. Наложим сена, гоняем вдоль фронта взад и вперед – гляди, мол, сила какая… Киселевка тут есть. Казачье село. Казаки окопались крепко, камнем обложились, снегом, водою облили – заледенело все. И дома рядом – греться можно. Нам бы их силой никогда не взять. У них – сопка, а мы с Амура, с голого места. И численное превосходство за ними. «Ребята, – кричит наш командир, – одна смерть! Силой не взять – на испуг возьмем сукиных сынов!» Знамена вперед, нас человек пятьдесят с берданками да возчики следом с палками – тоже будто ружья, и кричим во всю глотку: «А-а-а!» и с криком на приступ. Ошалели казаки, раз-другой выстрелили, на коней – и тикать…
Был у нас командир – Тряпицын. Анархист, из матросов, отчаянный, под пулями никогда не ложился. И свободу он так понимал, никогда ее не видавши, что анархисты за самую вольную свободу. Знамя у него было красное с черным и надпись: «Первый анархо-коммунистический отряд». А лозунги были: за советскую власть, против беляков и японской военщины. Мы за ними и шли. А в политике тогда мало понимали, потом опытом узнали, когда переметнулись анархисты к бандитам да к белякам. Ну, сперва ничего. С партизанским центром связь держали, с Лазо. Шли к Николаевску. Кругом белые. Податься некуда. Силы нету терпеть, и воевать тоже сил нету. И вот Тряпицын в Мариинское поехал, в белый штаб. Один, в санях, только возница с ним. Часовой останавливает: «Стой, кто идет?» А он встал в санях, отвечает: «Командующий Красного Николаевского-на-Амуре фронта Тряпицын». Часовой и винтовку выронил. А он в штаб. Офицеры чай пили, совещались. Он вошел: «Вы Тряпицына ищите? Я Тряпицын». Наган вынул, на стол положил. «И вы кладите. Будем разговаривать». Положили. Сидят, ничего не понимают, чай предложили – выпил. Офицеры спрашивают: «Где ваши солдаты?» А он говорит: «Вот пойду, поговорю с вашими солдатами, и будут они мои». А солдаты уже во все щели смотрят, в окнах торчат, пулеметы тащат, разоружаются. Ну, он и сказал офицерам: «Уходите! Сила моя. Все равно от партизан вам конец». Вышел, в сани сел и поехал обратно. Километра три все ждали погони и залпа. Ничего. А офицеры тут же собрались и удрали; с ними некоторые солдаты, преданные белогвардейцам. А которые революционно настроены – к нам перешли со всем вооружением и амуницией…