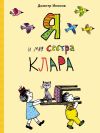Читать книгу "Мужество"

Автор книги: Вера Кетлинская
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
23
В середине июня погода резко изменилась. Стало холодно, как в первые дни весны. Дул нескончаемый колючий ветер сверху, с сопок, холодные массы воздуха врывались в низкую лощину, трещали и гудели в тайге, вздымали на Амуре крутые волны. Часто шел дождь, холодный и мелкий.
Работать стало тяжело. Тело покрывалось холодной испариной. Приходили с корчевки измученными, грязными, мокрыми. Переодеться было не во что. Чтобы обогреться и обсушиться, разжигали костры. Доморощенные сапожники без конца латали прогнившую обувь. Когда ложились спать, постели были влажны от сырости, а к утру сапоги покрывались белым налетом. Многие кашляли, у Пашки Матвеева на ногах появились странные бурые пятна.
Кормились пшеном. Пароходы с продовольствием почему-то задерживались. Приходили станки, колеса, рельсы, а мяса и овощей не было. Сперва пшенная каша понравилась. Потом говорили: «Опять пшено». Потом стали кричать: «К черту пшено, мы не куры!»
Вернер посылал телеграмму за телеграммой. Он успокаивал комсомольцев: «Потерпите. Все идет. Все уже на колесах».
Морозов ходил по участкам работ во время обеда. Он не уговаривал и не обещал ничего, но иногда бросал самому шумному ворчуну: «Если ты сейчас такой ворчун, что же из тебя к старости получится?» или говорил сочувственно: «Ну вот, хотели романтики да трудностей – а дома-то, признаться, лучше!»
– Ничего не лучше! – кричали ему в ответ те самые парни, которые только что проклинали пшено и погоду. – Разве мы жалуемся?
Пшено было все то же, а настроение поднималось.
Вечерами не знали, куда деваться. Не было ни клуба, ни просто крыши над головой. Андрей вел регистрацию комсомольцев, но провести конференцию для выборов комитета не мог – негде собраться. Ждали хорошей погоды.
Маленькие клубы возникали вокруг костров. Мокрые сучья шипели, пламя и дым метались во все стороны – того и гляди спалит лицо. Но комсомольцы не унывали. У костров пели песни. Клава, покашливая, рассказывала деревенские смешные или страшные сказки, подражая интонациям старой сказительницы. Ораторствовал Сема Альтшулер. Читал стихи Гриша Исаков. Иногда приходил Морозов, садился поближе к огню, говорил запросто:
– А ну, сдвигайтесь потеснее. Чем так скучать, послушайте лучше, что я вам расскажу.
Он рассказывал о соседних странах – Японии, Китае, о международном положении, или вспоминал гражданскую войну, или увлекал ребят мечтами о будущем, о том, как будут жить при коммунизме, какие чудеса принесет развитие науки и техники. Морозов не был хорошим рассказчиком, но его любили за ясность и убедительность речи, за умение посмеяться, подчеркнуть смешное и за серьезные знания, которые чувствовались под внешней грубоватой простотой.
Приходил Гранатов и рассказывал о пленниках харбинских застенков. Таежный гость – старик – подсаживался к костру, попыхивая прокуренной трубочкой. Его звали Семен Порфирьевич. Он рассказывал о диких трущобах, о людях, бродящих по тайге и убивающих охотников и собирателей женьшеня, о грубых нравах, о страшных морозах, о стаях изголодавшихся волков, нападающих на деревни.
Приходил и Тарас Ильич. Но он больше молчал, думая свою думу. Его считали своим – он работал на стройке в интернациональной бригаде Семы Альтшулера. Его хотели премировать и долго спорили – чем. Но Тарас Ильич неожиданно исчез. Его ждали день, два, неделю… Он ушел с ружьем, с мешком за плечами и затерялся в тайге. «На косачей пошел», – мрачно сказал Семен Порфирьевич, с первого дня невзлюбивший бывшего каторжника. Комсомольцы уже знали, что охотники «на косачей» – это таежные душегубы, грабители. Они поверили старику, но огорчились. Сема Альтшулер и и Гриша Исаков ходили пришибленные, удрученные – они считали Тараса Ильича своим подшефным.
Коля Платт писал длинные письма Лидиньке. Он не жаловался, он только писал: «Хорошо, что ты не поехала со мной. Девушке здесь не выдержать. Мы работаем в болоте, как чернорабочие. Я рад, что не завлек тебя сюда…»
Партийный комитет обсуждал доклад Вернера о положении на строительстве. Вернер был озабочен, резок, утомлен. Он держал про себя свои заботы. Властным голосом, с неврастеническим раздражением, он обрушился на членов партийного комитета. Стоило ему заняться проблемами строительства и отстраниться от непосредственного наблюдения за комсомольцами, все пошло хуже. Выработка снизилась, настроение портится. Что это за комсомольцы, если пшенная каша может повлиять на их энтузиазм? И что делает партийный комитет для их воспитания? Почему слаба дисциплина? Морозов резко прервал его:
– Вы лучше скажите – когда вы начнете строить дома?
Круглов молчал. Ему очень хотелось сказать, что энтузиазма много, но заботы о людях мало. Он знал своих товарищей. Они не были виноваты в том, что за последние дни упала выработка. Половина из них ходила без сапог, ночью было трудно заснуть от холода. Слова Вернера звучали издевательски. Но Круглов любил Вернера за властность, за четкость мысли: он угадывал под неврастенической раздражительностью Вернера тревогу и утомление.
Вернер сказал:
– Пустим лесозавод – начнем строить дома. До осени еще далеко. Я знаю, что делаю, и напрасно вы отклоняетесь в сторону, когда ваша обязанность – обеспечить воспитание масс.
– Наша обязанность – интересоваться всем и критиковать, если вы работаете плохо, и спрашивать с вас хорошую работу, – резко сказал Морозов. – Так что ты уж извини, но я прошу ответить на мой вопрос как следует.
Заговорил Гранатов:
– Нельзя терять историческую перспективу. Конечно, сырость и пшено – плохо. Возможно, что будут болезни, жертвы. Это тяжело. Это наши люди, молодежь. Но я вас спрашиваю, – он говорил тихо, с грустным лицом, по которому пробегала судорога, – я вас спрашиваю: разве можно перестроить жизнь без жертв? Мы должны строить в легендарно короткие сроки. И надо иметь мужество сказать самим себе: да, будут жертвы! Да, этот город вырастет на костях… Я готов к тому, что и мои кости лягут под один из фундаментов.
Вернер склонил голову. Круглов видел в его лице страдание. Он сам страдал. Он не знал, кто прав. Слова Гранатова произвели на него сильное впечатление. «Как хорошо, что я не взял слово, не опозорился, это было бы шкурничество», – думал он. Да, раз нужно для блага страны, можно и нужно отдать жизнь. Гранатов готов. А я? Он знал, что готов тоже. Но мысль о Дине наполняла его глубокой печалью. Как мало он жил, как мало любил! Он думал о цинге Пашки Матвеева, о робком покашливании Клавы и ее усилиях развлечь товарищей сказками, о восемнадцатилетней беззаботности Пети Голубенко…
Гранатов продолжал:
– Партком должен понять: главное – это корабли. Корабли, а не люди. И мы должны пойти на любые жертвы, но в кратчайший срок построить завод.
Морозов прервал его грубо, недружелюбно:
– «На костях, на костях»!.. Вздор! Кому это нужно? Вы здесь разводите теории, да еще вредные теории, а нужно заниматься снабжением, строить больницу, выписать врача, достать сапоги. Партия никогда не позволит нам разводить тут такие настроения. И кто это выдумал ставить вопрос подобным образом – или корабли, или люди? Это паника какая-то, а не политика! В чем дело – лес кругом, а дома построить нельзя? Или в стране, кроме пшена, кормить нечем? Врачей нету? Вот о чем надо говорить. А вы – «на костях!»
Он злился. Он был груб. По лицу Гранатова прошла судорога. Он сказал холодно, не глядя на Морозова:
– Товарищ Морозов прекрасно знает, что Вернер и я делаем все возможное, чтобы улучшить снабжение. Мы бомбардируем Хабаровск телеграммами. Мы послали агентов. На днях я поеду лично. Надо считаться с фактами. И надо понять: корабли, корабли во что бы то ни стало, – вот чего от нас ждут, вот по чему будут судить о нашей работе.
Круглов напряженно взвешивал: кто прав? Ведь сам Морозов предупреждал: вас ждут большие трудности. Легко не будет. Но разве это не значит – строить, хотя бы и на костях? Нет. «Люди дороже золота…»
– Нет! – крикнул он, откинув томившую его неуверенность. – Гранатов неправ.
– Ну? – неодобрительно откликнулся Вернер. – В чем же?
У Морозова посветлели глаза.
– Я думаю о своих товарищах, – сказал Круглов. – Это золотой фонд края. Люди дороже золота – разве это не так? Без людей корабли – мертвое тело. И ничего мы не сделаем, если не будет заботы о людях. Я не о себе говорю, – заволновался он под изучающим грустным взглядом Гранатова, – я готов на все. Но ребята болеют, кашляют. Выработка… Неужели нельзя временно построить хоть какие-нибудь бараки? Или землянки хотя бы! И что за безобразие в вашей конторе – не могут они прислать картошки, мяса, луку.
Заговорив, он потерял власть над собой. Он чувствовал за спиной горячее дыхание своих друзей, молодых, жаждущих жить и бороться, полных надежд на будущее.
– Пшено днем и вечером – разве это питание для людей, работающих в лесу с утра до вечера? Люди ходят – пальцы наружу, без подметок. У половины ребят и матрацев нет – спят на досках.
Морозов остановил его движением руки.
– Ясно, товарищи? Так говорит Круглов, один из наиболее стойких комсомольцев. Надо будет – они сумеют и умереть. Но этого не надо. Товарищ Вернер, доложи, пожалуйста, какие мероприятия вы думаете провести, чтобы исправить положение.
Круглов закрыл лицо руками. Ему было стыдно. Как это вышло, что он раскричался? Он, умевший убедить товарищей, что и пшено – прекрасная вещь и спать на холоде – хорошая закалка для организма…
– Я не вижу оснований для споров, – резким голосом говорил Вернер, – и напрасно Морозов пытался представить дело так, что мы не заботимся о людях… Надо помнить об условиях стройки здесь, в тайге, вдали от железных дорог и центров. Круглов это забыл…
– Это ты брось! – снова грубо прервал Морозов. – Вопрос стоит так: корабли построить и людей сохранить. Или – или, так вопрос стоять не может. Продолжайте…
Партком решил немедленно послать Гранатова в командировку для обеспечения стройки на зиму, провести собрания для разъяснения затруднений, начать строить временные жилища, выписать врачей, парикмахера, сапожников, закупить обувь, одежды, матрацы.
Круглов ушел с заседания парткома в смятении. Если бы он пережил то, что пережил Гранатов, он никогда не поддался бы этим шкурным, низменным настроениям. Пшено и сырость – подумаешь, беда!
– Не вешай нос, ты же прав, – сказал ему Морозов.
Но Круглов все-таки не был уверен. Он мучился сомнениями, ворочаясь на голых досках, в сырой палатке, под шум ветра, гуляющего над тайгой.
Наутро комсомольцев отправили на строительство шалашей. Плетеные из прутьев стенки обмазывали глиной. Делали двери, окна, настилали крыши. Ставили на скорую руку простые, сложенные из камней печурки.
– А что? Тепло будет, как в бане, – разглагольствовал Сема Альтшулер, придумавший для шалашей десятки мелких, но важных усовершенствований. – Конечно, это еще не дворцы, но ничего не бывает сразу. Я вам говорю – запишите мои слова, – мы с вами еще поживем в настоящих дворцах, с паровым отоплением и люстрами! Но эти халупы мы вспомним добрым словом. Запишите мои слова.
24
У костра было весело. Все как будто сговорились не замечать плохого. С азартом пели песни, смеялись каждой пустячной шутке. Только Андрей Круглов лежал неподвижно, уткнув лицо в руки, – не то спал, не то грустил о чем-то.
Епифанов был доволен, даже счастлив. Ему нравилась кочевая, неустроенная жизнь в палатках, в тесном общении со множеством новых людей. И он это выразил так:
– Вот оставь человека одного в такой неустроенности – пропадет. Не от болезни, не от голода – от тоски-скуки… А вместе – все хорошо. Я бы на всю жизнь согласие дал – в одном месте построить, в другое перекочевать, и опять сначала. Страна еще невозделанная, пустоты много. А за мною так след и тянулся бы – города, мосты, заводы, железные дороги.
– Ну, я тебе не товарищ, – сердито буркнул Бессонов. – Что до меня – я отсюда ни ногой. Дудки! Это что же – мы все построим, а другие на готовенькое придут? Здесь и останусь. На заводе. Такого штукатура, как я, с руками оторвут. А нет – другую квалификацию возьму. Ого! Я любую квалификацию в два счета… – он увидел смеющиеся глаза Кати и неуверенно кончил – Мне вот сварка очень нравится. Я бы сварщиком пошел.
Катя живо откликнулась:
– Почему сварка? Уж остаться здесь – только сборщиком! Корабли собирать. Деталь к детали… Пока не выйдет он готовенький, чистенький, свежепокрашенный. Другие мечтают: гранитные набережные, большие дома. А мне ничего не надо, только бы увидеть, как первый корабль в воду пойдет!
Вальке Бессонову было приятно согласиться:
– Что ж, сборщиком тоже хорошо.
И оба испытующе поглядели друг на друга.
Заговорила Клава. Она очень мерзла, кашляла, сидела у костра притихшая, закутанная в теплый платок. И вдруг заговорила, да так, будто беседует с глазу на глаз с душевным другом:
– Вот если спросить – что самое замечательное в жизни? По-моему – мечта… Когда мечтаешь, все хорошо кажется, и плохого не видишь, и вынести можно все что угодно. Оттого мы и не сдаемся, когда трудно. А кто мещанин – ноет. Мещанин потому и мещанин, что мечтать не умеет…
Она закашлялась, потуже завернулась в платок, продолжала:
– Я вот иногда мечтаю: построим мы большой город. И какая жизнь пойдет! Город-то новый, социалистический. Комсомольцы все… а мещане, обыватели – зачем им сюда? Мы их не пустим.
– Глупости! – веско обрезала Тоня. – Вздор болтаешь.
– А ты не слушай, – кротко ответила Клава.
– Вздор болтаешь, – наставительно повторила Тоня. – Ты все мечтаешь, а вокруг не смотришь. Думаешь, среди нас мещан мало? Думаешь, человека за год переделаешь? А ведь через год здесь город будет, и понаедет сюда всякий народ и обыватели – вот увидишь – да еще с самоваром, со всем барахлом прикатят.
– Мечтаю познакомиться, – вежливо обратился к Тоне Сергей Голицын.
– Что? – не поняла Тоня.
– Мечтаю познакомиться, чайку попить из самовара.
– Вот вам, пожалуйста, – проворчала Тоня, презрительно морщась.
Она и Сергей терпеть не могли друг друга.
– Ты, Тоня, еще не доросла, – вкрадчиво продолжал Сергей, подмигивая ребятам. – Только ты не огорчайся. Подрастешь, от перегибов откажешься, будем вместе чаек пить.
Лилька пропела, блеснув глазами: – У самовара я и моя Тоня…
– Иди к черту! – огрызнулась Тоня. – Глупые шутки.
Андрей Круглов приподнялся, сел, и все увидели, что он вовсе не спал. Лицо было ясное, задумчивое, глаза грустные.
– Бросьте ссориться, – сказал он. – Тут Клава о мечтах говорила. Самое замечательное в жизни – мечта. Как же так, Клава? Значит, в настоящем плохо, только мечта хороша?
Клава растерялась, до слез покраснела: когда Круглов обращался к ней, она всегда чувствовала себя ничтожной, маленькой, глупенькой. Ведь недаром же он так мало обращает на нее внимания! А вот теперь она высказала при нем свои мысли и, конечно, оказалась неправа.
– По-моему, самое замечательное – дружба. Все мы – из разных мест. У всех дома остались любимые люди. Нам бывает трудно. И все-таки мы веселы и счастливы. А почему? Да потому, что каждый чувствует рядом локоть товарища, потому что нас объединяет крепкая комсомольская дружба. Ведь об этом и говорил Епифанов: один пропадешь, а вместе – все хорошо.
Епифанов сказал:
– Мы, водолазы, без дружбы и жить не можем. Идешь под воду – а наверху моторист воздух качает. Тут мало обязанность выполнять – тут душа нужна; моторист должен чувствовать водолаза, дыхание его понимать. Когда наверху стоит друг – ничего не боишься. Знаешь: и мало воздуху не даст, и много не даст, а как раз в точку. Да и здесь тоже – куда без дружбы денешься? Я вот только высказать не умею, а дружбу я сильно чувствую…
Его мысль подхватил Сема Альтшулер. Он встал, словно то, что он хотел сказать, требовало торжественной позы. Он откинул назад отросшие курчавые волосы.
– Ты не умеешь говорить, но ты думаешь правильно, а я умею говорить, и я скажу за тебя. Дружба – это да, самое большое чувство на свете! Какая радость будет радостью, если нет друга, чтобы разделить ее? И разве горе не убивает человека, если нет друга, чтобы в нужную минуту сказать ему: «Э, в чем дело, смотри веселей!» Буржуазия может обойтись без дружбы, ей нужны деньги, а когда делишь деньги, то чем меньше людей, тем веселее делить. Но я спрашиваю – какой пролетарий работал в одиночку? И разве мы смогли бы построить социализм, если бы у нас не было великой дружбы народов, и дружбы рабочих и крестьян, и дружбы каждого из нас со своим коллективом?
Клава закашлялась. Сема метнул на нее тревожный взгляд, сбросил с плеч пальто, прикрыл им плечи девушки и прекратил смешки суровым, почти величественным жестом:
– Кто смеется и почему? Неужели среди нас найдется хоть один пошляк, который не понимает движения души, когда для друга не только пальто – рубашку снимешь, и тебе будет тепло, потому что тепло другу? Вот, смотрите, сидит мой лучший и несравненный друг Геннадий Калюжный. – Генька смущенно потупился, он гордился красноречием Семы и немного стыдился его. – Вот с этим Геннадием Калюжным нас не разделит ничто, кроме смерти. Я был мировой токарь, я был изобретатель и гордость своего завода, но когда Калюжный сказал, что едет на Дальний Восток, за десять тысяч километров от Одессы, Альтшулер сказал: «Ну и что? Мы поедем вместе, и пусть кто-нибудь попробует меня удержать!» Дружба есть дружба, и да здравствует дружба, товарищи! Да здравствует дружба Геньки Калюжного и Семки Альтшулера и дружба всех нас, членов великого комсомола!
Среди возгласов одобрения раздался скептический голос Сергея Голицына:
– И дружба Семы с Клавой Мельниковой…
Сема наклонился к костру и скрыл лицо, деловито подкладывал сучья…
После речи Семы настроение поднялось, каждому хотелось сказать что-нибудь значительное. Гриша Исаков, мрачно озираясь, спросил неожиданным для него самого басом:
– Я тут стихи написал. Прочитать?
Все поддержали: конечно, прочитать.
Гриша встал на то место, где только что ораторствовал Сема, откашлялся, подождал, чтобы установилась тишина, и начал читать медленно, нараспев, любовно выделяя каждое слово:
Тайга свистела, дрожала и пела,
Свирепая буря стволы сгибала,
Дубы вековые из мшистой постели
Рвала она с корнем и наземь бросала.
И лопались корни, трещала кора,
Янтарные слезы роняла она.
Пред этой стихией, упрямой и страстной,
Тайга склонялась рабою безгласной,
Но я прихожу с топором и пилой,
Я буре кричу: «Состязайся со мной!»
Рублю топором – и деревья летят,
Деревья ложатся в послушный ряд.
На месте тайги, покоренной мной,
Я город построю, дворцы возведу,
И в дебри душистые в день выходной
Я с девушкой светлой гулять пойду.
Ей страшно не будет – пусть буря ревет —
Она у меня защиту найдет.
Все хлопали в ладоши, не жалея сил. Только Соня забыла похлопать – она знала, о какой светлой девушке идет речь, ее сердце замирало от нежности.
Тоня похлопала вместе со всеми, но потом сказала:
– А ты, Гриша, все-таки перегнул. Где же у тебя комсомол? Все я да я… Это индивидуализм. И почему девушка будет искать у тебя защиты?
Катя Ставрова поддакнула:
– Девушки покоряют тайгу не хуже тебя! Моя бригада дает сто пятьдесят процентов, а твоя – сто тридцать семь.
Гриша Исаков обиженно молчал. Ребятам было жаль Гришу, но они не знали, как заступиться за него. Уж эти девушки!
Но тут вмешалась Клава:
– Девушки, ведь это стихи! Это образ. И что же такого? Я тоже смотрю на тайгу и думаю – она моя, я ее покоряю. А ведь она не моя. Она наша. Гриша за всех сказал: покорю!
– Ты говоришь – покорю, а у Гриши получается, что он тебя покорять будет, – язвительно сказала Тоня.
– Ты просто не понимаешь… Это же стихи!
Настроение испортилось. Круглов снова улегся, спрятав лицо. Клава смотрела на него, вздыхая про себя: и что ему надо? О чем это он? Сколько дней прошло с той грозовой ночи, когда верилось в счастье… а он все дальше, все дальше отходит от нее и ни разу не взглянул на нее так, как тогда, сквозь струи ливня, в темноте, на миг озаренной молнией.
Сема подмигнул Лильке, и Лилька запела своим низким звучным голосом деревенской запевалы:
Ревела буря, дождь шумел…
Соня потихоньку встала, принесла вязанку сучьев и пошла в тайгу за другой. В тайге было темно и страшно. Из темноты тянуло мертвенным холодом, пронизывал ветер. Но рядом с нею появился Гриша; они без слов упали друг другу в объятия – и стало тепло. Они целовались, тесно обнявшись, – ветер проносился мимо них, стороной, и шелестел вокруг, подпевая песне у костра.
Гриша сказал:
– Ты понимаешь, это совсем не индивидуализм. Это полное ощущение жизни. Разве я не могу говорить от имени всех нас?
Соня не совсем поняла его, но сказала:
– Ну да, конечно. У тебя такие замечательные стихи.
Ему было приятно. Он сам думал то же. Но он отрекся от себя:
– Нет, они еще не замечательные. Но я напишу, Соня, я еще напишу настоящие стихи. Ты верь мне, Соня! Иногда мне страшно нужна поддержка. Иногда я думаю: ведь каждый поэт, когда пишет, считает себя гением. А как мало гениев! За всю историю человечества – единицы. А быть посредственностью – зачем? Стоит ли ради этого мучиться?
Она сказала именно то, что должна была сказать:
– Нет, Гриша, я верю в тебя…
Как он был благодарен ей! Не за слова, за самое ее существование…
Ей было очень хорошо. В черном небе над ее запрокинутым лицом качались неспокойные ветви, и небо тоже словно качалось в сладком дурмане.
– Вот мы сейчас живем, и мне часто кажется: об этом надо написать поэму – такую, чтобы каждая строка прожигала сердце. Надо написать картину, чтобы посмотреть – и дыхание перехватило. Симфонию для громадного оркестра – чтобы потрясала, вертела, сбивала с ног. А начну писать – и слов нет. И рисовать не умею. И нот не знаю.
Она провела ладонями по его щекам. Сказала:
– А ведь жизнь еще большая. Сколько мы еще сделаем! Сколько научимся делать!
Она так хорошо понимала, так умела направить его мысль простыми словами. И он спросил:
– Соня, будем жить вместе, хорошо?
Она ответила быстро:
– Да.
И прикрыла глаза, чтобы полнее и сосредоточеннее почувствовать счастье.
Они медленно шли обратно. И к ним донесся от костра торжественный голос Семы:
– Стихи? О! Это то, что поет душа, когда ей грустно, и когда ей весело, и когда она стремится вперед, – вот что такое стихи! А если у тебя, Тоня, душа не поет, не прикасайся к стихам, умоляю тебя, потому что ты видишь сама: вот мы спели песню, и нам стало весело. Мы слушали стихи – каждый был героем. И если ты тоже герой и каждая наша комсомолка – герой, то разве она все-таки не девушка, и разве ей не приятно, что вот около нее стоит друг и друг готов защищать ее, и разве им обоим от этого не веселее на сердце?
Вынырнув из темноты навстречу подмигиваниям и шуткам, Гриша провозгласил срывающимся высоким голосом:
– Ребята! Друзья! Разрешите сказать – вот моя невеста. Ребята! Благословите нас по-комсомольски.
В сутолоке и шуме жених и невеста совсем растерялись. Их обнимали, хлопали по плечам, качали так, что у Сони закружилась голова и Грише пришлось заступиться за нее. На общем совете решили, что первым молодоженам надо построить отдельный, самый лучший шалаш.
И тогда заговорил Круглов:
– Мы говорили здесь о дружбе. Вот она – дружба. Вы видите, счастье наших двух товарищей – общее счастье. И мне стало стыдно, ребята. Я скрывал от вас свое горе, а скрывать не надо было…
Он сказал это – и испугался. Отступать уже поздно, рассказывать – трудно.
– Говори, говори, Андрюша, – звонко сказала Клава. Он посмотрел на Клаву и на миг смутно понял ее, но тотчас отстранился от мелькнувшей догадки, потому что собственное волнение было слишком сильно.
– Да, я скажу… Видите ли, ребята… у меня в Ростове… в общем, у меня тоже есть невеста… И я бы хотел, чтобы она сюда приехала… если только вы согласны…
– Если я правильно понял, – пробасил Калюжный, – поступила заявка на два семейных шалаша.
А Сема Альтшулер сказал короткую прочувствованную речь:
– Вы думаете, это так, пустяки? Поженились – и все? Нет, друзья! Это здесь, на месте будущего города, рождается новая жизнь. К сожалению, нет вина, но будем думать, что оно есть, и я поднимаю бокал за комсомольскую семью, за наше будущее, за новый быт комсомольского города.
И он поднял руку с воображаемым бокалом.
Так обычный вечер неожиданно превратился в торжество; и когда много позднее друзья разошлись по палаткам, никто не ощущал промозглой сырости своих жестких постелей.
У костра осталась одна Клава. Она не двинулась, когда около нее осторожно уселся Сема Альтшулер. Может быть, она и не заметила его.
– Э, в чем дело, Клава? – сказал Сема и дотронулся до ее руки. Она дала ему свою руку и вдруг заплакала.
– Любовь проходит, Клава, а дружба остается, – сказал Сема и вытер ее мокрые щеки краем шерстяного платка.
Клава всхлипнула и виновато улыбнулась.
– Ты, пожалуйста, не думай… – пробормотала она.
– Нет, Клава, я ничего не думаю. Я только думаю, что ты мужественная девушка и ты не будешь плакать, а если тебе очень нужно немного поплакать – плачь сейчас, я вытру твои слезы, и тебе будет легче…
Но она уже не плакала.
Сема проводил ее до девичьей палатки и сказал, прижимая ее руку к груди:
– Вот это перед тобою такой друг, Клава, такой друг…
В этот раз красноречие ему изменило.
– Э, не в словах дело! – Он махнул рукой и пошел через лагерь, спотыкаясь в темноте.