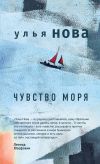Читать книгу "Женщина, которая ждала"

Автор книги: Вера Колочкова
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вера Колочкова
Женщина, которая ждала
© Колочкова В., 2026
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2026
Теперь не умирают от любви —
Насмешливая трезвая эпоха.
Лишь падает гемоглобин в крови,
Лишь без причины человеку плохо.
Теперь не умирают от любви —
Лишь сердце что-то барахлит ночами.
Но «неотложку», мама, не зови,
Врачи пожмут беспомощно плечами:
«Теперь не умирают от любви…»
Юлия Друнина

* * *
Лиза отодвинула от себя чашку с остывшим чаем, с тоской глянула на экран телевизора. Потом перевела взгляд на лицо тети Сони, подумала слегка раздраженно: как можно с таким увлечением это смотреть? Причем в который уже раз? Нет, понятно, что чеховская «Чайка» – бессмертная классика. Кто бы спорил! И эта последняя встреча Нины Заречной и несчастного Треплева звучит как притча во языцех. Но ведь все уже знакомо до зубной боли! Сейчас Нина скажет свое сакральное: «Умей нести свой крест и веруй». Скажет и уйдет. А Треплев останется. И застрелится. Все ж понятно, иначе и быть не может.
– Лизонька, а как ты думаешь, на чьей стороне все-таки был Чехов, а? Кому он больше симпатизировал, кого больше жалел – Треплева или Тригорина? Я даже думаю, в чьи уста он вложил свое отношение к жизни?
Тетя Соня повернулась к ней от экрана, с нетерпением ждала ответа. Не дождавшись, вынесла задумчиво свой вердикт:
– Мне кажется, что Чехов – это все же немножко Треплев. Тонкая душа, талантливая, но ужасно ранимая и несчастная. Обиженная судьбой. Жалко его, правда?
– Кого жалко? Треплева или Чехова?
– Так Треплева, который немножко Чехов. Я ж тебе объясняю!
– Я не знаю, теть Сонь. Мне не жалко. И вообще, я не понимаю, почему вы с таким увлечением сотый раз этот спектакль смотрите. Мне кажется, наизусть все реплики выучили.
– Ну хотя бы потому, что в ней есть тайный смысл. Ведь до сих пор не утихают споры, что имел в виду Чехов, когда создал два эти загадочных образа. Вот и я тоже пытаюсь что-то понять!
– Да нет никакой загадки, теть Сонь. Все же предельно ясно. Этот ваш Треплев – ужасно неприятный человек. Нелепый, неуверенный в себе, презирающий себя. Ну да, он, может, и талантлив… Но кто это может понять? Все это ерунда – его «люди, львы, орлы и куропатки». Кому такой талант нужен?
– Так ведь талантливые люди такие и есть, Лизонька. Нелепые, неуверенные в себе. И Чехов с юности был немножко таким, как этот самый Треплев.
– А я считаю, что нет здесь связи с талантом. Треплев – это жертва, его таким мать сделала, вот и все. Как ее бишь…
– Аркадина, – тихо подсказала тетя Соня. – Да, но ведь не в этом суть пьесы, Лизонька.
– Как раз в этом! Я это так вижу! Может, потому, что я тоже Треплев… И мне так же иногда хочется застрелиться. Очень хочется.
– Господи, Лиза, что ты говоришь!
– Да ладно, не делайте больших глаз, тетя Соня. Вы ведь прекрасно понимаете, о чем я. Прекрасно понимаете, что я нелюбимый ребенок. Нелепый, неуверенный в себе, презирающий себя, несчастный. Моя мать – как та Аркадина.
– Но ты не ребенок, Лиза. Тебе скоро уже девятнадцать.
– А нелюбимые дети навсегда остаются детьми. И с этим ничего сделать нельзя. И вообще… Не будем больше говорить на эту тему, ладно? Вон, смотрите, ваш Треплев уже и застрелиться успел. И нисколько его не жалко.
– Лиза, Лиза… Ну откуда в тебе такие дурные мысли? Ты же умная девочка! Уверяю тебя, ты не права относительно мамы.
– Да. И мысли у меня дурные, и сама я дурная. В том смысле, что дурнушка. Некрасивая.
– Ты некрасивая? – более чем нужно удивилась тетя Соня. – Да не выдумывай! Ты очень красивая, Лиза!
– Ой, не смешите меня… Еще и «очень», главное.
– Ничего смешного тут нет. Просто, как бы это сказать… Тебе заняться собой надо. Ты выглядишь несколько неухоженной. Вон, стрижка давно отросла, некрасиво… И лицом надо заняться – ну что это у тебя за подростковые прыщи на лбу? И похудеть бы тебе не мешало.
– Да не продолжайте, теть Сонь, и без того все понятно! – с грустным смехом отмахнулась Лиза. – Я та еще кикимора, я это понимаю. А знаете, кого раньше называли кикиморами?
– И кого?
– Нелюбимых детей в семье. И даже поверье такое было: если мать не любит своего ребенка, он вырастает и становится кикиморой.
– Ну, это ты уже на ходу придумала, наверное!
– Нет, не придумала. Я правда про это читала, теть Сонь. А можно я у вас ночевать останусь, а?
Вопрос повис в воздухе, отобразившись на лице тети Сони ужасной неловкостью. Лиза усмехнулась: чего уж так сильно переживать, подумаешь… Невелика ведь просьба – просто на ночь остаться! Но тетя Соня, конечно, иначе думает и сейчас начнет свои нелепые доводы приводить.
– Лизонька, я бы, конечно, не возражала, пожалуйста… Но ведь ты знаешь, как твоя мама опять рассердится! Она же в этом бог знает что увидит. Начнет выводы нелепые делать, будто я тебя против нее настраиваю!
– Да ничего она не рассердится! Она и не заметит, что меня дома нет! Я для нее пустое место, никто и звать никак! Я ж говорю, что один путь остается – в кикиморы!
– А вот это ты зря говоришь, Лиза! Совершенно зря! Нельзя так о маме!
– Как «так»? Ну как?
– Нельзя сейчас на маму обижаться, ты пойми… Пойми, как ей сейчас нелегко. Она большую трагедию переживает. Перед этой трагедией все остальное для нее меркнет.
– О какие высокие слова, теть Сонь! Все остальное меркнет! Можно подумать…
– Да, Лизонька. Не можно, а нужно подумать. И попытаться понять маму. Не надо на нее сердиться, наоборот, надо больше говорить с ней, отвлекать, участие проявлять. Не для всех развод проходит легко. Ты же знаешь, как она твоего папу любила, как вся ушла в эту любовь. Вся ее жизнь в этой любви была, все мысли, вся женская суть! Такую самоотдачу редко наблюдать у кого можно!
– Да знаю, сама все это видела с рождения. Не повезло мне. Но ведь уже полтора года прошло, как отец от нее ушел, а она все переживает! Сколько можно-то?
– Ну, знаешь… Некоторые женщины всю жизнь это страдание в себе несут. И оно не изживается, а, наоборот, горше становится. Тем более если учесть, что твоя мама – однолюбка. Пойми, ей сейчас очень нелегко.
– Вот именно, однолюбка! Она только отца любила и любит. А мне уже ни капли той любви не досталось. Зачем она меня рожала тогда, не пойму. Или тоже какие-то корыстные соображения были? Мол, если есть любовь, значит, и плод любви должен быть, да? Его ж потом просто можно сбросить с ветки – пусть под деревом валяется?
– Лиза, перестань! Не надо так говорить! Ты должна ее понять! Ты же дочь! Вы же родные люди!
– Да, вам легко говорить, теть Сонь. Вон, сколько правильных слов у вас заготовлено, как по учебнику психологии шпарите. Вы же не слышите, как мать со мной разговаривает! Да если б слышали…
– И как она с тобой разговаривает?
– Да сквозь зубы! Будто ее трясет от одного моего присутствия. Будто это я виновата, что отец ее бросил.
– Ну ты ведь тоже не подарок, Лизонька, согласись! Ты тоже можешь мать провоцировать!
– Да ладно вам…
Лиза сердито махнула рукой, отвернулась. Долго молчала, думала о чем-то своем. Потом проговорила обиженно:
– Ну ведь с вами я нормально общаюсь, теть Сонь, правда? Ничем вас не провоцирую? Вы ко мне хорошо относитесь, и я к вам соответственно. Ведь так?
– Да так, Лизонька, так…
– Тогда я останусь, ладно?
Тетя Соня снова вздохнула тяжело, отвела глаза. Потом покачала головой, проговорила с тихим отчаянием:
– Нет, Лизонька, нет. Ты пойми, у меня с твоей мамой и без того напряженные отношения, и я не могу…
– Это не у вас с ней напряженные отношения. Это она делает все, чтобы они были напряженными. А вы на поводу у нее идете, боитесь что-то не так сделать – а вдруг ей не понравится! Ну зачем, теть Сонь? Чем больше боитесь, тем больше она звереет.
– Да, может, ты и права. Но я все равно не могу. Мне просто очень жаль Аллочку, понимаешь? Опять она будет сердиться, нервничать. Все ей кажется, что я ей враг.
– Ну да, кто бы спорил. У нее ж одни враги кругом, – с тихим сарказмом проговорила Лиза. – Понятно, что бабушка ей враг, она никогда этого и не скрывала. Да она даже слово «свекровь» произносит так, будто плюется. Хотя раньше только и делала, что лебезила перед ней. А как папа ушел, бабушка сразу явным врагом стала. Да это и понятно, в общем. Но вы-то, теть Сонь! Вы же всего лишь сестра бабушки, вы моей матери седьмая вода на киселе! Вы-то чего так боитесь?
– Да я не боюсь. Я ж объясняю: мне просто Аллочку жалко. И свою сестру Лизу я тоже никогда не понимала. Чем ей Аллочка не угодила? Она ж так старалась! Вон, даже тебя Лизой назвала в ее честь.
– Выходит, зря старалась. Не помогло. Для бабушки Лизы это честью не стало. Да и не была она мне бабушкой по большому счету, не любила меня. Когда на меня смотрела, всегда лицо такое делала… Презрительно-скептическое. И говорила всегда одно и то же: мол, вся в мать, не в нашу породу. Что, разве не так, скажете?
– Да, у моей сестры тяжелый характер, согласна. Если честно, я и сама ее всегда немного побаивалась. Еще с детства.
– Что, абъюзила она вас, да?
– Как? Как ты сказала?
– Ну, такое отношение сейчас определяется одним словом – абъюз. Когда один своим поведением уничтожает психику другого, обнуляет как личность.
– Нет, я бы не сказала, что уж до такой степени. Раньше мы были очень близки. Мы же сестры, родные по крови. От этого никуда не денешься. Правда, отцы у нас разные. Лизочка у мамы уже во втором браке родилась. И отчества у нас разные: я Софья Ильинична, а она Елизавета Максимовна. Но я всегда свою сестру очень любила. И Лизиного сына, то бишь твоего папу, я очень любила. Лиза даже ревновала Левушку ко мне, было дело.
– Да, отцу везет на любовь, его все любят. Для бабушки Лизы он всегда был светом в окошке – единственный сынок, боготворимый. Вы его любили. Мать его без ума любила, да и сейчас любит. И свежая молодая жена любит. Вот почему все так несправедливо, а? Одному куча любви достается, девать ее некуда, а другому – ни крошечки? Почему? Где справедливость, скажите?
– Говорят, справедливости нет на земле, детка, – с грустной улыбкой ответила тетя Соня. – Но я тебя люблю, если тебя хоть немного это утешит.
– Спасибо, тетя Соня. Да, я знаю, вы ко мне хорошо относитесь. Но при этом и мать боитесь обидеть. И еще я спросить хотела у вас… Вот вы говорите, раньше с бабушкой вы были близки. Родные сестры, мол, кровь не вода, все такое… А куда ж эта близость потом подевалась, интересно? Вон вас даже на свежую отцовскую свадьбу не пригласили. Хотя вы ближайшая родственница!
– Ой, да какая там родственница… Двоюродная бабушка нашего Левушки. Зачем приглашать на свадьбу всяких старух? Седьмая вода на киселе, отработанный материал… Да и чего обо мне говорить, господи! Со мной все ясно. А вот ты… Ты почему не пошла на свадьбу к отцу, скажи?
– Вот еще! – сердито фыркнула Лиза. – Нужна я там сильно, на свадьбе! Да отец и не особо звал. Испугался, наверное, что я не впишусь в новое окружение. Или выкину что-нибудь этакое…
– А ты бы и впрямь выкинула?
– Да не, зачем. Хотя все это ужасно смешно. Отец – и жених! Весь из себя причесанный и напомаженный, в галстуке-бабочке! А рядом невеста, вся в белом. Красивая, молодая… Разве не смешно, скажите?
– Да что ж тут смешного, Лизонька? Твоему папе всего сорок пять. Для мужчины это не возраст!
– Ничего себе, всего сорок пять! А этой Юле, его новой жене, двадцать, между прочим! Она почти моя ровесница! На фига ей все это надо, не понимаю?
– Ну, наверное, она любит его. И ей вовсе не смешно, ей все это очень нужно – и белое платье, и фата, и галстук-бабочка. Зря ты не пошла на свадьбу, зря…
– Нет, не зря. Представьте, если бы пошла, как бы моя мать прореагировала? Да нет, вы не представляете даже, о чем я!
Тетя Соня не нашла что ответить, лишь улыбнулась жалко. Какой неприятный разговор получился – сплошное мучение. Всех, всех их жалко – и Лизоньку, и мать ее Аллочку, и племянника Левушку. Потом вздохнула коротко, глянула на часы, проговорила тихо, но твердо:
– Тебе ехать пора, Лиза. Время позднее, Алла уже волнуется, наверное. Давай я такси вызову?
– А я думала, что все же у вас останусь, – уже без всякой надежды протянула Лиза. – Завтра же воскресенье, в универ не надо идти.
– Нет, Лиза. Прости. И давай не будем больше об этом. Тебе надо быть рядом с мамой, ей плохо одной.
– Но мне плохо дома, теть Сонь, там как в могиле…
– Да перестань уже, ей-богу! Что ты ноешь, как маленькая! – уже начала сердиться тетя Соня. – Тебе надо маме помочь из кризиса выбраться, а ты ноешь только и тем самым еще больше усугубляешь! Ты же знаешь, что мама сердится, когда ты у меня остаешься! После развода родителей я для нее враг, она сама возвела меж нами эту баррикаду! Ну представь, что она мне завтра опять выговаривать начнет, и я расстроюсь, и давление опять поднимется. Я старый и не совсем здоровый человек, Лизонька, пойми, как мне все это тяжело. Не усугубляй!
– Это не я усугубляю, это она усугубляет. Все время ищет повод, чтобы ко мне придраться, и ведь находит! И срывается на полную катушку! Я ж вам объясняю – она ведет себя так, будто это я виновата, что отец ушел.
– Тебе все это кажется, Лиза. Не придумывай. Все, я вызываю такси.
– Да не надо, я на автобусе уеду. Что я, маленькая? Время еще детское, и одиннадцати часов нет.
Лиза поднялась с места, быстро пошла в прихожую, прихватив со спинки стула свой рюкзак.
– Тогда маме позвони, что ты едешь! – направилась вслед за ней тетя Соня.
– Ладно… Спасибо за ужин, до свидания…
Тетя Соня закрыла за ней дверь, вздохнула. Обиделась все-таки на нее девочка. Может, и впрямь надо было ее у себя оставить…
Хотя нет, нельзя. Алла бы скандалить начала, обвинять, что она заодно с ее бывшей свекровью. Господи, как же все у них нехорошо вышло, неправильно. И бедная девочка мечется во всем этом, страдает.
И снова вспыхнула внутри ужасная досада на старшую сестру Лизу. Ну как, как так можно было вести себя? Чем ей Алла в свое время не угодила? Ведь если Левушка Аллу любил, и Лиза должна была полюбить невестку. По крайней мере, не отторгать изо всех сил. Алла же так старалась.
Тетя Соня снова вздохнула, прислушалась к себе. Наверное, она и впрямь стала древней старухой, ничего не понимает в этих делах. Замужем никогда не была, детей своих не было. Может, если бы были, то и она бы тоже вела себя, как сестра. Кто знает, кто знает!
А Лизоньку все равно жалко. Хорошая девочка. Попала в этот раздор ни за что. Родной бабушке не нужна, отцу не нужна, и матери тоже не до нее, выходит. Вон с какой обидой произнесла: мол, мать всю свою любовь отцу отдала, мне ни капельки не досталось! И ведь не возразишь ничего толком, и сама видела – так и есть. Для Аллы Лева всегда был в приоритете, это невооруженным глазом видно было. И говорить об этом вслух тоже нельзя было: кто она такая, чтобы лезть со своими выводами! Бывало, вздохнешь с досадой, и все… Ну, еще ругнешься про себя тихонько на Аллу – да будь ты неладна со своими приоритетами! Где твоя голова, где твоя душа материнская, где чувства бабьи сермяжные к своему родному дитяти? Ну ладно, Лева… Он мужик. Он матерью с детства залюблен, он эгоист, на себе зацикленный. Но ты, Алла! Ты почему всю себя к ногам Левушки бросила? Откуда в тебе эта страсть к самоуничижению, которую нельзя любовью назвать?
А впрочем, чего это она опять вопросами разошлась, все равно ответов на них не получит. Да и не ей судить о любви, какой она может быть, а какой не может. Сама-то в себе страстей подобных отродясь не носила, так уж сложилась жизнь, ничего не поделаешь. Всегда была серой мышкой, даже по молодости, отсвечивала бледной тенью сестры-красавицы, замужем никогда не была. Хотя о ребеночке втайне мечталось, конечно же. И когда Левушка родился, все свои мечты реализовала на нем, дорогом племяннике, в той степени, в которой было позволено сестрой Лизой. А потом еще и Лизонька появилась, дочка Левушки. Тут уж никакими «степенями» ее чувства никто не ограничивал, скорее, наоборот. Стала она для Лизоньки и нянькой, и доверенным лицом, и бабушкой. Родной-то бабушке дела не было до внучки.
Зря, зря она ее прогнала… Зря испугалась, что Алла рассердится. Зря…
* * *
Автобус подошел быстро, и народу в нем в эту пору было немного. Можно сесть у окна, ехать с комфортом, глазеть на залитый огнями вечерний город. Улицы уже пустые, зато окна домов еще светятся, и витрины светятся красным, синим, зеленым… Какофония света и жизни – чужой жизни. Радостной, живой, чем-то наполненной – посторонней. Она в этой суете – наблюдатель. Немного завистливый наблюдатель. Мизантроп. Нелюдимка. Бука. Синий чулок…
Это мать так про нее однажды сказала – синий чулок. Подумалось, она шутит, но нет, лицо было по-прежнему отстраненное, слегка пренебрежительное. А мать продолжила почти с неприязнью:
– Да, ты синий чулок! Так в моей молодости никчемных дурнушек называли! Даже одеться толком не умеешь. Как влезла в эти дурацкие штаны и мышиную худи, так и ходишь! Я что, тебе вещей приличных не покупаю? Со стороны можно подумать, что родители у тебя нищеброды. Ходишь, позоришь нас с отцом!
Да, тогда это прозвучало именно так – мол, есть ты, а есть мы с отцом. Мы нормальные люди, а ты – нет. Ты не имеешь к нам никакого отношения. А впрочем, как и всегда звучало…
Да и черт бы с ним, пусть бы и так звучало! Все равно было лучше, чем сейчас, когда отец уже не живет с ними.
Он как-то в одночасье собрался, быстро, по-деловому. Она сидела в своей комнате, сжавшись мышкой, слышала, как мать истерит. Уже до хрипоты. А отец отвечает ей коротко и сердито. Потом вздрогнула, когда дверь в комнату распахнулась и мать крикнула ей в лицо с надрывом:
– Ну что ты сидишь, что? Не понимаешь, что происходит, да? Тебе все равно, что ли?
– Нет, мам… Но что я могу… Я не знаю…
– Иди, останови его! Ты ему дочь или кто? Попроси! Скажи хоть что-нибудь. Ты же его ребенок, останови! Ну сделай хоть что-нибудь, не сиди сиднем!
Она послушно поднялась с места, на ватных ногах вышла из комнаты, прошла в родительскую спальню. Отец возился с чемоданом, никак не мог застегнуть на нем молнию, чертыхался тихо. Поднял голову, глянул на нее зло.
– Чего тебе? – спросил отрывисто.
– Пап, не уходи… – проговорила тихо, привалившись плечом к дверному косяку. – Ты же видишь, что с мамой делается, пап… Она же с ума сходит… Пожалуйста, не уходи! Я боюсь…
– Господи, ты еще тут! – раздраженно ответил отец, наваливаясь всем корпусом на чемодан и снова пытаясь застегнуть непослушную молнию. Лицо его было красным – то ли от злости, то ли от физического перенапряжения.
Молния никак не закрывалась. Отец дернул ее в обратную сторону, снова распахнул чемодан, вытащил из него какой-то пакет, бросил в распахнутые дверцы шкафа, пробурчав тихо:
– Ладно, черт с ним. Потом заберу все оставшееся.
Мать стояла у нее за спиной, причитала в голос:
– Я наложу на себя руки, так и знай! Ты же прекрасно понимаешь, что я ни дня без тебя не смогу! Твоя дочь останется сиротой, так и знай! Я прошу тебя, Лева, я тебя умоляю… Не убивай меня… Ну чем я перед тобой провинилась, скажи? Я все сделаю, как ты хочешь… И Лиза тоже.
Мать зарыдала хрипло и больно ткнула ее кулаком меж лопаток:
– Ну что ты молчишь? Ты же его дочь! Ты же видишь, он уйдет сейчас, ну?
– Не уходи, пап… – снова повторила она с той же безысходной интонацией в голосе. – Я же твоя дочь. Я все сделаю, как ты хочешь.
– Что ты за ней повторяешь, как робот? – сердито проговорил отец, коротко и зло на нее глянув. – Лучше смотри на свою мать и делай свои выводы, поняла? Никогда, никогда не веди себя так, никогда не унижайся перед мужчиной! Никто не будет любить женщину, которая может сама себя унизить! Запомни это навсегда, поняла?
– И это все, что ты можешь сказать своей дочери? Да, Лева? – трагически спросила мать, снова больно толкнув ее в спину.
– А что бы ты хотела услышать? – насмешливо ответил отец. – Она что, пятилетний ребенок, чтобы я ей в уши всякие пошлости лил? Мол, всегда буду любить, всегда будешь моей дочерью… Это ж и так понятно, зачем никому не нужное представление делать? Скажи лучше, где моя любимая рубашка, голубая такая, в белый рубчик?
– Не знаю… В стиралке, кажется… – оторопела мать от неожиданного бытового вопроса.
– О, черт… Вечно в этом доме ничего не найдешь, – пробурчал отец, снова наваливаясь на чемодан.
Она хотела сказать: мол, зря ты так, пап. Уж маму в неаккуратности никак нельзя обвинить, особенно в отношении твоих рубашек. Потому что этот ритуал для мамы был почти священным – каждый вечер наглаживать для отца свежевыстиранную рубашку. И лицо у нее было всегда такое сосредоточенно благостное, когда она ее гладила. Можно сказать, счастливое было лицо. Да и вообще все, что касалось отца, его вкусов, его одежды, его привычек, было для мамы святым. Если бы можно было с отца написать икону, она бы ее в углу повесила и возносила молитвы каждый день. Зря, зря он так про маму, зря…
Но ничего такого она не сказала конечно же. Да и не успела бы. Потому что отец уже подхватил свой чемодан и решительно направился к двери, и ей ничего не оставалось, как отступить, давая ему дорогу. Мать же совсем потеряла в этот момент голову, хваталась за отца, рыдала и даже упала ему под ноги в прихожей, и было ужасно неловко на это смотреть.
Да и неправильное это слово – неловко. Правильнее будет сказать – страшно. И стыдно. И больно. И очень хотелось заплакать, но даже и плакать было неловко. И страшно. И стыдно.
Но на этом в тот злополучный день ее мучение не закончилось. Мать потащила ее к бабушке Лизе, хотя наверняка понимала, что визит их будет пустым и нелепым. Бабушка Лиза и раньше-то маму своей невесткой не признавала, а уж теперь-то… Спасибо, хоть дверь им открыла и позволила в квартиру войти. Хотя лучше бы и впрямь на порог не пускала. Меньше бы стыда было.
– А как ты хотела, Алла? – спросила бабушка Лиза почти торжествующе. – Ты же сразу понимала, что выбрала мужа не по себе. И я тебя не раз предупреждала. Теперь-то чего ты от меня хочешь, скажи?
– Но почему же, Елизавета Максимовна? Почему же не по себе? Ведь я его люблю, и он меня любит. Ведь все хорошо у нас было… Дочка у нас растет, внучка ваша.
– И что? Если ты забеременела, то решила, что автоматически одержала победу? Нет, милая, так не бывает в жизни, чтобы приехала из своей деревни, переспала с мужиком и сразу в дамки пролезла! Ну сама подумай: кто ты и кто мой Лева? Ведь я тебя тогда еще предупреждала, не лезь. Не претендуй на то, что тебе принадлежать не может. Не лезь!
И опять ей было ужасно стыдно за мать. Потому что та сидела с виноватым лицом, будто соглашаясь со всем, что говорит бабушка. И даже головой кивала мелко-мелко, будто ее трясло изнутри. Да и на бабушку было стыдно смотреть, как она сидит в кресле с каменным лицом, слегка подрагивая губами. И взгляд у нее такой холодный, когда застыл на ее лице, будто не на внучку бабушка посмотрела, а на чужую девчонку.
А мать продолжала причитать, почти рыдала в отчаянии:
– Я вас умоляю, Елизавета Максимовна, повлияйте на сына! Он вас послушает, я знаю. Да, я недостойна его, но я же стараюсь! Скажите ему, чтобы вернулся. Я без него просто не могу жить, я умру. Внучку свою пожалейте хотя бы…
– Не умрешь, Алла. От развода еще не одна женщина не умирала. В конце концов, ты должна понимать, что все должно было закончиться разводом. Я вообще не понимаю, зачем ты ко мне пришла! Еще и Лизу с собой притащила! Неужели ты думала, что я тебя пожалею? На что ты рассчитывала? Я же мать, я своего сына жалеть должна, а не тебя! И даже более того, я Леву вполне понимаю и поддерживаю! Давно было пора прекратить этот мезальянс!
Бабушка не говорила, а будто хлестала мать по спине плетью. Она это чувствовала, сидя рядом с ней на диване. Чувствовала, как вздрагивает у матери тело, как сжимается болью горло, будто она сдерживает в себе крик отчаяния. А бабушка тем временем продолжала:
– Я тебе сотый раз повторяю: ты сама во всем виновата, Алла! Я ведь тебе тогда еще сказала, что брак по залету – гиблое дело, помнишь? И Лева не любил тебя вовсе, не надо придумывать. Просто он очень ответственный и порядочный, это я его таким воспитала! Да, он женился… А что ему еще оставалось делать?
– Но как же… По какому залету? Нет, вы не правы, мы с Левой вместе так решили. Пусть у нас будет ребенок. Мы вместе решили, Елизавета Максимовна! Вот же она, ваша внучка! И я не понимаю, что плохого в том, что я тогда на аборт не пошла? Ведь хорошо. Разве не так?
Она вдруг очень испугалась бабушкиного ответа в этот момент! Так испугалась, что все содрогнулось внутри. Будто ее сейчас отменят одним словом, как ластиком сотрут. Еще пара секунд – и ее не станет!
– Мам, пойдем отсюда! Слышишь? Пойдем!
Подскочив с дивана, она так решительно потянула за собой мать, что та даже растерялась. И послушно последовала за ней в прихожую, и вышла так же послушно за дверь. А бабушка даже не удосужилась их проводить.
Опомнилась мать только на улице. Больно дернула ее за руку, спросила сердито:
– Зачем ты меня увела? Кто тебя просил вообще вмешиваться? Это из-за тебя Лева ушел, из-за тебя! Правильно свекровь сказала, что брак по залету – гиблое дело! Он всю жизнь так и думал, что женился на мне только по залету, а не потому, что любил меня! Ты во всем виновата, ты!
Конечно, она понимала, что мать не думает сейчас о том, что говорит. Какие страшные слова произносит. Что сознание у нее блокировано ее горем, что не надо всерьез воспринимать эту ее жестокость. Понимала, но легче от этого не было. Наоборот.
Она же мать. Ведь должны материнские чувства брать верх в любой ситуации. Неужели она не чувствует, что с ее дочерью сейчас происходит? Что рвет ее сердце в клочья?
За что? Почему?
Она ведь так старалась быть хорошей. Так хотела, чтобы родители ею гордились, из кожи вон лезла. Училась хорошо, спортом занималась, жила так, будто ходила на цыпочках – лишь бы хлопот лишних не доставить, лишь бы не помешать. С закрытыми глазами жила. Потому что если их откроешь, то многое заметить придется и как-то объяснить самой себе.
Объяснить, например, тот факт, почему родители никогда не берут ее с собой в отпуск. Даже не обсуждают меж собой этот момент. Будто это так и надо, будто само собой разумеется.
Сборы эти всегда происходили хлопотливо и весело. Мать собирала чемодан, крутилась по квартире возбужденно, сияла глазами. Заглядывала к ней в комнату, держа в руках ворох одежды, спрашивала быстро:
– Как думаешь, мне лучше сарафан взять или вот это платье? А шорты брать или не брать? Погоди, я сейчас их на себя надену, и ты посмотришь, как я выгляжу – толстая или нет. Мне кажется, я слегка располнела… Ну чего молчишь? Говори как есть!
– Хорошо, мам… Ты ничуть не располнела, нет…
– Правда? Ну вот и отлично! Хотя чего это я… Ведь шорты нельзя брать в Эмираты! Погоди, я сейчас легкие брюки принесу, и ты посмотришь, как они на мне сидят. Вот с этой рубашкой, у нее рукава длинные. Хотя на пляж можно и в шортах. Ой, прям не знаю, что и брать!
– А там жарко, наверное, да? В этих Эмиратах?
Видимо, мать все же услышала грустную нотку в ее голосе и глянула так, будто очень сильно удивилась.
– Ой… А чего это у тебя такой вид убитый, а? Ты что вдруг? Неужели обижаешься, что мы с папой тебя с собой не берем?
– Нет, нет… Что ты, мам! Нисколько я не обижаюсь! Нет! – поспешила она заверить маму, широко и преданно распахивая глаза. – Нет…
– Ну и правильно, чего вдруг обижаться? Тебе ж хорошо будет у тети Сони на даче: грибы, ягоды, свежий воздух. Тетя Соня просто обожает с тобой возиться, в отличие от твоей родной бабушки! Она же у нас такая, родная-то… На драной козе к ней не подъедешь.
Мать вздохнула, на секунду погрузившись в налетевшее неприятное переживание, и тут же засуетилась вновь:
– Ой, чего я тут с тобой заболталась, времени же совсем нет, собираться надо. И ты тоже собирайся, скоро тетя Соня за тобой заедет! Бери что-нибудь совсем плохонькое из одежды, для деревни сойдет.
Она потом долго плакала, когда тряслись с тетей Соней в рейсовом автобусе по проселочной дороге. Тетя Соня ее утешала, говорила тихо, будто извиняясь за свои слова:
– Не надо плакать, Лизонька. Будь добрее, не обижайся на родителей. Пусть они побудут вдвоем, пусть… Все будет хорошо, Лизонька.
Потом мать с отцом слали ей фотографии. Вот на пляже, вот на экскурсии, вот мама в нарядном платье на набережной. Лицо беззаботное, счастливое. Она сидела на полуразвалившемся крыльце старенькой дачки, похожей на сарайчик, и мысленно представляла себя там, с ними. И снова хотелось плакать, но слез не было. А была какая-то глухая печаль внутри, противная, маетная. Заморосил дождь, и пришлось уйти в дом, где тетя Соня занималась заготовками, и тоже включиться в работу, чтобы хоть как-то отвлечься.
– Ты чего такая смурная, Лизонька?
– Да так, теть Сонь… На улице опять дождь пошел.
– Да, не повезло нам с погодой. Гнилое нынче лето, дождливое.
– Ага. В Эмиратах жара, а в нашей деревне опять дожди.
– Ой, дались тебе эти Эмираты, подумаешь! На вот лучше, порежь лук. И помельче. Мне много лука надо, я зимние салаты закручиваю.
– Давайте.
Хорошее это дело – резать лук. Можно плакать легально. И тетя Соня не спросит, почему плачешь. Почему-почему! Потому что лук режу!
Так улетела памятью в пережитое, что чуть не проехала свою остановку. Выпорхнула из автобуса в последний момент, словно испуганная птица.
Во дворе дома было темно, горел всего один фонарь у детской площадки. И на скамейке у подъезда сидит кто-то. Мужик вроде. Незнакомый. А вдруг он за ней в подъезд войдет? Страшно…
Незнакомым мужиком оказался Сережа, и вздохнула с облегчением, произнесла с улыбкой:
– Привет! А ты что здесь делаешь?
– Так тебя жду.
Пожала плечами, улыбнулась. Вот еще, ее он ждет! Зачем, спрашивается? Ему теперь ехать на другой конец города.
– Я звонил, ты не ответила. Вот и подумал, вдруг что-то случилось…
– Ты отвечаешь сейчас, как Саид из «Белого солнца пустыни», – улыбнулась она грустно. – Он говорил: «Стреляли…», а ты с такой же интонацией: «Я звонил…»
– Да? – тоже улыбнулся Сережа. – Смешно. Ладно, в другой раз так и скажу: «Стреляли…» Кстати, твоя мама тоже не знает, где ты.
– А ты что, в дверь позвонил?
– Ну да. По-моему, она не в настроении. Ответила мне так недовольно: «Откуда я знаю, где Лиза шляется!» Попадет тебе сейчас, наверное.
– Ну, и попадет, и что? Тебе-то какая забота?
Сказала сердито и тут же пожалела об этом. Сережка-то в чем виноват? Чего она на нем свой депресняк срывает? Сережка – он же друг. Со школы еще. Даже хотел вместе с ней в универ на биофак поступать, но потом передумал, рванул в политехнический. Но про нее не забыл. Все время старается на созвоне быть, все время зовет куда-то, и родители у него классные, хорошо к ней относятся. И вообще… Она всегда немножко завидовала Сереже. Бывает же такое, когда люди живут одной семьей и вполне себе счастливы. Завидно!