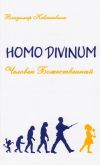Читать книгу "Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ"

Автор книги: Виктор Франкл
Жанр: Зарубежная психология, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мы постарались противопоставить скептицизму, который так часто исходит от наших пациентов, существенные контрдоводы и таким образом вырвать жало нигилизма. Но все-таки часто чувствуется необходимость наглядно представить богатство ценностного мира, всю его полноту. Ведь нужно, чтобы человек, так сказать, не застревал на осуществлении одной группы ценностей, а был достаточно «маневрен» и мог перейти к другой ценностной группе, если здесь, и только здесь, обнаружится возможность для осуществления ценностей. Жизнь требует от человека определенной гибкости, эластичной приспособляемости к шансам, которые она ему предоставляет.
Зачастую пациент утверждает, что его жизнь лишена смысла, потому что в его деятельности не просматривается высшая ценность. Тогда мы прежде всего должны ему сказать, что в конечном счете неважно, какова его профессия, чем он занят, а гораздо существеннее, как он работает, заполняет ли он то место, на которое поставлен жизнью. Не то важно, сколь велик масштаб его деятельности, а единственно важно, осуществляется ли круг жизненных задач. Простой человек, который подлинно выполняет конкретные задачи своей профессии и своей семьи, в своей «маленькой» жизни становится «выше», чем «великий» государственный деятель, росчерком пера решающий судьбы миллионов и принимающий эти судьбоносные решения недобросовестно.
Существуют не только такие ценности, которые воплощаются в деятельности. Помимо этих (назовем их творческими) ценностей есть и такие, которые воплощаются в восприятии, «ценности переживания». Они реализуются в восприятии мира, например в восторге перед красотой природы или искусства. Не следует недооценивать полноту смысла, которую они могут придать человеческому существованию. Если кто-либо усомнится, может ли реальный смысл конкретного мгновения человеческой жизни заключаться в переживании как таковом, то есть без какого-либо дела и действия, без осуществления какой-либо деятельности, то посоветуем сомневающемуся такой мысленный эксперимент: пусть он представит себе, как музыкально одаренный человек сидит в концертном зале, где его слух услаждают мощные такты его любимой мелодии и его охватывает та дрожь, которую человек испытывает при восприятии чистейшей красоты. Далее, пусть представит себе, что в этот миг слушателю задают вопрос, имеет ли его жизнь смысл, – несомненно, он ответит, что стоило бы жить уже ради этого волшебного мгновения{36}36
Cр.: Рассуждение Габриэля Марселя: «Соната Бетховена (op. 111) или его струнный концерт (op. 127) ведут туда, куда человечество стремится поверх самого себя в очевидном и в то же время невыразимом толковании смысла».
[Закрыть]. Ведь даже если речь идет всего лишь о мгновении, величием одного мгновения измеряется величие жизни: высота горного хребта определяется не долинами, а высотой высочайшего его пика. Итак, смысл жизни определяется ее высшими точками, и единое мгновение может в обратной перспективе придать смысл всей жизни. Спросите человека, который, стоя на вершине, любуется закатом и до мурашек по коже захвачен красотой природы, – спросите его, может ли после такого переживания жизнь когда-либо показаться ему лишенной смысла.
Но мне кажется, что существует еще и третья категория ценностей, ведь жизнь может восприниматься как вполне осмысленная и в отсутствие творческих достижений или богатых переживаний. Есть еще одна группа ценностей, реализация которых заключается в том, как человек держится перед ограничениями своей жизни. В этой позиции по отношению к своим стесненным возможностям открывается новое, изобильное царство ценностей, которые, безусловно, принадлежат к наивысшим. Так что даже весьма скудное на первый взгляд – но скудное лишь ценностями деятельности и ценностями переживания – бытие-в-мире все еще предоставляет нам последний и величайший шанс осуществить ценности. Мы назовем их ценностями позиции, ведь все зависит от того, как человек позиционирует себя по отношению к судьбе, которую он не в силах изменить. Возможность воплощать такого рода ценности возникает там, где человек вынужден противостоять судьбе, но противостоять ей может лишь в той мере, в какой он принимает на себя бремя этой судьбы, несет свой крест. Речь идет о таких качествах, как отвага в страдании, достоинство в крушении и гибели{37}37
Речь идет именно о достижении, о высочайшем достижении, что доказывает пример Марека Эдельмана, который в 1943 г. организовал восстание в Варшавском гетто и в 17 лет стал его комендантом. Ныне он работает врачом в Лодзи. Доктор Эдельман определяет героизм следующим образом: «Кто борется, тому легче умирать. И если ты уже ничего не можешь сделать, если тебя ведут на расстрел, но ты идешь с достоинством – ты герой».
[Закрыть]. Как только мы вводим ценность позиции в сферу возможных ценностей, выясняется, что человеческое существование никогда не может быть лишено смысла: жизнь человека содержит свой смысл до in ultimis[21]21
«Последних минут» (лат.).
[Закрыть], ибо, пока он дышит, пока остается в сознании, он несет ответственность перед ценностями, хотя бы перед ценностями позиции. Пока есть «со-знание», есть и «со-весть», ответственность. Обязанность реализовать ценности не оставляет человека до последнего мгновения его бытия. Так еще раз подтверждается смысл утверждения, с которого мы начали: быть человеком – значит обладать сознанием и ответственностью.
В жизни каждый час приносит возможность обратиться то к одной группе ценностей, то к другой. Иногда жизнь требует от нас осуществления творческих ценностей, в другой раз нужно обратиться к категории ценностей переживания. Иногда у нас есть возможность, так сказать, обогатить мир своими делами, в другой раз переживание обогащает нас. Иногда требования часа осуществляются в действиях, иногда нужно предаться переживанию. И даже к радости человек может быть «обязан». В этом смысле пассажир трамвая, узревший прекрасный закат или вдохнувший аромат цветущих акаций и отказавшийся предаться этому естественному наслаждению, но уткнувший нос в газету, в этот миг «не исполняет свои обязанности».
Возможность реализовать все три ценностные категории друг за другом, в драматическом единстве, появляется у больного, история жизни которого подходит к последним главам. Обрисуем ситуацию так: это еще не старый человек, попавший в больницу с неоперабельной опухолью спинного мозга. По специальности он работать давно не может, он полупарализован, и это препятствует профессиональной деятельности. Таким образом, к деятельным ценностям он больше не имеет доступа. Но и в этом состоянии ему открывается все богатство переживаний: он ведет духовно насыщенный разговор с другими пациентами (и этим разговором не только занимает их, но и поддерживает в них мужество), не забывает о чтении хороших книг, а в особенности слушает по радио хорошую музыку – до того дня, когда он уже не сумеет надеть наушники и ослабевшие руки не выронят книгу. Теперь в его жизни происходит второй поворот: как прежде от творческих ценностей он обратился к ценностям опыта и переживания, так теперь вынужден обратиться к ценностям позиции. Как иначе обозначить его отношение, если теперь он старается послужить своим соседям по палате советчиком и примером? Ибо он с большой отвагой переносит страдания. В день смерти – который он предвидел заранее – он узнает, что дежурного врача попросили в нужный момент сделать ему инъекцию морфия. Как поступит наш больной? Когда врач пришел к нему с вечерним обходом, больной попросил его сделать инъекцию под конец рабочего дня, чтобы из-за него врача не пришлось будить среди ночи.
Не должны ли мы теперь задать себе вопрос, имеем ли мы право отнимать у обреченного больного шанс умереть «своей смертью», шанс до последнего момента своей жизни наполнять ее смыслом, даже если единственные доступные ему теперь ценности – ценности позиции, то есть то, как «страдающий» принимает страдание в свой высший и заключительный момент. Его смерть, своя смерть, полностью принадлежит его жизни и завершает ее: только смерть и придает жизни осмысленную полноту. Здесь мы сталкиваемся с проблемой эвтаназии, но не только в смысле облегчения смерти, а в более широком смысле умерщвления из милосердия. Эвтаназия в узком смысле слова никогда не представляла проблемы для врача: само собой разумеется, что врач старается облегчить агонию с помощью лекарств; момент, когда следует использовать эти лекарства, – вопрос деликатности и не требует теоретического обсуждения. Но сверх облегчения смерти, эвтаназии в собственном смысле слова, многократно и с разных сторон совершаются попытки узаконить уничтожение жизни, которая-де «не имеет смысла». На это можно возразить лишь вот что: прежде всего, врач не призван судить о ценности человеческой жизни или отсутствии таковой. Общество возложило на него лишь задачу помогать там, где это возможно, облегчать боль, где ее нужно облегчить, исцелять, пока есть надежда, и обеспечивать уход, если уже нельзя вылечить. Если пациенты и их родственники не будут уверены, что врач буквально и со всей серьезностью выполняет эту свою обязанность, врач навсегда лишится доверия. Больной в любой момент сомневался бы, приближается к нему целитель или палач.
Эта принципиальная позиция не допускает никаких исключений также и там, где речь идет не о неизлечимых болезнях тела, а о неизлечимых болезнях духа. Да и кто может предсказать, долго ли еще считающийся неизлечимым психоз будет рассматриваться как неизлечимый? Мы не вправе забывать, что диагноз «неизлечимый психоз» представляет собой субъективное суждение, которое невозможно считать настолько объективным, чтобы на его основании выносить приговор, жить пациенту или не жить. Нам известен случай, когда человек пролежал в ступоре пять лет, так что мышцы ног у него атрофировались и силы его поддерживали искусственным питанием. Если бы этот случай представили на обсуждение медицинской комиссии, нашелся бы и такой специалист, которой задал бы известный вопрос: «Не лучше ли нашего больного уничтожить?» Но жизнь дала наилучший ответ на этот вопрос. В один прекрасный день больной потребовал себе нормальный обед и пожелал встать с постели. Ему пришлось делать упражнения, пока забывшие о ходьбе ноги не научились вновь его носить, но несколько недель спустя он вышел из больницы и вскоре уже читал лекции в Народном университете – рассказывал, представьте себе, о путешествиях, которые он совершал до болезни. И он представил узкому кругу психиатров полный отчет об этих годах и самоописание болезни – к величайшему неудовольствию некоторых санитаров, которые позволяли себе скверно с ним обращаться, отнюдь не ожидая того, что он спустя годы сможет обо всем рассказать подробно и связно.
Можно вообразить и такой аргумент: пациент с психическим расстройством не способен соблюсти свои интересы, и мы, врачи, выступая от имени недееспособного больного, соглашаемся его умертвить, поскольку есть основания полагать, что больной и сам лишил бы себя жизни, если бы помрачение разума не препятствовало ему различать свою дефективность. Но я отстаиваю противоположную позицию: врач должен служить праву на жизнь и воле к жизни, а не отнимать у пациента это право и эту волю. Поучителен случай, когда молодой врач заболел меланосаркомой и сам поставил себе верный диагноз. Коллеги тщетно пытались его успокоить, подсовывая ему благополучные анализы (для этого пришлось подменить образец его кожи кусочком кожи другого пациента). Ночью этот врач прокрался в лабораторию и сам проверил анализ. Болезнь развивалась, опасались самоубийства, но как повел себя этот врач? Он все более сомневался в своем изначальном верном диагнозе, и, когда метастазы проникли уже в печень, он предпочел «обнаружить» у себя другое, нестрашное заболевание печени. Так он бессознательно обманывал самого себя, так на последних стадиях проявляется воля к жизни. Эту волю к жизни мы обязаны уважать и не отнимать, вопреки этой воле, у человека жизнь во имя какой бы то ни было идеологии.
И еще один часто встречающийся довод. Говорят, что пациенты с неизлечимой душевной болезнью, особенно же умственно отсталые с детства, представляют собой лишнюю экономическую тяготу для общества, они непродуктивны и совершенно бесполезны. Как опровергнуть этот аргумент? На самом деле идиот, способный хотя бы толкать тележку, «продуктивнее» бабушек и дедушек, чахнущих в доме престарелых, но мысль умертвить их по причине их экономической непродуктивности ужаснула бы даже тех, кто прибегает к критерию пользы для общества. Ведь приходится признать, что человек, окруженный любовью близких, является уникальным и незаменимым объектом их любви и тем самым его жизнь обретает смысл, пусть и совершенно пассивный. Но не все знают о том, что как раз умственно отсталые дети особенно любимы родителями и в своей беспомощности окружены нежнейшим уходом.
Непреложная обязанность врача – спасать, где можно, не исчерпывается, по нашему мнению, и тогда, когда пациент покушался на самоубийство и в результате его жизнь висит на волоске. В этой ситуации врач сталкивается с вопросом, предоставить ли самоубийцу избранной им судьбе или же нет, противостоять ли воле, которую пациент воплотил в действии, или же отнестись к ней с уважением. Ведь можно сказать, что врач, который вмешивается после попытки самоубийства, борется с судьбой вместо того, чтобы предоставить ей свободно осуществиться. На это мы возразим: если бы «судьбе» было угодно, чтобы этот человек, пресытившись жизнью, умер, то нашлись бы такие способы и средства покончить с собой, что никакая медицинская помощь уже не спасла бы. Но поскольку «судьба» предала самоубийцу еще живым в руки врача, врач обязан поступать по законам своей профессии и ни в коем случае не может превращаться в судью и решать по личным и мировоззренческим заслугам, кому жить, кому умереть.
До сих пор мы рассматривали проблему самоубийства снаружи, со стороны врача, но теперь мы рассмотрим ее изнутри, с точки зрения самоубийцы, и проверим внутреннюю правоту его мотивов.
Прежде всего поговорим о так называемом «самоубийстве отрицательного баланса», то есть о ситуации, когда человек приходит к добровольному желанию смерти, подведя итоги своей жизни. После обсуждения проблемы «удовольствия как смысла жизни» мы уже вполне понимаем, что баланс удовольствий в любом случае окажется отрицательным. Итак, следует спрашивать лишь, может ли баланс ценностей за всю жизнь оказаться отрицательным, причем до такой степени, что дальнейшее существование покажется бессмысленным. Мы вообще считаем сомнительным, чтобы человек был в состоянии с достаточной объективностью подвести свои жизненные итоги, в особенности когда слышим утверждение, что ситуация безысходна и единственный путь – самоубийство. Даже если это утверждение вполне искренне, сама искренность остается достаточно субъективной. Если хотя бы один человек из многих, кого убеждение в безнадежности их положения подтолкнуло к самоубийству, окажется не прав, если хотя бы одному-единственному откроется и другой выход, то тем самым неоправданна будет всякая попытка самоубийства: ведь субъективная, одинаково твердая убежденность присуща всем, кто решается на самоубийство, и никто не может знать заведомо, объективна и оправданна ли именно его убежденность, или, быть может, уже ближайший час разоблачит это заблуждение – час, в который этого человека уже не будет в живых! Чисто теоретически можно было бы еще рассуждать о самоубийстве как о сознательно приносимой жертве, но эмпирически мы убеждаемся, что в реальной жизни мотивы даже такого самоубийства слишком часто проистекают из досады и мстительности или что даже в таких случаях порой находится вдруг выход из ситуации, казавшейся безнадежной. Итак, практически можно утверждать, что самоубийство никогда не бывает оправданно. Даже как искупление – тоже нет. Ведь подобно тому как самоубийство отрезает возможность расти и созревать в своем страдании (осуществляя ценности позиции), так же оно отрезает возможность тем или иным способом искупить или исправить страдание, причиненное другому. Самоубийством прошлое увековечивается, и нет возможности устранить из мира случившееся несчастье или совершенную несправедливость – из мира устраняется только «Я».
Обратимся теперь к тем случаям, когда мотив самоубийства проистекает из болезненного состояния души. Оставим открытым вопрос, не обнаружится ли с развитием психиатрии, что покушения на самоубийство без каких-либо патологических причин вообще исключены. Нас интересует другое: установить, что во всех случаях наш долг – доказать разочаровавшемуся в жизни человеку бессмысленность самоубийства и непреложную ценность жизни. Это осуществляется с помощью объективных доводов и имманентной критики, то есть средствами логотерапии. Первым делом нужно доказать, что разочарование в жизни – всего лишь чувство, а чувства не могут служить аргументом. На этом пути пациент не получает того, чего он взыскует, – решения проблемы. Мы должны все время повторять решившемуся на самоубийство, что таким способом он не решит проблему. Мы должны наглядно ему показать: он похож на шахматиста, который, вместо того чтобы решать сложную задачу, попросту сбрасывает фигуры с доски. Так шахматные задачи не решаются. И в жизни никакая проблема не может быть решена попросту отказом от жизни. Если шахматист нарушает правила игры, то и самоубийца нарушает законы великой игры жизни. Эти правила требуют от нас не победы любой ценой – они требуют, чтобы мы не выходили из борьбы{38}38
Не так-то просто ответить на банальный вопрос, отвага или трусость движут самоубийцей. Ведь было бы несправедливо сбрасывать со счетов внутреннюю борьбу, которая предшествует покушению на собственную жизнь. Выходит, самоубийца мужествен по отношению к смерти – но он боится жизни.
[Закрыть].
Мы не можем и не должны пытаться устранить любые источники несчастья, чтобы отговорить стремящихся к самоубийству от их замыслов. Мы не обязаны предоставлять всем безответно влюбленным женщин, а всем экономически угнетенным – заработок. Нужно убедить этих людей, что они смогут не только жить без того, чего они сейчас по той или иной причине не могут получить, но и обрести смысл жизни именно во внутреннем преодолении своего несчастья, когда они вырастут соразмерно ему, встанут в рост со своей судьбой, пусть она в чем-то им и отказывает. Наши пациенты лишь тогда обретут способность признавать в жизни какую-то ценность и верить, что она в любом случае имеет смысл, когда мы сумеем представить им такое содержание жизни, в каком они смогут обрести цель и задачу своего бытия, иными словами – какое-то для себя задание. «У кого есть "зачем" жить, вынесет почти любое "как"», – говорит Ницше{39}39
«Разобравшись в отношении собственной жизни с вопросом „зачем?“, вопросом „как?“ легко поступиться» Ф. Ницше, Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. Незавершенный трактат Фридриха Ницше в реконструкции Элизабет Ферстер-Ницше и Петера Гаста / Пер. с нем. Е. Герцык и др. – М.: Культурная революция, 2005.
[Закрыть]. Действительно, осознание жизненной задачи имеет огромное психотерапевтическое и психогигиеническое значение. Мы готовы утверждать, что ничто так не помогает человеку справляться с объективными трудностями и субъективными переживаниями, как осознание своей жизненной задачи, но лишь при условии, что эта задача подогнана под личность, то есть представляет собой «миссию». Миссия делает человека незаменимым, необходимым, она придает его жизни уникальную ценность. Процитированный выше афоризм Ницше дает понять – «как», то есть различные неприятные обстоятельства отступают на задний план в той мере и в тот момент, когда на первый план выходит «зачем». И мало того: из полученного таким образом представления о жизненной задаче следует, что смысл жизни становится тем полнее, чем труднее сама жизнь.
Если мы стараемся побудить пациентов к максимально посильной для них активности, если мы хотим перевести их из разряда собственно «пациентов», то есть «пассивных», в состояние действующих «агентов», придется не только подвести их к осознанию своего бытия-в-мире как ответственности за осуществление ценностей, но и показать, что задание, за исполнение которого они ответственны, уникально. Уникальность задания имеет двойной характер: задание меняется не только от человека к человеку, в соответствии с уникальностью каждого, но и из часа в час, в соответствии с уникальностью любой ситуации. Нужно лишь вспомнить о том, что Шелер именует «ситуационными ценностями» (противопоставляя их «вечным» ценностям, годным для всех и во все времена). Эти ценности ждут, пока не пробьет их час – час, когда человек использует единственную в своем роде возможность реализовать именно их. Если возможность будет упущена, то эта утрата невозвратима и ценность этой ситуации пребудет вовеки не реализована – человек упустил ее. Итак, мы видим, как осмысленность человеческой жизни проистекает из этого сочетания – уникальности человека и неповторимости момента. Заслуга современной экзистенциальной философии в том, что она, в пику расплывчатым понятиям развивающейся параллельно ей философии жизни, представила бытие-в-мире человека как сущностно конкретное, как «мое и сейчас». И только в этом конкретном обличье человеческая жизнь обретает обязательность. Не случайно же экзистенциальную философию называют также «философией призыва»: представление о человеческой жизни как неповторимой и уникальной содержит призыв реализовать эту уникальную и неповторимую возможность.
Экзистенциальный анализ и логотерапия пытаются максимально сосредоточить пациента на его жизни. Для этого нужно ему показать, что каждая жизнь имеет свою уникальную цель, к которой ведет уникальный путь. Человек подобен пилоту, который ночью, в тумане пытается осуществить посадку по навигатору. Только этот размеченный путь ведет его к цели. И точно так же любой человек во всех обстоятельствах жизни располагает лишь одним уникальным и неповторимым путем, который ведет к реализации его уникальных возможностей.
И если пациент скажет нам, что никакого смысла в своей жизни не видит и уникальные возможности бытия-в-мире для него закрыты, мы сумеем возразить, что первая, ближайшая его задача в том и состоит, чтобы найти свою задачу и в этом обрести смысл жизни – единственный и уникальный. Что же касается его внутренних возможностей, то есть вопроса, как вывести из своего нынешнего бытия верное направление, где ему следует оказаться, то лучше всего будет принять ответ Гёте: «Как возможно человеку познать самого себя? В созерцании – никоим образом, только в деятельности. Постарайся исполнять свой долг, и ты тут же узнаешь, в чем он состоит. А что такое твой долг? Требование часа сего».
Существуют, однако, и такие люди, которые признают уникальный характер жизненной задачи и даже полны решимости воплощать конкретные и уникальные ситуационные ценности, но все-таки считают свою ситуацию «бесперспективной». Тогда прежде всего стоит спросить: а что это значит – «бесперспективной»? Человек ведь не может предсказать свое будущее, не может уже потому, что знание о будущем повлияло бы на его поведение: он бы поступал либо вопреки этому будущему, либо поддаваясь ему – и тем самым в любом случае изменил бы это будущее, и пророчество оказалось бы неверным. А поскольку человек не может предсказывать будущее, он не вправе судить, содержит ли его будущее возможности для осуществления ценностей. Однажды негр, приговоренный к пожизненной каторге, был отправлен на Чёртов остров под Марселем. В море на пароходе – обреченном на гибель «Левиафане» – вспыхнул пожар, и каторжник, человек необыкновенной силы, сумел освободиться от цепей и спас десятерых спутников. За это он был помилован. Если бы в гавани Марселя этого человека спросили, есть ли в его жизни какая-то перспектива, он вынужден был бы покачать головой.
Но ни один человек не может знать, чего ему ждать от жизни и не пробьет ли еще его великий час. И никто не вправе ссылаться на собственную неадекватность, недооценивая свои внутренние возможности. Как бы ни отчаивался в самом себе человек, как бы ни судил себя и ни терзался переживаниями, даже сам факт этих переживаний каким-то образом оправдывает и восстанавливает его. Как жалобы на субъективность и относительность всякого знания (в том числе и постижения ценностей) косвенно подтверждают объективность этого знания и этих ценностей, так и суд над самим собой демонстрирует существование личного идеала, представления о должном бытии. Этот человек уже воспринял ценности, то есть он причастен к их миру: в тот миг, когда он сумел применить к себе идеальную мерку, он уже не может утверждать, будто сам он полностью чужд ценностям. Ведь он поднялся на спасительный уровень, поднялся выше самого себя, сделался гражданином ценностного мира и разделил его ценности. «Если бы глаз наш не был причастен солнечному свету, он бы не различал его» (Гёте).
И точно так же можно ответить, когда отчаяние носит обобщенный характер, когда пациент сомневается в смысле бытия всего человечества. «Человек дурен», – заявляет нам пациент{40}40
Мы можем даже спокойно допустить, что средний человек на самом деле не так уж хорош, что по-настоящему хороших людей по пальцам пересчитаешь. Однако даже при подобных условиях разве не стоит перед каждым из нас задача стать лучше «среднего» и войти в число «немногих хороших»?
[Закрыть]. «Совсем по природе своей плох», – говорит он. Но эта мировая скорбь никоим образом не препятствует индивидуальной деятельности. И если кто-то заявит, что «все люди в конечном счете эгоисты» и даже альтруизм по сути своей лишь эгоизм, ибо альтруист руководствуется лишь эгоистическим желанием избавиться от вызванного состраданием дискомфорта, мы уже знаем, что на это возразить: во-первых, устранение «дискомфорта, вызванного состраданием» возможно лишь как результат, а не как цель; во-вторых, сам этот дискомфорт уже доказывает существование подлинного альтруизма. Далее мы можем утверждать, что и к существованию человечества в целом применимо то, что мы уже говорили о смысле отдельной жизни, а именно: как в горах, так и в истории мерить нужно по высшим точкам. Даже немногими великими людьми или тем или иным конкретным человеком, кого мы подлинно любим, может быть оправдано все человечество. А если нам укажут, что великие и вечные идеалы человечества извращены и сделались средством политики, торга, эротики или частного тщеславия, мы и на это возразим: это говорит лишь о всеобщей распространенности и непреходящей власти идеала; раз всякое дельце предпочитает облачиться в костюм морали и только в таком обличье решается действовать, это доказывает как раз силу морали, влияние этики на каждого человека.
Итак, задание, которое человек должен выполнить в жизни, всегда у него есть и принципиально не может быть неосуществимо. Задача экзистенциального анализа и состоит в том, чтобы помочь человеку ощутить ответственность за исполнение именно своего задания: чем отчетливее становится для него суть жизни как выполнения задачи, тем осмысленнее становится в его глазах сама жизнь. Человек, не осознавший свою ответственность, принимает жизнь за простую данность, но экзистенциальный анализ показывает ее «за-данность». Но тут требуется оговорка: есть люди, которые делают еще один шаг и открывают для себя новое измерение жизни. Для них и задание – нечто опосредующее, они напрямую ощущают ту инстанцию, откуда исходит задание, они обращены к той инстанции, которая ставит им задачу, и задачу они воспринимают как призвание. Жизнь становится прозрачной, и за ней проступает Тот, кто их призывает. Таков, мне кажется, человек верующий, homo religiosus: его сознание и ответственность определяются жизненным призванием, данным свыше{41}41
Насколько глубокое чувство ответственности переживает религиозный человек – именно благодаря своей вере, – лучше проиллюстрировать конкретным примером, приведя рассказ Бахманна об Антоне Брукнере: «Его чувство ответственности перед Богом не имело пределов. Так, своему другу, руководителю клойстернойбургского хора Йозефу Клугеру, он говорил: „Они хотят, чтобы я писал иначе. Я бы мог, но не смею. Мой Господь избрал меня из многих тысяч и даровал талант мне, именно мне. Как же я предстану перед нашим Господом, если стану следовать за другими, а не за Ним?“» Итак, было бы ошибочно утверждать, что религиозная вера делает человека пассивным, напротив, она придает ему величайшую активность, но только если речь идет о таком типе религиозного человека, который в своей экзистенциальной позиции воспринимает себя как соработника Бога на земле. Он чувствует, что здесь, на земле, «все решается», здесь вершится вся борьба, не в последнюю очередь каждым человеком и в каждом человеке, то есть им самим и в нем самом. А еще можно привести для сравнения хасидскую притчу о равви, которого ученики попросили: «Скажите, как и когда человек понимает, что Всевышний его простил?» И он ответил: «Что Всевышний простил грех – об этом человек узнает лишь тогда, когда понимает, что сам уже никогда не совершит этот грех».
[Закрыть].
Бытие человека мы предложили понимать как ответственное бытие, ответственность же подразумевается как ответственность за реализацию ценностей. О ценностях мы также сказали, что однократные «ситуационные ценности» (Шелер) также должны быть приняты во внимание: тем самым осуществление ценностей приобретает конкретный характер. Эти возможности соотнесены не только с ситуациями, но и с человеком и меняются от человека к человеку и из часа в час. Возможности, которыми обладает эксклюзивно каждый человек, столь же конкретны и специфичны, как те, что предоставляются в уникальной исторической ситуации.
Единая для всех, общеобязательная жизненная задача представляется в свете экзистенциального анализа немыслимой. Вопрос о «жизненной задаче вообще», о «смысле жизни вообще» как раз и лишен смысла, он не лучше вопроса, который некий журналист задал всемирно известному шахматисту: «Скажите, гроссмейстер, какой ход в шахматах – наилучший?» На этот вопрос не может быть общего ответа, а только применительно к конкретной ситуации (и человеку). Если бы тот шахматист принял вопрос всерьез, он мог бы ответить примерно так: «Нужно сделать лучший ход с учетом того, какие возможности есть в данной позиции и чем может ответить противник». И в этом гипотетическом ответе нужно подчеркнуть два момента: «возможности в данной позиции» – то есть учитывать внутреннее состояние, то, что мы называем предрасположенностью, а также принять во внимание, чем «может ответить» другой игрок. Только так удастся сделать лучший, то есть соответствующий определенному положению фигур, ход. А если игрок заранее вознамерится сделать «абсолютно лучший» ход, его замучают сомнения и самокритика, ему придется все время бороться с тем, что ему реально дано, и в итоге он бросит игру. Так происходит и с человеком, который ставит вопрос о смысле своей жизни: чтобы этот вопрос имел смысл, его нужно задавать применительно к конкретному человеку и конкретной ситуации, и будет ошибкой, недугом, ломать себе голову, как бы сделать нечто «абсолютно лучшее», а не «пытаться сделать лучшее» по ситуации. Разумеется, человек должен стремиться к лучшему, иначе ничего хорошего не получится, но нужно уметь и довольствоваться приближением к цели по асимптоте.
Подводя итоги всего, что мы уже сказали насчет вопроса о смысле жизни, мы видим, что этот вопрос как таковой подлежит суровой критике. Вопрос о смысле жизни как минимум бессмыслен, потому что он неверно сформулирован, поскольку обращен к «жизни вообще», а не к «моему сейчас» существованию. Всматриваясь в изначальную структуру ценностно проживаемой жизни, мы понимаем, что вопросу о смысле нужно придать коперниканский переворот: жизнь и есть то, что задает человеку этот вопрос. Сам человек не должен задаваться вопросом, этот вопрос задает ему жизнь, а он должен отвечать жизни, он несет «ответ-ственность» перед жизнью. Но ответы, которые человек дает жизни, могут быть лишь конкретными ответами на конкретные «вопросы жизни». Ответ подсказывается ответственностью, и в самом своем существовании человек «исполняет» ответы на вопросы жизни.
И будет вполне уместно напомнить здесь: также и психология развития считает, что «присвоение смысла» на более высокой ступени развития становится «постижением смысла» (Шарлотта Бюлер). Итак, все, что мы пытались на предыдущих страницах обосновать логически, полностью соответствует психологическому развитию, парадоксальному на первый взгляд примату ответа, а не вопроса. Первичность ответа происходит из самосознания человека, поскольку вопрос человеку уже был задан. Тот же инстинкт, который, как мы убедились, подводит человека к его, и только его, жизненной задаче, помогает ему также ответить на жизненный вопрос, взять на себя ответственность за свою жизнь. Этот инстинкт – совесть. Совесть обладает голосом и говорит с нами – это неоспоримый факт. Голос совести – это всегда и есть ответ. С психологической точки зрения в таком разговоре верующий человек воспринимает и сказанное, и Говорящего, то есть слух у него тоньше, чем у неверующего: в этой беседе с совестью, в самом интимном разговоре с собой, какой только можно себе представить, его собеседником становится его Бог{42}42
Тут, разумеется, речь идет лишь о такой религиозности, которая видит в Боге личностное существо и даже попросту личность или ее прообраз или же – можно сказать и так – видит в нем первое и последнее «Ты». Для таких верующих переживание Бога это как минимум переживание «пра-Ты».
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!