Текст книги "Проселок"
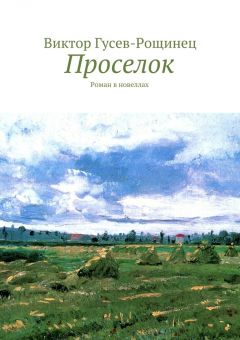
Автор книги: Виктор Гусев-Рощинец
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Он горько усмехнулся. Давнее разногласие с женой, выплыв на гребне новых, сегодняшних проблем, как всегда наполнило чувством обиды. Всё можно пережить, но бывают вещи, которые «не выдыхаются» и, напоминая о себе, оживляют вроде бы давно и надёжно похороненное на дне души. Нет, Ольга не может упрекнуть его в том, что он «сбежал». Он прямо и честно изложил ей тогда свою позицию и вправе был рассчитывать на понимание. При его положении «законная» эмиграция была невозможна – тут нет двух мнений. Только насущная потребность в чужом опыте, в информации, открыла ему дорогу, наперекор лагерному режиму сделала «выездным». Он может гордиться тем, что напоследок вбил и свой маленький гвоздик в крышку «коммунистического гроба»: он первым указал миру на «страну сотни хиросим». Нет, его не имеют права зачислить в «колбасную эмиграцию»! Когда взошедшая на севере демократия вернула ему гражданство, перед ним не только извинились, но и пожали руку со словами благодарности. Возможно, это было следствием простой запальчивости.
Владимир медленно пробирался теперь по улочкам города к южной окраине. «Жемчужное зерно» за ненадобностью спрятал в специальное отделение на корпусе прибора, напоминающее футляр для хранения драгоценностей. Сегодня меры предосторожности были ни к чему: беспокойные мысли отгоняли сон лучше любой электроники.
Кто же мог предположить, что его маленькой будет столь непоказан здешний климат? Это стало ясным вскоре после их приезда. Астматические приступы учащались, раз от раза становились продолжительнее, тяжелее, добиться разрешения на возврат в Союз оказалось отнюдь не легче, нежели на «выезд для воссоединения семьи». Хвала Перестройке – она сделала немыслимое представимым, а затем и осуществившимся: в восемьдесят шестом он проводил их в аэропорт – и вновь остался один. Подумал: навсегда. Сам он тогда еще не мог вернуться. Это стало возможным позднее. Но перед распахнутым входом, как бы настойчиво зовущим перешагнуть порог, Владимир остановился в глубокой задумчивости. Страстное желание, нараставшее без малого десять лет, вдруг иссякло – вытекло, как вода из отверстой плотины. Решив «сориентироваться на месте», он отправился «в гости». Лучше бы он этого не делал.
Он испугался. Всё стало чужим. «Спонтанная ремиссия», как он назвал происходящее в России, приводила на память «ломку» наркомана, синдром лучевой болезни – сравнения можно было умножать.
Ольга поставила перед выбором: возвращение – развод. Легко сказать! Страна, впавшая в нищету, похоже, не нуждалась в работниках, не находила сил поддерживать жизнь в своем истощённом теле. Пополнить ряды безработных? При его знаниях и опыте он, конечно, мог бы устроиться в районную поликлинику, но это бы означало профессиональный крах. Плюс нужда, от которой все они уже успели отвыкнуть. Худо-бедно, он присылал им по пятьсот долларов ежемесячно – половину своего заработка. На эти деньги они могли бы прожить, даже если Ольга захочет оставить эту свою школьную «сладкую каторгу».
…Они лежали рядом, недоумевая – оба – зачем?
Все остальные ночи, им проведенные «в гостях», спали порознь. Тогда он понял: есть вещи, которые нельзя вернуть. Поздно. Поезд ушел.
Развод? Конечно, так будет лучше. Он по-прежнему будет присылать деньги, они останутся друзьями. Сашка уже большая, поймёт.
Но она поняла только одно: отец уедет, теперь навсегда. Они проводили его в аэропорт. Саша пошла в туалет, заперлась в кабинке и долго стояла, прислонившись лбом к холодному кафелю, превозмогая дурноту. Повторяла только:
«Уехал. Уехал. Уехал».
И вдруг явилось нечто спасительное: «Ни умереть, ни возродиться. Как солнце низко и черно! Моя тоска – больная птица – летит в раскрытое окно». И дальше, дальше, дальше…
…Перед тем как объявить абсолютного победителя, члены жюри торжественно встали, председатель выдержал паузу и прочитал, заглядывал мельком в «протокол», белую вощёную бумажку, воланом свисавшую с руки, – Александра (ещё одна, последняя пауза до того как залу прорваться аплодисментами) Пушкина!
Это был триумф! Старая Голда перед новеньким «панасоником», старательно пишущим, подмигивающим зелеными глазками, иногда сбивающимися на невнятицу в шуме рукоплесканий, – старая чёрная Голда заплакала. Ей, родившейся в Сахаре, выросшей в пустыне Негев, пришло время воскликнуть: «Красота спасет мир!»
– Вова! Вова! Твой дочь!
Старая сабра трясла за плечо задремавшего в кресле Владимира Пушкина. Стаканчик джина в его руке расплескался. Сказалась привычка – он всегда засыпал перед телевизором, утомлённый дневными заботами.
– Я говорил! Потомки Ганнибал! Они показал себя!
Владимир Пушкин, потомок знаменитого сабра в услужении русского царя (так утверждала добрая черная старуха) недовольно сказал:
– Голда, не выдумывайте, я же говорил вам: мы никакие не потомки, мы – однофамильцы. И с чего это вы взяли про Ганнибала, что он еврей?
Она только отмахнулась. Они смотрели на экран. Его дочь небрежно стряхнула туфли с ножек, сороковой размер, и при том оставшись на полголовы выше всех на эстраде, стала еще на какую-то подножку, символизирующую пьедестал и, склонившись, приняла на себя широкую серебряную ленту и лавровый венок.
Владимир почувствовал, как на глаза навернулись слезы.
Но радости почему-то не было.
Поездка в Елабугу
Ещё известно, что седой пришелец губами прикоснулся к грязи и выбрался на берег, не раздвигая камни (возможно, их не чувствуя), хотя они впивались в тело, и дотащился – весь в крови, качаясь, до круглого пространства, увенчанного каменной фигурой – тигром или лошадью когда-то огненного цвета, а ныне цвета пепла. Этот круг был раньше храмом, но его выжгли давние пожары, его сгубила гнилостная сельва, а бог его не почитается людьми. И чужеземец лёг у пьедестала.
(Хорхе Луис Борхес, «Круги руин»)
Альберт Васильевич Лыков заведовал министерским отделом подготовки кадров. Рано или поздно каждый находит свою «производственную нишу», нашёл свою и Лыков. После неудачной, предпринятой в молодые годы попытки «пробиться в науку» посредством изготовления диссертации Лыков навсегда оставил эту обременительную на его взгляд, а главное нимало не вдохновляющую затею и, трезво взвесив обстоятельства момента, решил отдать свои силы не по дням, а по часам растущему аппарату управления. То был во время оно чудесный фокус: ежегодно выполняя планы по сокращению штатов, министерство всходило, как на дрожжах, и со стороны скорее напоминало гипертрофированное больное сердце, нежели синклит дееспособных технических политиков. Трудясь в одном из отраслевых институтов, Лыков был именно таким сторонним наблюдателем. Его снедали противоречивые чувства: с одной стороны, досада на неповоротливость министерских чинов, твёрдое убеждение, что будь он на их месте – и дела пошли бы не в пример лучше, с другой же, он, по чести, завидовал – высоким окладам, некоторым известным ему тайным льготам, перспективам «роста» и вообще положению тех, кто ежеутренне поднимался по ступенькам роскошного министерского подъезда, этим «касталийцам», думал он, занятым игрой стеклянных бус. Благодаря общительному характеру, белозубой улыбке, ямочке на подбородке и голубым глазам, доверчиво устремлявшимся навстречу собеседнику из-под свисающей на лоб льняной пряди, – всем кинематографическим свойствам его наружности – но и острой наблюдательности, способности к анализу и умению располагать к себе людей без дешёвых уловок в духе Карнеги – у Альберта Васильевича там было много хороших знакомых в «среднем звене», ещё больше доверенных лиц в сословии секретарш и «рядовых исполнителей» (по преимуществу молодых женщин) и даже один настоящий товарищ, если не сказать друг, на начальственном уровне и к тому обладавший немалым влиянием на «первого зама». Проникновение в касту избранных во все времена было немыслимо без надёжных рекомендаций, не составляет исключения и наша отечественная бюрократия. Упомянутая дружба завязалась, как водится, в командировке, куда выезжал Альберт Васильевич задолго до описываемых событий, сопровождая своего будущего приятеля в качестве консультанта по вопросу внедрения «передовой технологии» на одном из удалённых восточных заводов. Прожить неделю с Альбертом Лыковым под одной кровлей значило проникнуться к нему глубокой симпатией; не остался равнодушным и «касталиец». Накануне возвращения, когда было уже изрядно выпито и от положенного пуда соли отъеден солидный кус, новый лыковский друг, бреясь в ванной, громко пробасил:
«Слушай, Алик, давай, переходи к нам». Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, они быстро перешли на «ты», и это ещё больше упростило завязавшиеся отношения. Лыков сидел на постели, зажав коленками туфлю, пытался распутать шнурок. Чего скрывать, он ждал этого предложения. «А почему бы и нет!» – так же громко прокричал в ответ, как бы не принимая всерьёз неожиданной распасовки, но когда «касталиец» вернулся в комнату – благоухающе-свежий, с хитроватой улыбкой на лице стареющего льва, он увидел своего нового молодого друга застывшим в нелепой позе с ботинком в руках и понял, что угодил в яблочко. Удобного случая долго ждать не пришлось; руководство отрасли решило укрепить отдел подготовки кадров «квалифицированными специалистами», и первым претендентом на открытую вакансию стал, разумеется, он, Альберт Лыков. Был тут ещё и дальний прицел: начальник сего набирающего силы подразделения готовился к выходу на пенсию, как говорят, досиживал, высокое начальство было им недовольно, а несомненная важность «человеческого фактора» обнаруживала себя повсюду и становилась, похоже, во главу угла министерской политики. Лыков быстро оценил обстановку, и вскоре с подачи его покровителя – как оказалось, «члена коллегии» – на стол министра тайно легла программа действий, нацеленная на вывод отрасли из углубляющегося день ото дня прорыва посредством «коренной перестройки работы с кадрами». Не лыком шит – скаламбурило «первое лицо», и в узком кругу вскоре заявило о себе мнение, что Лыков – будущий завотделом. И он действительно стал им, однако не раньше, чем предыдущий «зав» досидел своё и был с почестями отправлен «на заслуженный отдых». Для того потребовалось ни много ни мало три года и восемь месяцев. Касталийцы никогда не обижали друг друга.
К тому времени лыковская программа действий разрослась и углубилась, обретя свойства по-настоящему серьёзного документа, который готовился быть введённым в действие если и не самым высоким постановлением, то по меньшей мере – министерским приказом. Сам Альберт Васильевич преобразился незаметно для себя. Известно, что личность – это деятельность. Становясь лидером, человек словно открывает в своей душе потайную заслонку и выпускает на волю некоего джинна, чей характер до поры неизвестен и одинаково может оказаться принадлежащим тирану или миротворцу. Лыков не стал ни тем, ни другим; он быстро понял, что «игра в бисер», каковой услаждали себя руководители его ранга, требует навыков больше дипломатических и вообще проецируется вовне расплывчатым и к тому недодержанным негативом, никак не влияя на общий ход вялотекущей производственной жизни. Иногда родное министерство представлялось Лыкову гигантским вибратором, отделённым от основания столь надёжным амортизирующим устройством, что даже сотой частицы ватта выделяемой мощности не проникало в почву. Призрачный мир, где никому ничего не принадлежит, жил по своим законам, таким же фундаментальным, как законы всемирного тяготения, наследственности или психики человеческой. И главным, как быстро понял сообразительный Лыков, – а до того он просто не задумывался над подобной проблемой, – главной разрушительной силой и повелительницей всего в этом царстве упадка было отчуждение труда. Не успев расправить плечи, облечённые высоким доверием и – в меру – властью, Лыков почувствовал, как они сгибаются под тяжестью навалившегося знания, и ощутил горечь, источаемую недавно ещё милой его сердцу «кадровой программой». «Человеческий фактор», столь эффективно используемый во всём мире для повышения производительности труда, оставался для лыковского «управляющего звена» за семью печатями, а все идеи, питавшие введенный вскоре в действие документ, постепенно осыпались, не оставляя завязи. Лыков метался по стране, переезжая с завода на завод, меняя средства передвижения и страны света, и везде сталкивался с одним и тем же: апатия руководства, глухое недовольство рабочих, паралич снабжения, разваленный быт.
В конце мая восемьдесят девятого года заботы о нарождающемся «народном автомобиле» привели его в Елабугу. Завод переживал трудное время «перепрофилирования»; всё было полно неопределённости и благих помыслов. Весна разливала в воздухе смутное волнение, во всём живом накапливала энергию порыва, и Лыков ощутил вдруг какой-то беспричинный – благовестом – прилив счастья, нахлынувшего поверх всего: ни шатко ни валко идущих дел, воспоминаний о министерской суете, утомительного двухсуточного поезда, столоверчения с камазовской властью, переполненного автобуса «Набережные челны – Елабуга». Будто свет забрезжил сквозь оседающую кровавую муть афганской войны. Будто заструился под спудом лжи, однообразия, ничтожности, ненужности жизни ручеёк воскресшей надежды. Возможно – и даже наверняка – тёмная половина диптиха, который был бы способен представить картину сего душевного состояния, была следствием усталости и недосыпания, но основа была в ней не менее представительна и складывалась она годами, и звалась – одиночеством. В свои сорок лет Лыков был холост, бездетен, разочарован в любви, жил со старушкой-мамой и всё меньше питал иллюзий относительно того, что встретит, говоря его же словами, «человека, к которому мог бы по-настоящему привязаться». Брак, полагал он, это или великое счастье или великое несчастье. Друзья с готовностью соглашались со второй частью афоризма и скептически улыбались по поводу первой. Но ведь известно всем, что нет на свете людей более нечувствительных к чужому мнению, чем старые холостяки. И Лыков продолжал верить – и не верить. Будучи взращён семьёй и школой как убеждённый атеист, он был до удивления похож на человека религиозного, который верит в божественное провидение, однако, не надеясь особенно, что милость божья снизойдёт на его ничем не примечательную персону. Чувство, которое испытал Альберт Васильевич, сойдя с автобуса в Новом Квартале города Елабуги, – а пришло оно именно в тот момент, когда нога его коснулась земли, то бишь асфальта, и нарастало всё время, что стоял он, оглядываясь по сторонам и вдыхая майский размягчённый ветерок, налетавший с отверстого в розоватую небесно-полевую даль конца улицы, обрывающейся там двумя абсолютно одинаковыми, симметричными, но, как показалось ему, отнюдь не унылыми девятиэтажками, – это чувство было сродни религиозному экстазу. Оно не было для Лыкова чем-то незнакомым; напротив, он хорошо его знал, как знаешь, например, испытав однажды, чувство жалости или гнева, или уныния, знаешь памятью разума, но ведь не можешь по желанию вспомнить так, как вспоминают, предположим, стихи, пробираясь от строчки к строчке, как нащупывают на клавишах мелодию, вслушиваясь в звучание каждой угаданной ноты и без оглядки убегая от фальши, одним словом, не можешь повторить, лишь сообразуясь с обстоятельствами и собственной прихотью. Памяти чувств, как известно, не существует. И Альберт Лыков, разумеется, это знал. Но знал и нечто другое: как сотни и тысячи мелочей из окружающего тебя в данную минуту набора, именуемого бытом, а то и более точно – бытием твоим, – эти тысячи маленьких камертонов в любую, самую неожиданную минуту могут разбудить в душе – и, что там говорить, даже один из них может заставить вдруг мощно зазвучать орган, устроенный в тебе столь необычно, что один лишь слабый, едва различимый во всеобщем комарином жужжании звук обрушивает целую симфонию, затопляющую всё вокруг от земли до неба. Альберт Васильевич был, несомненно, тонко чувствующей натурой.
Иногда можно было догадаться или, по меньшей мере, предположить нечто, явившееся вдруг таким камертоном, но, в общем-то, в этом никогда не было особой надобности, и только досуг или чисто научное любопытство (Лыков понемногу – в дань моде – практиковал парапсихологию) временами побуждали его к подобным поискам. Но теперь, стоя посреди широкой и при ближайшем рассмотрении всё же унылой улицы, как унылы большинство новостроек-улиц нашей страны, как уныла сама страна (а он имел возможность убедиться в этом печальном обстоятельстве) Альберт Васильевич уж никак не мог бы, по его мнению, найти тот фактор, который, коснувшись обоняния, зрения или слуха в момент схождения с подножки автобуса, с такой необыкновенной силой заставил зазвучать музыку – так он называл это, хотя никогда то не была доподлинно музыка – мелодия или аккорд, или даже отдельная нота, которые часто привязываются в самое неподходящее время, – разумеется, музыку, ибо как назовёшь иначе вихрь, подхвативший тебя, поднявший над миром и наполнивший ощущением бессмертия?
Вот что было его верой! Сейчас он вдруг осознал это с поразительной ясностью: постоянная готовность к такому, постоянное ожидание и радостное, едва ли не чувственное наслаждение им – пришедшим.
Конечно, были возможные причины: во-первых, напоённый весенними ароматами ветерок, и то, что дул он устойчиво с северо-запада, а, предположим, не с юга, насылавшего на город гарь и «химию» с нижнекамских нефтяных и шинных гигантов; во-вторых, необыкновенный сиреневый цвет неба, в-третьих, в общем-то, удачно улаженные на «Камазе» дела, и ещё – тишина, безлюдье, отсутствие какого-либо транспорта на этой странной, больше похожей на площадь улице, одним концом впадающей в совершенную пространственную открытость, а другим уходящую вниз, в деревянную Елабугу, окаймлённую на заднем плане лесистыми холмами и прячущую под боком холодную Каму. Будущий автогигант прорастал в молчаливом спокойствии и невозмутимости.
Лыков двинулся к дому с номером тринадцать, сразу выделив его в ряду домов на противоположной стороне улицы – по намалёванным прямо на стене жирно-коричневым цифрам – возможно, для приезжающих. Ему всегда везло на это число, и теперь оно как бы укрепляло ещё больше снизошедшую внезапно радостную приподнятость и вполне могло бы быть принято как знамение чего-то значительного, только и ждущего своего часа, чтобы выйти из-за угла. Вероятно, вслед за своим тяготеющим к небу настроением Лыков скользнул вверх по этажам рассеянным взглядом и тогда увидел там, где обрывалась стена и где положено быть крыше или хотя бы карнизу, однако не было ничего, за что мог бы зацепиться глаз, – увидел над этим геометрически безукоризненным обрывом ажурную вязь небольшой неоновой конструкции и, будто в игре «найди охотника», не без труда рассмотрел в завитушках и вензелях претенциозную вывеску: «Гостиница Елаз».
Ах, как хорошо знал он эти русские постоялые дворы! Лыков усмехнулся: у путешествующего по России быстро складывается образ провинциальной гостиницы, и того паче – гостиницы ведомственной, что устроена с единственной целью – общежития толкачей, пусковиков, заказчиков, наладчиков и прочего подобного люда, который сотнями тысяч мечется по стране, гальванизируя засыпающее от нехваток производство, спасая «горящие» планы, требуя выполнения договорных обязательств, угрожая санкциями, соблазняя подарками, из коих наиболее действенным является, без сомнения, этиловый спирт. Лыков не был пьяницей, и не был даже особенным любителем спиртного, но и он с мая восемьдесят пятого – от рождения пресловутого «указа» – возил с собой по командировкам плоскую титановую литровую флягу с герметичной пробкой и слегка закруглённым в разрезе профилем – по окатам тела. Впрочем, заливал он её чаще коньяком, нежели спиртом. Это тема особого рассказа – но как облегчает сие немудрёное приспособление жизнь в пределах отечества, именуемых глубинкой! И сколько шума производит в гостиничных коридорах!
Наперёд зная, что таковых нет, Лыков осведомился об отдельных номерах. Место им было забронировано; как всегда не сразу, а в результате небольшого препирательства с дамой-администратором, заявку нашли, и после обычных манипуляций с паспортом, «карточкой приезжающего» и квитанциями предварительной оплаты (в этом месте Лыков шутил обычно – «а то сбегу», пошутил и теперь, но не мрачно, с искренней весёлостью, что заставило администраторшу криво усмехнуться; она в общем-то была достаточно молода и миловидна, лыковский намётанный глаз отличил в её лице плотоядность – черту неотразимую для путешествующих в одиночку мужчин; лыковская рука протянулась к её холёной, с жемчужными ноготками ручке, на секунду накрыла её и тотчас отпрянула виновато, будто маленький тот инцидент явился результатом душевного порыва – а так оно и было, в сущности, – естественным знаком благодарности и необязывающим предложением будущего союза; в искусстве общения такого рода Альберт Васильевич не знал себе равных) – после всей этой полуформальной процедуры он был отправлен в отдельную двухкомнатную квартиру на четвёртом этаже в напутствии улыбки совсем уж другого сорта и с обещанием «никого не подселять». Ни о чём другом Лыков и не мечтал.
Лучший вид туризма – служебный. Кто путешествовал с командировочным удостоверением в кармане и оплаченными проездными, тот знает всю меру удовольствия, вообще доставляемого тем, что человек перемещается в пространстве, созерцая, и в то же время не уподобляется зеваке-бездельнику, а имеет чёткое деловое задание и таким образом находится как бы «при исполнении». Задание может быть и не выполнено, однако вояж состоялся, впечатления теснят одно другое, а к тому и бюджет семьи не пострадал, и всем подарки и сувениры из дальних мест и куча рассказов. Конечно, суточные могли бы быть и побольше, но, как говорят, с паршивой овцы хоть шерсти клок; впрочем, для заграничных туров эта невзрачная овечка заметно преображается, становится довольно упитанной и позволяет настричь шерсти не в пример больше, чем пасясь на родных истощённых землях.
Право, нет в этом ничего зазорного, не бог весть куда путешествуем, да и дела-то делаем ведь не хуже, оттого что попутно заезжаем, заходим, забегаем в пару-тройку интересных мест и подпитываем души информацией эстетического свойства. Ну, а если уж приспичило завернуть куда-то на денёк-другой, из Архангельска, например, на Соловки сгонять, или из Ташкента – в Бухару, из Владимира – в Суздаль, тут извольте раскошелиться, бухгалтера народ строгий, только «туда-обратно» и в срок, а как ты там вертелся внутри этого срока, им дела нет. Прямо сказать, одним из министерских соблазнов и утончённых привилегий для Альберта Васильевича в пору его «институтского» периода жизни было вот это известное всем качество аппаратной деятельности – возможность путешествовать по стране и даже за пределами её с благословения казны.
Нет, и всё-таки на первом месте у Лыкова всегда оставалось дело. А что до «культурничества» (так называла мама Альберта его увлечение местными достопримечательностями), то здесь, в сущности, и не надо было ничего-то изобретать – всякому ясно: Союз наш – это музей под открытым небом. Конечно, и Прага, и София (две зарубежные командировки уже пополнили лыковский реестр) – музеи тож, но когда в них ещё и столько магазинов, торгующих столь соблазнительными для восточного человека вещами, то музейные ценности как-то блекнут, душа как бы то не отворачивается от них, но теряет в своей чувствительности, странным образом сужается, а когда истрачивается валюта, чувствует себя такой усталой и опустошённой, что впору только лететь обратно, в родные необозримые дали, где ничто не отвлекает от созерцательного – поистине, православного – образа жизни.
Другое дело, что Елабуга с её многострадальным заводом (и не на месте-то основанным, этаким метастазом камазовской «опухоли», сулящим повторение челнинских бед – бездомья, безнадёжности, преступности – всего того, что неизменно приходит вслед, если города пристраивают к «производствам», а не ставят их на торговых путях) – Елабуга вполне могла бы обойтись и без Лыкова. Какой же прок читать лекции о «человеческом факторе» там, где этого самого фактора ещё и не нюхали, зато плачут от недостатка обыкновенного цемента, стальных труб и прочих «фондов»? Лыковская программа «управления трудовыми ресурсами отрасли», прямо скажем, была мертва от рождения, а теперь, с грустью думал Альберт Васильевич, и вовсе остался один только раскрашенный панцирь – министерский «приказ». Поэтому в город Елабугу Альберта Лыкова привела отнюдь не необходимость, а вполне понятное для поборника отечественной культуры желание преклонить колена перед могилой великого поэта.
Альберт Васильевич и сам понемногу сочинял, проще сказать – рифмовал, довольно бойко, прям-таки разговаривать мог четырёхстопным ямбом, и даже некоторые вирши свои – на взгляд, неплохо удавшиеся – заносил в книжечку записную; но чаще писал по случаю – поздравления, или эпиграммы, или пародии, – и, по прошествии времени перечитав и убедившись: не то, выбрасывал безо всякого сожаления. Что-то оставалось, конечно, по-настоящему выстраданное, но поскольку страдать Альберт не любил, а более стремился к новым впечатлениям, то и стихов стоящих, которые прочитать не стыдно, едва ли набралось бы у него десятка два. Поддавшись минутной слабости, он однажды понёс их в молодёжный журнал, угодил там на литспеца-консультанта по фамилии Коркин и через полчаса ушёл, совершеннейшим образом опозоренный.
Верней было с сочинениями чужими. Обладая блестящей памятью и не имея собственноручного материала для её заполнения, Лыков запоминал стихи: с одного-двух прочтений мог уложить в себе на вечное хранение целую поэму и потом по желанию выбирать особенно яркие куски, выносить «на слух» и, полюбовавшись – или дав полюбоваться другим, снова прятать в своей безграничной кладовой. А если уж находился благодарный слушатель, то можно было устроить настоящий пир с яствами на любой вкус и «драгоценными винами». Конечно, и здесь увядало то, что не выдерживало испытания временем, и, увянув, постепенно выветривалось. А другое, наоборот, как бы открывало в себе новые смыслы, загоралось новыми красками и не только не умирало, но, против того, набирало энергии, как если бы само время преобразовывалось в неё по законам «несимметричной механики». Будучи склонным к теоретизированию, Альберт Васильевич не раз спрашивал себя, отчего это происходит, и постепенно пришёл к выводу, что главный здесь фактор – личность поэта. А придя к таковому пониманию, почёл важным для себя посещение мест, известных в истории отечественной словесности своим влиянием на судьбы творцов. Так попала – теперь уже по другой причине – печально известная Елабуга в круг интересов Альберта Лыкова. Как ни говори, а чтобы склонить человека к самоубийству (или стать каплей, переполнившей чашу), надо-таки оказать немаленькое давление. Воистину несчастна страна, в которой убивают поэтов или они убивают самих себя! Альберт Васильевич много думал об этом, ибо вопреки распространённому мнению о хрупкости поэтической души, по собственному опыту знал, что нет надёжней брони от жизненных невзгод, чем сочинительство, переводящее страдания в действие, а то, в свою очередь, имеющее результатом нечто подлежащее любованию. Терпя неудачи в любви (а случалось и такое), Альберт сочинял стихи и тем спасался от боли, которая в противном случае грозила быть невыносимой. Он знал и больше того: что творческий дух питается страданием, как пчела нектаром, переплавляя его в себе и в этой работе черпая силы для поддержания собственной жизни. Возможно, страдая больше, чем отпустила ему судьба, он и стал бы настоящим поэтом. Но… он был, увы! простым инженером, любящим жизнь больше поэзии или, сказать точнее, любящим поэзию жизни и всячески бегущим жизненных неурядиц. И всё же он снова и снова возвращался к мысли: какова мера страдания, что может столкнуть в бездну даже поэта? И всякий раз со страхом отшатывался, как будто сам заглянул в неё.
Был уже первый час, когда Альберт Васильевич поднялся в номер; на заводе время обеденных перерывов, и торопиться туда теперь не имело смысла. Оно и вообще не имело смысла – мозолить глаза заводским руководителям, рассказывать им байки о человеческом факторе и самому выслушивать жалобы, делать сочувственное лицо и обещать «помочь». Какая зловещая безысходность царит на стройке, когда она уже начата, проглотила сотню-две миллионов и вдруг (вдруг?) обнаружила свою полную бесперспективность, а то и явно чинимый вред. Хочется бежать от неё без оглядки, как от чумы, но куда бежать? Не отбежишь и до угла, как тут же наткнёшься на другую такую же. Сколько он повидал уже «строек века», оказавшихся на поверку «памятниками безвременья»! Теперь вот эта (Лыков подошёл к окну) растеклась масляным чёрным пятном на светло-зелёной карте елабужского окоёма, припала жадными губами к реке и пьёт из неё, ей же возвращая забранное – фекалиями. А уж когда задышит в полную силу, добавляя к миазмам «нижнекамских гигантов» свои собственные выбросы, – тогда прощай красота, прощайте холмы с нахлобученными на добрые глаза еловыми шапками, прощай, луговое закамье, – тебя непременно зальют, – ведь где-то там, внизу растёт ещё один «энергогигант», призванный питать пригретого вами молодого монстра. Да, совсем был бы хорош служебный туризм, если б не такие вот на каждом шагу «достопримечательности». Как ни закаляй душу, а рвётся она в иные пределы и тоскует, тоскует…
Да что ж тосковать? Толку-то? Номер понравился Лыкову – чисто, тепло. Гостиная, спальня с двумя деревянными кроватями (при необходимости можно сдвинуть – но это невзначай он подумал, между прочим); особенно хороша была кухня – с газовой плитой, холодильником и полным набором посуды. Служебный туризм обязывает самого заботиться о пропитании: Альберт Васильевич всегда имел с собой сахар, чай, понемногу всякой крупы, покупал только хлеб, а если было – то и чего-нибудь молочное, для каши или просто так. Ещё он возил с собой маленькую электрическую плитку, которая вкладывалась в низкую кастрюльку с крышкой, и немудрящий сей агрегат служил верой и правдой, кормя и поя с вегетарианским разнообразием. Впрочем, если приходилось где-то застревать надолго, то не представляло сложности и более изысканное варево: куриная лапша, например, или грибной суп, или картофельное пюре. Единственная забота – не забыть спрятать «кухонный агрегат» от пронырливых глаз гостиничной обслуги, блюдущей пожарную безопасность. Однажды кипятильник-таки отняли, нечестивцы! А здесь хорошо, плита, и всё по закону, с удовлетворением подумал Альберт Васильевич (будучи во всём другом законопослушным гражданином), поставил на огонь чайник, вынул оставшиеся от завтрака полбуханки любимого им «серого» и приготовился сварить «суп вермишелевый с мясом» из пакета, купленного по случаю в Набережных Челнах (из дома не удосужился захватить, а в глубинке не всегда бывает).









































