Текст книги "Проселок"
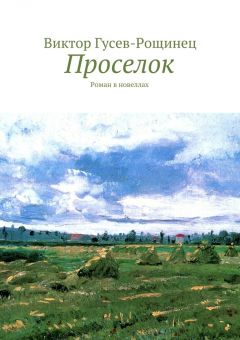
Автор книги: Виктор Гусев-Рощинец
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Когда она вернулась к гостям, старик и девушка оживлённо беседовали. Дон Сайрес неуклюже пытался сформулировать какой-то вопрос, неэкономно размахивая руками, а Катя, с недоверчивой улыбкой, но потеплевшими глазами, всем своим обликом доброй феи выражала готовность понять, помочь, одним словом, сделать всё, чтобы смягчить отказ, который уже стучался у входа. Даже Софья Аркадьевна поняла с порога это «хочешь ли ты меня?», а прекрасная Катрин всё уклонялась от прямого ответа, пока наконец не нашла приемлемой формулы, состоящей в удобном компромиссе: отложить окончательное решение вопроса и немедленно последовать в Саратов «познакомиться с семьёй». Два билета на вечерний поезд появились на свет из расшитого бисером кошелёчка и были предъявлены восторженно их встретившему барону. Всё остальное перевела письменно Софья Аркадьевна на «бытовой английский» между чаем и дальнейшей более основательной трапезой, заполнившей время до отъезда на вокзал. И даже не пришлось прибегнуть ни разу к словарю. «I love you!», несчётно повторенное Доном, не требовало перевода, поэтому Софья Аркадьевна его просто-напросто игнорировала.
Когда они ушли, опустевшие комнаты наполнились гулом, как бывает в жилище, покинутом его обитателями. Ей даже на мгновение показалось, что всё это уже было когда-то, может быть, в другой жизни. Такое часто случалось с ней, она знала как это называется – воспоминание настоящего, читала в одной из книжек, подсовываемых иногда зятем «для общего развития». Нет, теперь было другое. Не надо мучиться, чтобы вспомнить, как уходил, уводимый навсегда, единственный в твоей жизни мужчина, муж. Странно, подумала Софья Аркадьевна, неужели за несколько дней можно так привыкнуть, привязаться к человеку, о существовании которого дотоле не знал и знать не хотел, чья «старческая похоть» (неужели это её собственные слова?) казалась смешной, едва ли не отвратительной и не внушала ничего, кроме презрения. Она вдруг почувствовала такую жалость к себе, к старику, к Мите, – что села на кухне и заплакала. Оказалось, на удивление, что в этой жизни ещё не выплаканы все её слезы. Не всё пережито.
Внуку, вечером заехавшему проведать «высокого гостя», она оправдала покраснение глаз внезапно развившимся конъюктивитом; но тот, вероятно, и не заметил бы ничего – так был занят своим. Впрочем, остался недоволен «бегством жениха», в основном по причине скорого открытия конференции, где, по его мнению, присутствие Дона Сайреса было необходимо. Софья Аркадьевна села на телефон, и вскоре вослед беглецу полетела срочная телеграмма с напоминанием важной даты и просьбой не опоздать к заседаниям. Митино радостное возбуждение объяснилось просто: уладилось дело с помещением – и очень смешно. Он рассказал, как пришёл к своему старому школьному товарищу («Ты его помнишь – такой длинный, худой, всё гантельками накачивался, да так и остался, теперь зато – председатель банка.») и попросил на несколько дней зальчик сдать, который те арендуют сами вместе с дюжиной других комнатушек в башне на Новом Арбате. Лёнька, рассказывал Митя, отчего-то перепугался, наверно подумал – рэкет, подумал, «афганцы» – бандиты все, в «охранники» набиваются, ничего кроме как стрелять не умеют. Митя его не стал разубеждать – главное получить согласие. Мало того – бесплатно, в любое время!
Рассказ этот Софье Аркадьевне не понравился. Всколыхнул старую боль, подспудно тлеющую как задетый пожаром торфяник. Тот не страдал, кто верит, что раны душевные залечиваются временем. Время – это просто другое название жизни (она прочитывала на сон грядущий несколько страничек из Декарта). Когда живёшь долго, всего-навсего уменьшается «удельный вес» тех отрезков, что прожиты в боли, в страдании – как бы ни были сильны эти страдания и боль. Растишь детей, а потом оказывается, что они решили «идти другим путём»; видишь, как этот путь уводит от истины, – но ты бессильна, только сиди и жди. И плачь – когда повисают над пропастью заблудившиеся во ржи. (Софья Аркадьевна вообще много читала.) Она уж, право, решила, что все несчастья сгинули позади – и вот тебе: внук – троцкист, революционер. Не горе ли на старости лет? А теперь ещё этот проклятый американец…
Уладив с телеграммой и взяв обещание держать его «в курсе» (бабушка только головой покачала), Митя помчался к родителям в Марьину Рощу. Там и вовсе что-то происходило непонятное – позвонила мачеха Татьяна Васильевна и попросила срочно приехать. Он, собственно, и держал туда путь, а на Машкова заскочил просто потому, что по дороге. На «бабульчонка» надеялся как на самого себя.
К удивлению, обнаружил там Раймона Силани – несгибаемого Раймона, неистового Раймона – но и печально известного пристрастием к бутылке. Взлетевший под облака «железный занавес» распахнул такую головокружительную даль, открыл такую сверкающую огнями сцену, что впору было влюбиться в один только этот «революционный пейзаж». С истинно английской пунктуальностью, дважды в год (I мая, 7 ноября – наши праздники – говорил) Раймон летел в Россию из унылого туманного Альбиона, чтобы «приобщиться к русской культуре», и, действительно, так обрусел, что всем напиткам предпочитал «Столичную» кристалловского разлива вперемешку с пивом. Ну и, разумеется, женщины («дэушки» – произносил по-кавказски) … Попробуйте-ка в Лондоне пристать на улице к женщине, которая вам понравилась. Не миновать полиции.
Раймон, что называется, был под банкой («under bench» – дословно, кто не знает, под лавкой), то есть по-русски – слегка подвыпивши. Татьяна Васильевна поила его чаем, но рюмок не подала, хотя на столе стояла бутылка шотландского виски «Shivas Regal» (1801, 12 лет выдержки), привезенная Раймоном не иначе как специально для этого визита: он отнюдь не скрывал своего восхищения хозяйкой и всякий раз «почитал долгом» посетить «родовое гнездо» (шутил – будущий музей-квартиру) выдающегося «лидера» Дмитрия В. Чупрова. Однако делал это всегда в сопровождении последнего и в намеченный день с утра не пил. А всё началось с того, что в первый свой приезд был водворён к Чупровым по просьбе сына и в конце гостеваний «получил отказ», адресованный, правда, не «лично в руки», но «ответственному просителю». И хотя был в этот момент уже за порогом (усаживался в митину «тачку» – ехать в аэропорт), успел-таки стать «персоной нон грата», о коем событии конфиденциально объявил Чупров-отец, склонившись к сидящему за рулём сыну: «Последний раз,» – бросил коротко Владислав Николаевич. По его лицу Митя понял всё и лишь утвердительно кивнул; о подробностях было нетрудно догадаться. Он и после ни о чём не спрашивал, а «неистовый Раймон», кажется, и впрямь оставил сердце в России, в Москве, и уж если быть до конца точным – в Марьиной Роще. Кто знает, возможно, мачеха Татьяна Васильевна поощрила воспламенённого «функционера» или по меньшей мере не пресекла в корне «поползновений» (думал Митя), но всякий раз, едва ступив на «обетованную русскую землю» (Promised Russian Land), Раймон справлялся о здоровье «мамы» и просил назначить день для «визита вежливости». Ну что ж, его можно было понять, Митя и сам хорошо помнил то первое впечатление, которое произвела на него эта женщина, он тогда лежал в больнице после «авто», сестра Ольга принесла «Любовника леди Чаттерли» на английском, он читал уже достаточно бегло и почти без словаря, и пришла Татьяна – знакомиться, будто со страниц знаменитого романа; это была «пора любви», Митя влюблялся, как говорят, по нескольку раз на дню и «раскручивал роман» с молоденькой медичкой, и будущая жена Лора уже была поставлена в известность о намерении на ней жениться; но пришла Татьяна, и Митя понял одну простую истину: как бы ни были прекрасны женщины вокруг и рядом с тобой, всегда найдётся такая, что неожиданно затмит всех. Было ему тогда от роду пятнадцать лет, мачехе – двадцать восемь.
Отца дома не оказалось. Татьяна сказала: на даче. Ничего удивительного – деревенские корни, говорил Митя, дают себя знать. Отец обожал свои «сотки» в северной лесной глухомани, возделывал «участок» (какое отвратительное слово!) с энергией, «достойной лучшего применения», а старенькую бытовку военного образца («здание контейнерного типа столовая) превратил невиданными стараниями в «тадж-махал» (называла Таня). Удивительным было другое – отсутствовала темнокожая гостья. Конечно, подмосковная природа заслуживает того, чтобы с ней познакомиться вблизи, а не только с высоты птичьего полёта, и особенно сельский быт (village way of life) русской интеллигенции, но не слишком ли она простодушна, сказал Митя, не очень ясно кого имея в виду – то ли Татьяну, то ли американку. Однако в присутствии Раймона уточнять не стали. Таня сказала только: «Лишь бы на пользу шло.» Раймон согласно кивал, хотя эта невнятная скороговорка, иногда используемая русскими, была ему недоступна. Что-то он всё же понял. Таня сказала: «По его части,» – и посмотрела прямо в глаза таким долгим и (показалось ему) таким выразительным взглядом, что сердце – и ведь уже не молоденького – донжуана часто забилось. К сорока годам, он заметил, «русские красавицы» приобретают восхитительную округлость форм и какую-то внутреннюю мягкость, так выгодно их отличающие от костлявых чопорных англичанок. Он часто говорил: если хочешь узнать страну – полюби женщину. На что русский друг Митя возразил однажды: если хочешь узнать страну – повоюй немного с её народом. Конечно, ему ли не знать. Раймон, хотя и напускал на себя многоопытный вид да и впрямь повидал немало, тем не менее часто рядом с Митей чувствовал себя мальчиком. Тот иногда пугал нешуточным радикализмом, особенно же – своей позицией в вопросе «о вооружённом восстании». Этот пункт программы СРС был настоящим камнем преткновения: русские просто боготворили оружие. (Только однажды Раймон по молодости ввязался в теракт – результаты содеянного потрясли его, навсегда отвратив от терроризма. Он был сторонник ненасильственных методов.)
Не хватало теперь ещё только этого! Любовные треугольники и прочая геометрия не волновали Дмитрия В. Чупрова. Отношения отца с женщинами перестали его интересовать с тех пор, как появилась Татьяна, заняв так долго пустовавшее место рано умершей матери. Но сегодня он не на шутку обеспокоился: неужели прав Раймон, и эта чернокожая красотка только и думает, как «совратить белого мужчину»? Ну что ж, бедный профессор-землероб вполне подходит для этой цели! (Митя горько усмехнулся: путь русского интеллигента в революцию пролегал через бедность или войну; возможно, это будет первый случай, когда заражение передастся половым путём.) Но не потеряют же они голов настолько, что забудут о главном – дне открытия конференции! И что вообще думает по этому поводу уважаемая мачеха? Не слишком ли много суверенитета забрал папа и сможет ли, по известному крылатому выражению, проглотить его?
Тут Раймон, кажется, окончательно вник (было уже одиннадцать, бутылка виски наполовину опорожнилась общим старанием) и заявил, что непрочь и сам посмотреть «русскую природу», если гидом быть согласится belle Tatiana, – чем заставил всех рассмеяться. И в этот момент отворилась дdерь, и на пороге стали «наши очарованные странники» (сказала Таня), и Митя наконец с облегчением вздохнул: кворум обещал быть. Чупров-старший выглядел как-то по-особому подтянутым, похудевшим, а темнокожая гостья даже в дверях продолжала поддерживать его под руку и лишь тогда «выпустила из объятий» (сказала Таня), когда оба оказались в прихожей. Деталька, немало говорящая знатоку заморских обычаев: Митя никогда не видел, чтоб американцы ходили «под ручку», – вероятно, урок был преподан «кавалером» и так быстро и с таким удовольствием усвоен, что хотел длиться до бесконечности. Очевидно, то же заметил и Раймон, ибо с тоской посмотрел на Таню и снова было хотел вернуться к «природной» теме, но не был замечен, поскольку снова все перешли к столу. Анна чувствовала себя как дома (/отметил Митя) и не то чтобы, почтя долгом, делилась впечатлениями, – она, по всему, была в восхищении от поездки и живописала её с такой образностью, что все, даже грустящий Раймон, по-настоящему развеселились. Неприметная тропа из Марьиной Рощи к Савёловскому вокзалу, пролегающая вдоль железной дороги, напомнила ей нелегальный переход мексиканской границы, однажды совершённый в детстве, – она уже говорила, что родом из Южной Каролины? – а «профессорский дом» (bytowka) потряс бронированными стенами, наверняка способными выдержать атомный взрыв. Опять же поезд – о, сладость детских воспоминаний! – вылитый мексиканский состав начала шестидесятых. А русский лес (Russian wood) – он великолепен! Только mushrooms, которых они собрали полную большую корзину, она не осмелилась отведать, хотя они так соблазнительно пахли, будучи поджарены профессором со сметаной, – её желудок всегда сильно сопротивляется незнакомой пище. Но конечно главное – люди! Никогда в жизни она не выслушивала столько комплиментов единовременно (at the same time; от мужчин-соседей – пояснил Владислав Николаевич, а Раймон по-русски добавил – белых; с его стороны это была, разумеется, бестактность, но все, кто понял, сделали вид, что не заметили) – и всё потому, что люди живут так близко друг к другу, они не разобщены, как в Америке, и это прекрасно (fine). Вот вам и «шесть соток» – сказал Митя, неизвестно к кому обращаясь. «Ты давно не был – двенадцать,» – поправил отец. «С чем тебя и поздравляю,» – сказал Митя и, подумав, добавил: «Всё отберём.» Этот краткий диалог не остался без последствий – разговор перекинулся на политику, обойдя стороной вопрос, который, видимо, больше, чем других, интересовал Раймона: врозь или вместе? – и относился к тем двум ночам, что были проведены «путешественниками» вдали от родных пенат. Но как сказал один из великих мира, политика – современный рок. А «загадка русской женщины» обрела ещё большую остроту и притягательность.
Итак всё, кажется, благополучно уладилось (подумал Митя через два дня, проснувшись утром раньше обычного, – открытие конференции назначили на десять, можно было ещё поспать, но сон, как часто случалось, бежал от него); накануне вечером позвонили из Саратова по поручению Дона и передали поезд, вагон, место и просьбу встретить: «жених», похоже, возвращался ни с чем. Встречать поехала бабушка, сама вызвалась (ко всеобщему удивлению), сославшись на то, что живёт рядом с вокзалом и не нужно «тратить бензин», и вообще – Дональд М. Сайрес «принадлежит ей по праву первой ночи». Славный мой бабульчонок, подумал Митя. Сейчас, наверное, уже дома, а не звонят, не хотят будить. Он решил встать и ещё раз порепетировать краткую речь, которой откроет историческое заседание. Ввиду того, что говорить решил по-английски, был озабочен «проблемой стиля» и мерой экспрессии, какую необходимо соблюсти дабы не впасть в патетику и не показаться смешным, его «ужасающий русский акцент» (говорит Раймон) несовместим с ораторскими приёмами. Самый лучший приём, подумал Митя, – правда. И она всегда на стороне обездоленных. Он встал, надел халат, сунул ноги в тапочки, и в это время раздался телефонный звонок.
Он услышал в трубке молодой бабушкин голос, успел подумать, что сегодня он особенно молод и от этого кажется взволнованным, но тут Софья Аркадьевна сказала что-то такое, что Митя решил – не ослышался ли? – и сказал: повтори – и она повторила членораздельно, едва ли не по слогам: «Дон Сайрес попал в милицию.» В это не хотелось поверить, с трудом выдавливая слова, Митя задал все необходимые вопросы: где, когда, что… Быстро оделся и выбежал из дома.
Американский капиталист в русской милиции – явление, по-видимому, редкое, возможно, уникальное. Когда Митя примчался в привокзальное отделение, его глазам предстала поистине удивительная картина: Дональд М. Сайрес забаррикадировался в одной из комнат, взяв заложником милицейского чина, перед тем ловко того обезоружив. Вероятно, он требовал справедливости. Софья Аркадьевна, встретившая Митю ещё на улице, в двух словах изложила суть: шельмец-проводник, почуяв наживу, стал, видимо, шантажировать старика недоплатой за билет, в качестве довода используя грабительский тариф, установленный для иностранцев. Что там между ними произошло, она не знает, но из вагона Дональд вышел с милиционером и был препровождён в отделение. Софья Аркадьевна шла вместе с ними, пытаясь что-то объяснять конвоиру, но тот не слушал, а при входе сказал постовому – не пропускать. Тогда она позвонила.
У двери в комнату, где Дон держал под прицелом незадачливого служаку, толпились сотрудники милиции, передавая из рук в руки документы «террориста» – паспорт и ещё какую-то книженцию в красном ледерине, которая по-видимому привлекла всеобщий особый интерес, но затруднялась быть прочитана ввиду чуждости языка. Митя представился и сказал, что «решит проблему» и притом – немедленно. Он не только уплатит штраф, но и «возместит моральный ущерб заложнику» в размере, что будет сочтён необходимым. После чего попросил передать ему загадочный документ. Его просьбу удовлетворили.
Хотя до этого Митя никогда таковых не видел, ему было достаточно одного взгляда, чтобы понять: удостоверение ветерана вьетнамской войны. На фотографии красовался Дональд М. Сайрес в офицерской форме, должно быть, в силу известной своей фотогеничности даже пристальному взору предстающий блистательно безмятежным выражением лица. На своём удостоверении «афганца» Митя выглядел едва ли не старше.
Мнение пострадавших стражей порядка единым не было, и всё же двух ветеранов отпустили с миром и даже не взяли штрафа, потому что Дональд М. Сайрес искренне в содеянном раскаялся и просил прощения и в итоге всех настолько очаровал, что получил приглашение «заходить ещё» и «рассказать о Вьетнаме». Митя робко заикнулся, что, мол, этого не расскажешь и лучше не надо, и оба, как по команде, заторопились – лишь бы скорей забыть…
Софья Аркадьевна пыталась отговорить Дона от участия в сегодняшнем заседании, справедливо указывая, что с дороги надо отдохнуть, и вообще… Что крылось за этим «вообще», угадать было нетрудно: вообще, хотела она сказать, всё это прах и тлен. Те несколько минут, что ехали от вокзала до дома, в машине царило молчание. Дональд М. Сайрес выглядел плохо – был небрит и не напомажен, и даже вязаная шапочка не могла скрыть беспорядка на голове. Митя переживал новость – американец перестал быть для него загадкой, но теперь его собственные воспоминания, как бы с удвоенной силой, вернулись и обступили, стеснив дыхание: там, в горах, был рядом с ним этот маленький смешной человечек, жаждущий любви, – возможно, только и помогающей ему не уйти из жизни, как ушли уже многие из них…
Конференция открылась минута в минуту. Дональд М. Сайрес восседал в первом ряду и был свеж и улыбчив. Идя к трибуне, Митя вдруг вспомнил это неподражаемое «она была со мной холодна» и не сдержал улыбки: вот что такое настоящий боец!
Отец сидел позади всех рядом с американской революционеркой Анной Радклиф, Раймон Силани отсутствовал, поехал с цветами в Марьину Рощу, подумал Митя, ну и ладно.
Он заговорил о предстоящей борьбе. Тысячелетним душным настоем в зальчике растекались чары Платона. Лица вытягивались, серьёзнели. Взоры устремлялись к Городу Солнца.
Пепел Клааса или солдат всегда солдат
«… Все вы – потерянное поколение,» – говорил Однорукий. Много читал, значит, классика цитировал. Он и крючок себе сделал вместо нормального протеза, как у Гарри Моргана, и ловко цеплял им «калаша» и вёл довольно прицельный огонь – демонстрировал афганский опыт.
Мы тренировались по-серьёзному, чтоб «не снизился класс», тренировали новичков; для этой цели за большие деньги снимали у спортсменов подвальный тир. В общем-то хозяева подвала догадывались, кто мы такие и чем занимаемся, но вида не показывали. Мы даже оборудовали там нечто вроде тайного склада – за дополнительную плату, конечно, а верней – за крупную взятку «шефу», как мы называли «ответственного подвалосъёмщика», главного районного досаафовца Сашку Тетерина (не исключено, что имя его всплывёт на следствии). Он был когда-то приятелем нашего главаря Однорукого и, по всему, непрочь был включиться в работу, но пока проходил проверку на лояльность.
Наша группа состояла из шести человек, седьмой, Тетерин, был, как говорят, на подходе. Каждый из нас в отдельности, мне кажется, был достоин высшей оценки по профессиональной шкале, но в целом ощущался некий комплекс неполноценности, ибо все известные нам и достаточно солидные «конкурирующие фирмы» имели в своём составе представителей так называемых правоохранительных органов и уж как минимум одного мента.
Зато было у нас и кое-что, о чём у других ни сном ни духом не ведалось. Точней, кое-кто. А именно (ты не поверишь!) – два монархо-синдикалиста. Неужели и впрямь всё возвращается на круги своя? Образованные ребята, студенты, утверждали, что они члены комитета по воссозданию в стране какого-то особого, истинно русского монархического режима. Однорукий говорил – треплются, а я верил, не знаю… Валюта у них была. Свою долю добычи они, как встарь – большевики, употребляли «на партийные нужды», так, во всяком случае, представляли дело, а мы их за то называли «эксами» – в лучших традициях нашей героической истории. У Однорукого даже идея была: всю нашу банду включить в состав этого самого комитета на правах спецподразделения, вроде как ОМОН у демократов. Я на них насмотрелся в Карабахе, на этих омоновцев, даром что азербайджанцев, а и наши такие же. Это не люди – звери. Немецкие овчарки. И натренированы похоже – на беззащитных. Мы оцепляем (солдат – всегда солдат), а те шуруют по домам, грабят, насилуют, а всё вместе называется «проверка паспортного режима». Извини, я отвлёкся, начинаю службу вспоминать – становится муторно на душе. А притягивает. Вот Однорукий с удовольствием Афган вспоминает – как раненых добивал по кишлакам; мне этого не понять. Хоть бы помалкивал.
Однако вернёмся к нашим баранам. То есть, к этим ребятам, синдикалистам. Можешь ли ты себе представить такое: люди всерьёз помышляют о революции? После всего-то! В конце двадцатого века! Нонсенс, верно? Так нет же – они всерьёз! Лично я их называю так: последние жертвы. И грустно, и смешно. Опять – социализм, самоуправление и всё такое прочее. Дичь какая-то! У нас два рабочих ещё – хорошие ребята, мастера, – так они в открытую смеются, а при слове социализм прям таки за ножи хватаются. Да что я тебе рассказываю, ты на себе все его прелести испытала.
Надеюсь, ты мне поверишь, если я скажу, что наша банда руководствовалась целями благородными. «Вольные стрелки» (так мы называли себя) никогда не опускались до пошлого рэкета с его мерзостями в виде шантажа, заложничества, пыток и иного средневековья. Нашим врагом и одновременно источником доходов было одно только государство-монстр, изо дня в день обкрадывающее своих подданных для их же, как утверждается, блага. Теперь я могу открыто сказать, а значит и написать тебе: нашим «Шервудским лесом» были дремучие дебри советских железных дорог – подлинно ахиллесова пята отвратительного дракона. Думаю, пояснений тут особых не требуется: там, где ничто не охраняют, а ценности и желающих взять их отделяют друг от друга только запоры и хрупкие, как осенние высохшие листы, стенки вагонов, – там воровской доблестью становится одна лишь техника в самом широком смысле этого слова. А что до стрельбы, с которой я начал это письмо, то ведь она у нас имела больше спортивный характер, хотя, конечно, руки, привыкшие к оружию, испытывают постоянный зуд, если по меньшей мере раз в сутки не сожмут рукояти чего-либо огнестрельного. Разумеется, готовясь к операциям масштабным (к примеру, таким как увод на тайные тропы состава с импортными товарами), надо было готовиться и к схваткам кровавым, особенно с тех пор как в дела стали мешаться эти псы-гебешники, эта наглая свора, помыкающая народом. С ними – только война! Вплоть до гражданской. Даже в союзе с монархо-синдикалистами.
Милая бабушка! Ни о чём не жалей и ни в чём не раскаивайся. Ты поступила именно так, как и должна была поступить. Помнишь, ты мне рассказывала в детстве, как твоя мать, моя прабабка, охраняла по ночам свой магазин на Бутырском хуторе, переходя от одного зашторенного окна к другому с револьвером в руках? Когда это было – летом семнадцатого? Ну, конечно, бандитизм ещё не стал государственной политикой, пребывая в счастливой поре младенчества, и маленькие весёлые бандочки по образу и подобию моей сегодняшней выбирали свои жертвы не по принципу социальной справедливости, а по собственной прихоти (чего, впрочем, не скажешь о нас) … И как сломали наш старый дом в Марьиной Роще, где кончили свои дни мои подчистую в итоге ограбленные предки, и на его месте построили общественный туалет. И как мы с тобой искали и не могли найти место в Детском Парке, ведомое тебе одной по каким-то потаённым приметам, упрятанным в изгибах стволов, их взаимном расположении. И то верно: только старые липы могли помнить топографию бывшего Лазаревского кладбища. Ты там что-то смиренно приговаривала, а у меня волосы поднимались дыбом, когда я пытался представить себе, сколько же черепов сверлят из-под земли пустыми глазницами толпы веселящихся детишек.
Милая бабушка, я всегда восхищался тобой. Твой неукротимый нрав так выгодно контрастировал с вялым конформизмом моих родителей. Их я тоже не могу судить, достаточно того, что они выжили. Твой сын, мой уважаемый отец, мог бы, конечно, добиться большего, если б не был (извини) чуть-чуть трусоват и не уповал только на свои способности и благополучную прямолинейность учёной карьеры, которая, сломавшись по непонятным для меня причинам где-то в середине пути, оставила соискателя её в состоянии растерянности и апатии. Только мама, пожалуй, из всех нас по-настоящему счастливый человек: если б я не стал «робингудом», то непременно пошёл бы в учителя.
Я понимаю, какой удар нанёс твоему бедному старому настрадавшемуся сердцу. Но такова уж видно наша с тобой судьба: «пепел Клааса» по какой-то прихоти одинаково стучится в нас. Помню, как буквально остолбенел, услышав о замышленном тобой плане. В твои-то восемьдесят пойти на работу! И куда! – сторожем (или как там это – уборщицей?) в общественный туалет! Тот самый – на месте нашего дома. Создать кооператив, взять в аренду это не к месту устроенное заведение и, накопив денег, снести его (!), чтобы восстановить старое жилище. Ты всегда была фантазёркой! Я только не догадывался, какая сила духа и какая энергия в тебе таятся. Я тотчас – с восторгом – дал тебе денег для осуществления твоего проекта; тогда это были ещё честно заработанные деньги. И первая часть твоего замысла блестяще удалась.
Потом ты попросила… Теперь уж я ничему не удивлялся. И то, что ты захотела иметь пистолет (ты сказала: пугач) тоже не удивило меня. Образы детства неизгладимы (сужу по себе), и пример моей прабабки, с пистолетом в руках охранявшей своё достояние, должно быть и стал для тебя побудительным толчком.
Как это ни прискорбно, он же явился и косвенной причиной моей столь необычной на взгляд обывателя и таким чудовищным – а в общем-то закономерным – крахом окончившейся карьеры. Увы, твой единственный выстрел оказался смертельным.
С Одноруким я ещё до армии учился в техникуме в одной группе. Он ведь на десять лет старше меня. Другое поколение, а тоже – потерянное. (Сколько же их потеряно? Семь? Восемь? Десять? И сколько ещё будет?) Когда ты попросила, я позвонил ему. Из Афгана, я знал, многие привозили оружие. И попался, как говорится, на удочку. Он в это время сколачивал «организацию» – так он это назвал. Предложил поучаствовать…
Ты спросишь: что меня толкнуло? Сам не знаю. Скорей всего, скука. Немного азарта. Опостылевшая грошовая работа. Столь же опостылевшая учёба. Благородство программы: отъём ценностей у государства в пользу бедных. Наш главарь был хорошим пропагандистом. Потом затянуло.
В итоге произошло то, что и должно было произойти. Подпольный мир оказался ещё более мерзок, ещё более «коммунистичен», нежели мир парадный. Нас попытались обложить данью, которую приносят все, подобные нашей, организации в так называемый общак, фонд, предназначенный для бандитов, находящихся в заключении. Мы, естественно, послали их подальше со всеми их вонючими «общаками» и прочими воровскими «законами» – ведь недаром мы были вольные стрелки. На «разборке», устроенной местными главарями. Однорукий, вместо того чтобы немного пострелять, сдал меня в заложники. Оказался трусом, подлец. (И то верно: кто посмелее, во время войны уходили к моджахедам. Выскользнувшим из этой отвратительной мясорубки невредимыми ещё долго замаливать грехи. А эта сволочь… недаром говорят, что руку он сам отхватил себе циркуляркой – вроде по пьянке, а на деле – комиссоваться.) Мало того, что сдал меня, а ещё и платить не стал. И самое страшное – назвал тебя: вот, мол, у него бабка кооператорша, с неё и берите.
Меня несколько дней в подвале держали, взаперти. А в то утро вывели наверх, завязали глаза и повезли… Я начал понимать, где мы, когда ощутил запах дезодоранта, которым всегда полнилось твоё первоклассное заведение; а потом сняли повязку, и я увидел тебя стоящей у своего «ломберного» столика, по завещанию должного перейти ко мне. Эти мерзавцы ведь не знали, что ты почти слепа, и что если я буду молчать, ты не узнаешь меня. А когда, спрятавшись за моей спиной, они потребовали дани, ты сделала единственно верный ход – спустила курок. Прекрасный выстрел! Ты расквиталась сразу со всем нашим прошлым, настоящим и будущим.
Пуля прошла насквозь и раздробила мой бедный грудной позвонок, отчего вся нижняя половина тела оказалась парализованной. Надежды на выздоровление практически никакой, несмотря на операцию, сделанную «светилом». Но мои голова и руки в порядке и вполне способны довести дело до конца.
Тебя, моя родная, безусловно оправдают. Постарайся найти доводы, которые облегчат твои муки раскаяния. Это – рок. Фатум. История знает много похожего. Царь Эдип – вот, пожалуй, классический пример того, как бывает трагична нежданно негаданная вина. К счастью, тебе не надо ослеплять себя, сама жизнь тут постаралась, и, я бы сказал, ты мне сейчас напоминаешь больше Фемиду, вершащую суд с завязанными глазами. Суд беспристрастный и справедливый. Я всегда помнил твои слова, сказанные когда-то очень давно и уж вряд ли восстановимо сейчас – по какому поводу. Ты сказала: если бы я узнала, что мой сын пошёл по кривой дорожке, я убила бы его собственными руками. Ну что ж, дорожка покривилась на внуке – а ты просто исполнила своё обещание. Если экстраполировать нравственное падение нашего рода – от купеческой щепетильной порядочности прадеда – твоего отца, через р-революционную убеждённость деда – твоего мужа (однако не уберёгшую его от расстрела), люмпенство моего псевдоучёного-отца – твоего сына и, наконец, мои преступные наклонности, – если пойти дальше, то мой сын вполне мог бы стать хладнокровным убийцей. Кто-то должен был положить этому предел. И это сделала ты – как нельзя лучше.









































