Текст книги "Проселок"
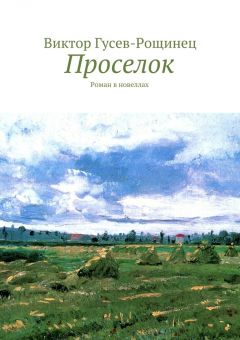
Автор книги: Виктор Гусев-Рощинец
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
«Не сейчас». Она согласно кивнула, вероятно, выстраивая при том свою собственную модель, которая была бы применима к нему, возможно, даже помещая аналогичным образом в свою оригинальную классификацию – ведь если уж довести начатый разговор до логического конца, то у всякой опытной женщины, – имевшей, предположим, сотню любовников, – непременно мужское естество точно так же классифицировано и, верно, даже с большей степенью детализации. А что касается мужских душ, то ведь всякому известно, что женщины о них невысокого мнения и отнюдь не считают какими ни то загадками. И, кажется, полагают к тому, что тело мужчины – это и есть его душа. Возможно, не без причины. События, например, могли бы развиться в ином ключе, если б с утра Альберт Васильевич хлебнул из заветной фляги с лечебной целью.
Она сказала: «Позвони вечером». Записала на клочке старой газеты (они прошли на кухню) свой телефон, легко пробежалась пальчиками по его небритой щеке и не прощаясь ушла. Он подумал: ещё одна одинокая душа. Может, и прав Шопенгауэр, утверждая, что одиноки – все. Наблюдая женщин, Альберт Васильевич всё больше склонялся к той же мысли.
Он расправил, насколько мог, помятую на груди рубашку, надел пиджак и вышел на улицу. Утро перевалило уже на одиннадцатый час. Было тепло и безоблачно. Солнце катилось к югу над речной поймой в дымной пелене, насылаемой безостановочно с нижнекамских труб, отчего вместе с ядовитеньким душком в воздухе разливалась ощутимая тревога солнечного затмения. Как и накануне, улица выглядела пустынной. Несчастный «Елаз» натужно покряхтывал за проходной – голодный великан, обгладывающий в своей пещере кость ископаемого мамонта. Именно такой вот нелепостью представилась Альберту Васильевичу в этот утренний час затеянная их «славной отраслью» бесславная стройка. Он решил, что больше не пойдёт туда – хватит с него коляски. Есть дела поважнее. Вот когда начнут этого монстра приватизировать, он, пожалуй, купит парочку акций – надо ж куда-то употребить свои «деревянные». А там, глядишь, и дело тронется с мёртвой точки.
Он шёл по главной елабужской улице, почему-то не узнавая её в другом освещении и только видя над крышами домов лесистый кладбищеский холм, искал приметы, по каким, углубляясь в переулки, наконец, смог бы найти дом, мимо которого прошёл вчера дважды и где дважды встретил ту странного вида старуху с папиросой в зубах, которую представила Альфия своей бабушкой. Он узнал столовую на углу, вышел к базару. Где-то там, над рекой, летели полуразрушенные купола храма. Но ни дома того, ни водяной колонки, ни старухи так и не встретил. Не нашёл.
Проплутав около часа, Лыков неожиданно для себя оказался на улице Жданова и ещё раз подивился иронии судьбы: это была дорога к храму! И сам тот в беззащитном, гордом великолепии одинокой старости возвышался в конце пути – на острие километровой стрелы с повисшими на древке серыми избами, неизменным штакетником и купами пыльных тополей. Альберт Васильевич испытал вдруг странное чувство: как будто после долгой изнурительной качки ощутил под ногами земную твердь; необъяснимая, едва ли не провидческая уверенность охватила его и понесла вперёд, туда, где под сенью древних стен ютился домик убиенного гения. Мгновенно вспыхнув, порыв этот тотчас же и был рационализирован сознанием: с какой-то поистине непреодолимой жаждой влеклось оно припасть ещё раз к вечности, оставившей здесь неизгладимый, неуничтожимый, неистребимый след в виде аляповатой мраморной доски с неуклюжей эпитафией. Её – поэта – собственная «дорога к храму» наткнулась тут на развалины и всё же не исчезла, не затерялась, а только остановилась на миг в ожидании отставших и затмившихся душ.
Лыков быстро шёл, почти бежал вниз по улице, к реке, к храму, будто подгоняемый какой-то силой, и странным образом наполнялся радостной уверенностью в благополучном исходе своей маленькой одиссеи. Так бывало с ним часто к перемене погоды: стоило барометру пойти на «ясно», и как рукой снимало хандру, переставала раздражать унылость работы, оживали смутные надежды на что-то хорошее, ожидание благих перемен. Умом понимал, в общем: беспочвенно всё; что-то было сродни действию веселящего газа – ещё немного, и формула мира в твоих руках! – а, пройдя, оставляло одни каракули, что-нибудь вроде «не стреляйте в диких голубей».
С облегчением, которое вряд ли могло быть объяснено какими-то внешними причинами, Альберт Васильевич увидел: и дом, и доска мемориальная на месте. Он замедлил шаг и перевёл дыхание; удивившись самому себе, оттолкнул наваждение коротким смешком. Положив локти на забор, упёрся лбом в сцепленные замком кисти рук и так постоял несколько минут, справляясь с неоправданно тяжёлым сердцебиением. Подумал: как боксёр на канатах. Вспомнилось опять название книги, которую оба они совсем недавно – ещё находясь в покорном друг о друге неведении – прочли и со знанием дела цитировали здесь, у этого жалкого заборчика, преградившего путь к одному из величайших мест на земле: вот уж поистине скрещение судеб! Благодарственную телеграмму Марии Белкиной! – они решили послать её завтра, и вот оно пришло, это «завтра», но, похоже, судьбы чаще расходятся, чем скрещиваются столь счастливым образом.
Из избы вышел и стал на крыльце свирепого вида мужик с чем-то чёрным в руке, похожим на резиновую дубинку. Что ж, это вполне в русском стиле, подумал Альберт Васильевич. Верно, принял меня за пьяного и опасается, как бы не облевали его свежеокрашенное заграждение. И грустно, и смешно. «Пошёл отсюда,» – негромко сказал мужик Альберту Лыкову, влюблённому поэту, и начал спускаться по ступенькам.
«Ухожу, ухожу,» – Альберт Васильевич выпрямился, выпустил из рук заострённые пиками штакетины, утвердился на ногах и, в последний раз пробежав глазами по мраморной доске, повернулся и пошёл – к храму. Вернее сказать, ноги сами понесли его туда безо всякого участия мысли. Стоит вообще призадуматься: когда нам плохо – куда можно пойти? Если бог есть любовь, то обретая любовь – обретаешь бога, и всё что служит его обителью неудержимо влечёт к себе – будь то «отеческие гробы», или храмовые приделы, или просто святые развалины.
Лыков перешёл по мостику ручей и вновь очутился в вороньем царстве. Солнце стояло уже высоко, оно разогрело кроны лип, зеленоватый сумрак насытился влажной духотой, она клубилась между стволами, ниспадая к земле, бесцветная, но с отчётливо выраженным химическим запашком. Может быть, зной, а может, дурман, нагоняемый с юга заводскими дымами, приморили неугомонное вороньё: оно смирило своё кипение и лишь тяжело ворочалось теперь в перевитых нитями ветвей чёрных узлах-гнездовьях, иногда вскрикивало истошно, кем-то спугнутое со сна, и снова погружалось в наркотическую дремоту. Вчера здесь было всё по-другому. Или то вчерашняя приподнятость озвучила эти руины оглушительным птичьим гомоном, что показался им одой к радости, на деле же был криком о помощи, воплем перепуганной вороньей толпы, гибельной вестью племени двуногих дикарей? Он побрёл к паперти, поднялся по выщербленным обомшелым ступеням и здесь, настигнутый солнцем, заторопился, чтобы укрыться поскорее в тени каменных сводов. И опять нимало не думая о том, что, собственно, заставило предпринять его эти несколько шагов, – явно бесцельных, потому что ведь никогда мыслью даже не приближался Альберт Васильевич к богу, о житии христовом знал понаслышке, и ни разу в жизни переполненное радостью ли, страданием чувство не побудило его к молитве; а если и заходил в церкви, то с любопытством по преимуществу эстетического свойства, столь характерном для склонных к бродяжничеству натур. Впрочем, входя, обязательно снимал шапку и осенял себя крестным знамением, а чтобы не ошибиться и не сделать переклад перстов слева направо, изобрёл даже своего рода мнемоническое правило: припоминал знаменитое «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», и вот тогда уж точно знал – справа. А существование Бога-творца и вовсе представлялось ему смешной выдумкой, недостойной внимания образованного человека. Одним словом, Альберт Лыков ни на гран не являл собой верующего, и даже не был предрасположен к суевериям, издревле привечаемых полуязыческой Русью.
Ещё когда поднимался на паперть, почудилось ему, что в просвете, точнее, в голубоватой притемнённости разрушенного портала, за ним, внутри, над поверхностью так поразившего его вчера каменного монолита-пола будто что упало вниз, или пролетело бесшумной тенью, отделилось от общей долженствующей неподвижности и, как всё, чему не увиделось тотчас же причины, тронуло где-то на обочине память о причудах окружающей нас – право же, таинственной! – реальности. Вспомнилось, мама в таких случаях говорит: ангел пролетел. Альберт Васильевич улыбнулся даже себе. Однако тяжесть тела перенёс на носки, чтобы не произвести шума гулкими каблуками и почти подкрался к пролому и, заглянув осторожно внутрь, в искрящийся полусумрак со столбом света в центре, упёртым в купол, к изумлению своему увидел молящегося. Это было настолько неожиданно, что Лыков даже пригнулся и отпрянул влево, в боковой неф, откуда мог наблюдать за сим странным явлением, не боясь, что «явление» обнаружит его. Человек стоял на коленях, спиной ко входу, будто перед воображаемым алтарём, и был одет во всё чёрное, по-монашески, отчего и первой мыслью, которая приступила к нежданной загадке, было: кто? Калики перехожие, монахи-пилигримы, странствующие рыцари, беглые каторжники, старцы-отшельники, гоголевские семинаристы, советские бомжи – осыпью пронеслись перед внутренним олитературенным взором влюблённого романтика, но и отлетели во мгновение прочь, как только чёрный человек поднял руку перекреститься, а сделав это, подался вперёд в низком поклоне, – движения были так легки и восхитительно грациозны, что немедленно вся картина преобразилась и теперь уже без сомнения представляла собой – молящуюся. Да, то была женщина, и, ко всему, женщина молодая, и это уточнённое обстоятельство заставило Альберта Васильевича переменить направление своих догадок, среди коих далее проследовали монастырские послушницы (откуда?), кающиеся грешницы (нечто не от мира сего), матери, оплакивающие детей своих (подходит нам как нельзя лучше), вдовы неутешные… Стоп! – сказал он себе.
Да и прежде чем сказал это, знал уже, знал, держа в подсознании, не давая выхода, глуша всею насочинённой литературой, что живёт в нас охранительной сутью своей и помогает – но и мешает, случается, – дробить мир на отдельные составляющие-корзинки, куда ссыпаются – по смыслам – дела и дни, люди и встречи, красота и уродство, любовь и ненависть, правда и ложь, добро и зло. И ещё всякая мелочь, вроде науки и техники, погоды, политики, стихийных бедствий, катастроф, социализма, водки и цен. Усилиями предшествующих поколений всему уготовано свое место, своя ячейка, задача лишь в том, чтобы найти её правильно, может быть, посредством исторических аналогий, не ошибиться и не наделать путаницы. Чтобы войны перемежались миром, цивилизации расцветали, плодоносили и закатывались, революции сметали старое, отжившее и рождали новых людей, а те, в свою очередь, верно определяли бы пределы собственного экономического роста; чтобы новые технологии освобождали руки и головы и наполняли сердца блаженством безделья и радостью подчинения, а свобода подлинно стала бы осознанной необходимостью. Язык и слово, говорит Хайдеггер, царят безраздельно, полностью подчиняя себе текст и автора, через которых и посредством которых они творят. Но когда текст – жизнь, а человек – автор, то ему случается открывать новые для себя слова, или самому образовывать их, как говорится, из подручного материала, и тогда текст-жизнь начинает расцвечиваться новыми красками, сверкать и переливаться откровениями, и, бывает, сама повелительница-смерть предстаёт ошеломлённому взору как чудесная тайна жизни.
Нечто подобное откровению такого сорта переживал теперь Альберт Васильевич Лыков, поэт и управленец, стоя за церковной колонной с затаённым дыханием и глазами, вперёнными в молящуюся Альфию. Конечно, это была она! А сам он, пожалуй, сказал бы так: то забытое Слово, Которое Было Вначале, как восковое лезвие входило ему в грудь и плавилось, и разносилось током крови по телу – становясь горячим до слез чувством благодарности. Кому? За что? Он не знал. Но это было неважно. Может, за то, что снова обрёл казавшееся потерянным? Или за Понимание, которым вдруг осветилась вся его предшествующая жизнь, так часто казавшаяся ему никчёмной, растраченной попусту, промотанной? А возможно за Понимание Мира, что вставало далёкой вершиной за грядой ставших доступными вершинок, запечатлевших каждая в облике своём иное чудовище из числа порождённых сном разума. Так часто смотришь на вещи привычные глазу, не замечая их, или не видя их символического смысла, или принимая вовсе не за то, что они есть. Теперь же ему отчётливо стали видны выхоленные десятилетиями тотального рабства упыри, опившиеся кровью вурдалаки, сексоты-лешие, сладкоголосые невежды-сирены, вампиры, облепившие всё живое в его несчастной стране, и главнейший, могущественнейший, древнейший из монстров – Минотавр, воссевший на престоле Империи. И он подумал, что сыновей своих они никогда не отдадут этому мерзейшему из чревоугодников, даже если придётся для этого пожертвовать собственной жизнью.
Чёрная шаль скрывала её голову и плечи и спадала почти до пола. В перекрещенных лучах непрямого солнечного света силуэт казался парящим в воздухе, будто искусный осветитель приподнял его над сценической площадкой, пользуясь эффектами перспективы и выигрышностью фона, которым служило здесь небо и одинокое облачко, повисшее прямо в центре пролома на месте бывшего алтаря. Лыков ничуть не удивился бы, если бы вдруг она поплыла ввысь, вознесение стало бы, вероятно, самым естественным – если тут применимо это слово – концом истории. Ведь нечто подобное в метафизическом плане переживал сейчас он сам: душа его парила уже где-то над той дальней вершиной и если ещё не приблизилась к Богу, то лишь потому, что привыкшее к наслаждениям и комфорту тело покамест держало её на привязи, как держит нить бумажного змея.
Внезапно Лыков почувствовал неимоверную слабость и тошноту и сначала опустился на корточки, а потом, не в силах одолеть приступ недомогания, ставший, по всему, следствием полубессонной ночи, перетёк на колени и дальше вперёд, пока ни распластался ничком у колонны, ощущая лбом и через рубашку всей кожей ключевой холод древних камней. Скорей всего, он просто на секунду потерял сознание, а когда очнулся, то и обнаружил себя лежащим в такой необычной позе. С трудом он приподнял голову и посмотрел туда, где должна была быть Она.
По-прежнему в скрещении света тонко дымился воздух, но храм был пуст. Тогда он снова прилёг виском на объявшие камень руки и почувствовал на губах застывшую в блаженном оцепенении счастливую и совершеннейшим образом – понимал – абсурдную улыбку.









































