Текст книги "Проселок"
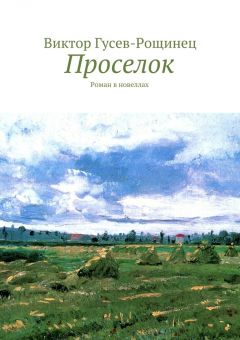
Автор книги: Виктор Гусев-Рощинец
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Они поцеловались. И оба смутились, как дети, которым случилось поцеловаться среди игры; Альберт Васильевич хотел что-то сказать, но слова замерли на губах из страха быть произнесены всуе, и, повёрнутая вспять, неуместная цитата преобразилась в молитву. Бог есть любовь, пребывающий в любви пребывает в боге, и бог в нём. Со спрятанными всё ещё глазами Альфия потянула его за руку; они вышли тем же путём и, обогнув угол храма, оказались на высоте над скрытым хвойной лесной порослью берегом, убегающим – через брешь в церковной ограде – вниз по склону просёлком и далеко видимой с востока на запад лентой реки. Шишкинский знакомый пейзаж! Несомненно, с этого места он и видел и писал его! Кама в окрестностях Елабуги. Она не была в Нижнем Новгороде, сказала Альфия. К сожалению. «Не беда, – сказал он, – у вас ещё всё впереди». И тут же поправился: «У тебя». Разумеется, там нет на горизонте этих нижнекамских чудовищ, ощетинившихся трубами, изрыгающих дымное пламя и насылающих удушье посредством ветров, сохраняющих тут упорное, достойное лучшего применения постоянство направлений. Нет, сказал он, Шишкин тем и хорош: донёс до нас русские ландшафты в их первозданном виде, его взгляд не замутнён предвзятостью, не искажён дурным настроением. В живописи Альберт Васильевич, как это ни покажется странным в наше время, оставался поклонником натуральной школы. На что Альфия заметила: в нынешнем положении вещей более была бы кстати сезанновская кисть с её нависающими задними планами – по крайней мере стало бы ясным, что надвинулась катастрофа. Альберт Васильевич не согласился: у Сезанна этот маленький ад на горизонте, придвинувшись вплотную к зрителю, был бы необычайно красив. Неужели она никогда не замечала, как бывают красивы урбанистические пейзажи? Это зловещая красота, сказала Альфия. Демоническая. Дьявольская. Верещагинская гора черепов тоже красива, он согласен? Трагедия эстетизма в его бессилии. Так беседуя, они вернулись через «липовый зал» (Альфия сказала) к домику с мемориальной доской, минуту молча перед ним постояли, мысленным взором проникая внутрь, насылая туда призраки былых времён, и потом, кажется, даже поклонившись едва заметно, двинулись вверх по улице Жданова. Но теперь всё было по-другому. Запечатленный полчаса назад поцелуй работал наподобие катализатора в набирающей силу реакции образования страсти, точки соприкосновения рук становились всё более горячими; пали сумерки, и Лыков обнял её за талию, пользуясь тем, что улицы были по-прежнему пустынны и плохо освещены. Альфия не только не противилась этой бурной атаке, но и, по всему, была возбуждена не меньше и, когда в ход пошла «тяжёлая артиллерия» – стихи, сдалась на милость победителя, приняв приглашение ««на чашку чая». Дон Жуан в обличье Альберта Лыкова торжествовал, изливая нахлынувшее чувство в стихотворной импровизации. «Я не дьявол-искуситель, не знаток рецептов яда, у дверей твоих проситель нежно-трепетного взгляда!» Альфия громко рассмеялась, и то была чудеснейшая музыка, мелодичная и волнующая, как итальянская тарантелла; она придала ему уверенности, и он продолжал: «Я не сумрачный гадатель телепатов тайной лиги, я души твоей читатель – увлекательнейшей книги…». Дальше должно было что-то последовать об авторе – «из рода менестрелей» и каких-то «песнях огненной метели», но тут они подошли к подъезду гостиницы, Лыков прервал сочинение на полуслове и сосредоточился. Все знают, что проникнуть в советскую гостиницу без документа и специального разрешения администрации человеку с улицы нелегко, даже если он идёт в сопровождении того, кто на законных правах пользуется гостиничным номером. Гостям же, паче чаяния они были допущены в святую обитель, разрешено оставаться в ней не долее чем до одиннадцати вечера, после какового часа для выдворения их может быть применена сила. (Исключение составляют преступные элементы, но известным преступлениям против нравственности в «Елазе» места не было по причине заштатности командированной клиентуры.) Да и Лыков с большим несравненно удовольствием пригласил бы новую знакомую в театр или, на худой конец, в ресторан, только театра в Елабуге никогда не было, а ресторан, сказала она, отвратительный, к тому же все места наверняка заняты. Пожалуй, пуще всего Альберта Васильевича смущало воспоминание о неосторожном жесте – знаке определённого расположения, которым он приветил поутру даму за конторкой. Если она, по несчастью, не сменилась, то положение будет не из ловких. Они вошли в подъезд и поднялись – четыре ступеньки – на площадку перед лифтом. За конторкой администратора, видимой через отворённую дверь в конце коридорчика, было пусто; пустовало и деревянное кресло вахтёрши с круглой, вышитой гладью подушечкой на сиденье. Эти несколько секунд между блаженством свободы и позором бесправия, между мстительным чувством победы над полицейщиной и унизительностью привитой вины показались Лыкову вечностью. У лифта горела красная кнопка; цена успеха равнялась пяти шагам, которые отделяли их от входа на лестницу, и ещё восьми коротким пролётам, где вероятность быть задержанными существенно уменьшалась, однако не исчезала вовсе. И они преодолели их с достоинством, даже не пытаясь бежать; ключ, взятый наизготовку, мягко вошёл в замочную скважину, совершил два восхитительно бесшумных кульбита, и ворота в рай послушно распахнулись, приглашая войти. Они переступили порог, Альберт Васильевич затворил дверь, для уверенности надавил на неё плечом и снова замкнул запоры. Альфия засмеялась и сказала:
«Только с ордером на арест».
Опытные соблазнители знают, что едва ли не самое трудное в донжуанском их ремесле – верно оценить скорость, которая отличает падающее женское сердце. Здесь требуется поистине дьявольское чутьё, ибо то не просто свободное падение тела по школьным законам физики и даже не более сложный физиологический вариант; женское сердце, думал часто Лыков, больше похоже на летучую мышь, проносящуюся во тьме, кажется, одновременно во всех направлениях, и угадать момент, когда оно, обессиленное, вдруг опустится тихо на вытянутые тобой вперёд – корытцем – ладони, – это невероятно трудно. Но и тут нельзя спешить: сначала близко поднести к глазам, чтобы рассмотреть чудесное устройство, налюбоваться рубиновым переливающимся в глубине свечением, темнеющим по мере схождения к внешней полупрозрачной оболочке и, случается, подёрнутым очажками стылой окалины. И только после того начать потихоньку сдавливать в руках и поворачивать, как поворачивают диковинный плод, очищая от наслоений прилипших к сладкой поверхности чужих шелестящих слов, засохших касаний, отпечатков жаждущих, робких, пламенных, мечтательных, восхищённых, ревнивых глаз и струпиков отболевшего.
Они прошли на кухню и сели за стол, у окна, открывающего над слоистой плёночкой одиноко предлежащей крыши по ту сторону улицы лесистую холмящуюся даль. Сумеречный свет, тяжелея и отстаиваясь внизу всеми оттенками зелёного, возносился вверх через толщу белесоватой пустоты к темнеющему в лилово-синих переливах и уже загоревшемуся несколькими звездами небу. Мельком взглянув в окно и восхитившись мысленно разверзшейся за ним перспективой, Лыков перевёл тотчас взгляд на девушку и, пока ставил на плиту чайник, собирал на стол, извлекал из холодильника небогатый провиант, собранный в дорогу и, в общем-то, плохо приспособленный для угощения, – по большей части всё смотрел на неё, с трудом отводя глаза всякий раз, когда этого требовали обстоятельства дела, но тут же и возвращаясь к источнику – такого неожиданного! – своего вдохновения. Она сидела, положив локти на столешницу, и смотрела в окно, вдаль, являя в грациозном повороте головы античный профиль необыкновенной чистоты линий. Молчали, как бы давая понять друг другу, что некуда спешить и что, возможно, вот эти минуты перехода – из чуждости, скрытости, взаимного небытия – в плотнеющие слои чувственных ощущений, стеснения духа и такой их странной предполагающейся слиянности суть главная прелесть текучего времени, самой жизни. И даже грусть в такие минуты – оттого что всякому чувству суждено умереть – даже она прекрасна. Это было очень острое переживание, и Альберт Васильевич, человек и без того по природе своей весьма чувствительный, с душой, по справедливости будет сказать, женского склада (не в укор ему то замечено), старался продлить его своим молчанием. Сумерки быстро сгущались; тишина, изредка нарушаемая только соприкасающимися предметами сервировки, неосторожным движением, вдруг неожиданно громким урчанием холодильника, какими-то стуками за стеной, – тишина была осязаема, как и осязаема густеющая тьма. Как и почти осязаемо тело девушки, которое в воображении своём Лыков уже вбирал в себя обнажённым, упоительно-прохладным, доверчивым. Его чувственный пыл, однако, взметённый было её неожиданно лёгким согласием пойти в гостиницу и достигший апогея в момент «перехода границы», теперь явственно спадал, освобождая место прибывающей нежности. Потом, всё так же глядя в окно, Альфия стала читать стихи: «Я расскажу тебе про Великий Обман, я расскажу тебе, как ниспадает туман на молодые деревья, на старые пни, как погасают огни в низких домах…». И дочитала до конца, и повернула к нему лицо, и, подняв глаза с расширенными зрачками, посмотрела прямо, будто вручая себя в его полное распоряжение. Тем временем уже стали расплываться очертания предметов, в доме напротив загорелись окна, Лыков подошёл к двери и щёлкнул выключателем. От яркого света оба зажмурились и рассмеялись. «Немного коньяка?» – спросил Альберт Васильевич. «Пожалуй», – ответила она и с вежливым удивлением окинула взглядом стол: несмотря на дальность и тяготы перевозок, кое-что из непортящихся столичных, распределяемых в министерстве деликатесов достигли-таки забытой богом и властями глубинки и теперь поблескивали отражениями тёплого огня вкупе со внутренней, исходящей из самой плоти яств возбуждающей энергией. А и всего-то навсего немного балычка, да копчёной колбаски, да баночка красной икры и несколько «мишек» для чаепития. Или к кофе. По правде сказать, возилось всё сие больше для «смазки» деловых контактов, то бишь – умащивания секретарш и, при необходимости, машинисток, и если не было ещё раздарено, то лишь по чистой случайности. А коль в основе нашей жизни лежит некий телеологический принцип, то наверно потому, что ждало именно этого загаданного судьбою случая. Альберт Васильевич извлёк из чемодана знаменитую флягу и водрузил на стол к ещё большему изумлению гостьи.
Они грели коньяк в ладонях и пили маленькими глотками. Прислушивались к тому, как разжимаются скрепы, соединяющие душу и тело, и те начинают перемещаться и жить и чувствовать в отделённости, без оглядки друг на друга – легко и свободно. Всё можно было говорить. И всё должно было совершиться само собой. Но прежде чем он рассказал ей о себе – она ведь ждала этого – он предложил ей стать его женой. И она так же незамедлительно и со смехом согласилась – конечно, как же иначе! – он даже не спросил, есть ли у неё дети. Ах, его это, видишь ли, не смущает! Но их же полюбить надо. Прекрасно, он уже любит их, потому что – любит её. Осторожно, сэр! Не попадитесь на удочку. Блестящая наживка обманчива – и смертельна. О, боже! Он готов умереть! Нет, он хочет жить – ради неё. Конечно, смерть – это главное событие в жизни человека, и тут нечего возразить, но ведь следом за ней идёт любовь. Пожалуй, теперь он даже не взялся бы утверждать, что за чем следует и что главнее. И наверно в итоге склонился бы к мнению о превосходстве чувства жизни над чувством смерти и, соответственно, события жизни над событием смерти, ибо одно – пойти на смерть во имя любви, и совсем другое – отчаявшись.
Они опять вернулись к судьбе той, что в отчаянии переступила за грань в домике у овражка, под стенами разрушенного храма, и Альфия сказала: если он был бы действующим, то она б не сделала этого. Ведь последнее утешение – в боге. Когда исчерпано всё, остаётся молитва. Альберт Васильевич при этих словах поискал ещё и улыбку на губах девушки, но вместо неё увидел вдруг нечто иное: на молодом красивом лице проступила на минуту маска такой глубокой скорби, что даже сквозь радужный алкогольный флёр на него повеяло холодом отчуждённости. Это ощущение быстро прошло, однако память о нём не отступала во всё время дальнейшего разговора, и, наконец, не выдержав принятого полушутливого тона, он попросил её рассказать о себе.
Она рассказала. Елабужское детство, учёба в Казани, замужество, рождение сына, неожиданное вдовство, возвращение к родителям. Лыков подумал: состояние нации определяется по количеству вдов на тысячу, да ещё по количеству матерей, потерявших детей своих. Это была печальная, но какая типичная история! Он протянул руку и, захватив её пальцы, легонько сжал их и вскоре почувствовал, как её рука напряглась, высвобождаясь, но не сбросила, не оттолкнула, напротив, повернулась ладошкой вверх и обняла его в ответном пожатии. Теперь слова, какими бы ни были они утешительными, ободряющими или, сверх того, словами любви, ничего бы не смогли добавить к тому, что уже произошло. Тогда Альберт Васильевич встал со своего места, обошёл вокруг стола и, склонившись к девушке, приник к её губам, чувствуя, как она поднимается навстречу ему, ища тесного и свободного объятия.
…А потом волны прилива подхватили их и, мерно раскачивая между землёй и небом, перенесли в страну, которой имя бессмертие, где сам воздух пропитан розово светящейся нежностью и звучит абсолютно чистым тоном безраздельного понимания.
Утром Лыков проснулся от того, что солнце, взойдя над лесом, ударило сквозь оконное брызнувшее стекло и приникло к коже горячей паутиной, и, чтобы содрать её, он провел по лицу ладонью и, тем отгоняя сон и вместе наполняясь блаженной лёгкостью, открыл глаза и сел на постели. При свете дня сдвинутые кровати двухместной гостиничной спальни выглядели вполне как брачное ложе. Прислушиваясь к непривычно гулкому сердцебиению, Альберт Васильевич одновременно прислушивался к царящей за пределами его досягаемости глубокой тишине и вскоре понял: Альфия ушла. Отделённое теперь сном, всё происшедшее за несколько часов – от его шага за кладбищенскую калитку и ещё – к могильному камню, и мгновенно за этим последовавшим ударом в сердцевину размягчённой души, испытанным при встрече глаз, – и до того как она выскользнула из его засыпающих объятий, чтобы дать, наконец, отдых ненасытным телам, – всё это вдруг представилось ему сновидением – необыкновенно ярким, радостным, лёгким, наполненным какими-то обещаниями и ностальгической грустью, музыкой, экзотическими ароматами и даже звуками океанского прибоя, – но всего лишь сновидением, и он меланхолически подумал, согласившись с кем-то, кто сказал это до него: жизнь есть сон. И то верно: иногда пережитое трудно отличить от сна, и даже если оно оставило на тебе неисчислимо царапин, и шрамиков, и шрамов, то и тогда склонен думать и говорить о нём – паче чаяния не смог забыть, – как о страшном сне. Язык не обманывает. Лыков подтянулся на локтях, прислонился к спинке кровати и ощутил затылком холодок от выкрашенной маслом бетонной стены. Уже совсем было успокоившись и перестав слышать собственный сердечный гул, он решил, что столь нетривиальный уход со сцены его новой возлюбленной – при всей неоспоримой серьёзности его планов (он готов был их подтвердить: безжалостные утра, убившие столько благих намерений, этому утру даровали, по всему, высшую мудрость, скрепившую ночные восторги прозрением – он поискал слова – целесообразной необходимости) – исчезновение сие объяснимо тысячью возможных обстоятельств, но только не бегством от него. Да, он женится на ней. Прочь опостылевшую одинокость! Мама? Бедняжка истосковалась по внукам и будет счастлива. Альберт Васильевич вернулся памятью ощущений в только что пережитую ночь, и убеждённое чувство, разгораясь от этих воспоминаний, ещё раз откликнулось восторженным «да». Летом они жили в своём подмосковном садике, где Лыков вот уже добрый десяток лет возводил дачу, а мама выращивала цветы в маленьких оазисах, не захваченных строительной лихорадкой, и по утрам, когда он ещё спал в своей комнатке окнами на восток, она вносила свежесрезанные букеты и расставляла вокруг него в банках и баночках, и молочных бидонах, и даже в тазиках и вёдрах, и, просыпаясь, он будто переходил из одного сна в другой и, подхваченный волнами аромата, уносился в сказочное обиталище фей. Как это было похоже на то, что он испытывал сейчас!
Однако память скользнула дальше, в начало, и, конечно, тут же наткнулась на немногословный, невыразительный рассказ, вместивший в себя жизнь ещё такую короткую, но уже отмеченную каиновой печатью, притоптанную и, как заключил бы аналитический ум (он это сделал в лице Альберта Васильевича), типичную для России. Эта мысль окончательно подавила сладкую полудрёму, Лыков пружиной сбросил с кровати своё мускулистое, тренированное, ухоженное тело, ещё переполненное ночной силой, пошёл на кухню. Минуя распахнутую дверь гостиной, увидел в трюмо отражение своей наготы, и теперь уже с досадой подумал о бегстве девушки. Хотели же ведь позавтракать вместе. А сколько утреннего, отдохнувшего блаженства!.. Альберт Васильевич почувствовал себя обкраденным. Ну, не то чтобы очень, а всё же… Поставил на плиту чайник и пошёл одеваться. В конце концов, главное решено. А найти друг друга в этой большой деревне труда не составит. Во всяком случае, он ни за что не уедет, не повидав её. А может и сразу увезёт с собой. Ребёнок? И его тоже! Ещё раз подумал: бедная мама! Ну, да всё будет хорошо. Взгляд его упал на книгу, дорожное чтиво, так и пробывшее нераскрытым на тумбочке со вчерашнего дня. «Нагие и мёртвые». Вроде бы и давно примелькавшиеся слова, возможно, в силу обострённости всех чувств поразили его сейчас неожиданно вставшим за ними образом. И приводя в порядок постели, он не мог отделаться от ощущения, будто покрывает саваном три нагих тела, из которых одно мужское посередине меж двух других – бездыханно, а те, что по краям, прильнувшие к мёртвому мужчина и женщина, – он сам и его новая подруга. На какое-то время эта зрительная метафора завладела его воображением. Уже одетым вернувшись на кухню, заваривая чай, приготовляясь позавтракать остатками вчерашнего пиршества, он всё размышлял об увиденном, наполняясь беспокойством и одновременно ища ему опровержения в других источниках, а прежде всего – в живых образах минувшей ночи. И когда тот, первоначальный, отдающий мертвечиной образ-толчок совсем потускнел, вытесненный горячей плотью свежих воспоминаний, и уже мечтательная, и даже с оттенком самодовольства, заиграла на губах Альберта Лыкова улыбка мужчины, исполненного веры в себя (таким он, в сущности, и был), глаза, потянувшись к коньячной фляге, горбиком притулившейся у стены в торце кухонного стола, наткнулись на записку. Расчёт был верен: именно там, согнутую в четверть листа, с заглаженными тщательно углами, чтоб не топорщились, раньше времени привлекая к себе внимание, едва выглядывающую из-за блеска нержавеющей стали, и надо было её оставить. Похолодев и уже зная, что там, Лыков протянул руку, с бьющимся сердцем развернул записку и стал читать.
Начиналось, как и следует, с обращения, которое, в свете их короткой, но бурной истории любви (любви?), звучало вполне естественно и даже показалось ему проникнутым искренностью, каковая часто переливается в написанное рукой на бумаге мимо воли автора и задаёт тон дальнейшим аккордам: «Милый!» Ну, конечно! Похоже на правду, потому что было повторено бессчётно горячим шёпотом вперемешку с другими составляющими хорошо знакомого, почти стандартного любовного лексикона и (тут он готов был поручиться всем своим опытом) ненаигранными стенаниями. Милый так милый. И на том спасибо. Без имени. Впрочем, это можно понять. К имени прикоснуться непросто, для этого надо сделать его ручным, поместив каким-то путём в изящную клеточку уменьшительного. Требует времени. Он и сам-то ведь ничего не придумал. «Аль-фи-я», – Альберт Васильевич вслух произнёс это не совсем обычное для русского уха имя и подумал: Аля, Алинька, Аличка… Нет, не то. Как странно – мама зовёт его Аликом, из друзей некоторые – так же. Выходит, в ласковой форме их имена совпадают. Не это ли знамение свыше? Совпадение имён, слияние душ… Лыков усмехнулся. Навык быстрого чтения сработал автоматически: он разом охватил страничку – худшее подтвердилось. И все эти рассуждения об именах и прочей лингвистике уж были после и были, как неуклюжие попытки выкарабкаться из того нежданного провала, в который обрушилась картонным домиком эта классическая, в духе легенд возведенная постройка. Счастливый Тристан во мгновение ока стал обманутым королём Марком. Изольда клялась в неповторимости пережитого блаженства (экстраполяция в прошлое? – но отчего б, он подумал с лёгким недоумением циника, и не повторить?), она горячо благодарила «за подаренные минуты счастья», но… А дальше следовало нечто противное логике здравого смысла: она никогда не сможет полюбить его, потому что (здесь Лыков заподозрил какую-то скрытую цитату) она бы хотела не любить его вовсе или полюбить намного сильнее. Вот тебе раз. Чисто по-женски. А с другой стороны совсем ведь несовременно. Его немалый опыт заявлял с присущей ему безапелляционностью: в этом деле наблюдается полная взаимозаменяемость. И, грубовато, но в общем-то справедливо добавлял, что ещё пара, тройка таких ночей, и яркость тех, давних, лелеемых в тишине, оживляемых снами воспоминаний убудет, стушуется и перестанет навязывать себя этой трогательно-старомодной неискушённости в качестве безвозвратно потерянного рая. Альберт Васильевич сложил записку и сунул её в карман рубашки. В слишком уж наивных просьбах «не искать», «постараться забыть», «дать зарасти душевной ране» ему почудилась неискренность, которая только подогрела решение поступить прямо противоположно. Откуда-то из детства приплыли готовые слова: бороться и искать, найти и не сдаваться. Он усмехнулся – литература и жизнь, похоже, сплетены крепче, нежели принято думать, и доказательством тому – этот ворвавшийся в его жизнь вихрь поэтического безумия. Лыков понимал, конечно: стоит лишь маленьким усилием воли воздержаться от первого шага – и напряжение начнёт спадать и быстро (по меньшей мере, так было всегда) спадёт до уровня лёгкой грусти, которая вполне подвластна разуму. Например, не позвонить. Сказать себе: я не прикасаюсь к телефону. В большом городе, где случайная встреча тебе практически не грозит, так легко избавиться от неугодной страсти! Или ещё надёжней: переключиться на другой «объект». В этом случае процесс изгнания беса ускоряется неимоверно и проходит практически безболезненно. Но нет, он почувствовал – на этот раз двинулось в самой глубине, и движение то, хотя и медленно – до поры, а вообще если сравнимо с чем, так более всего со снежной лавиной, – мощно и по причине слепоты своей разрушительно. Найти! Но как? Он не спросил адреса, не знает даже фамилии. Школы? Где они? Лыков допил остывший чай. Только движение сейчас могло стать выходом нарастающего беспокойства. В ванной он посмотрелся в зеркало – мысль о бритье, возникшая было, когда ладонь со скрежетом прошлась по щеке, показалась отвратительной, – это «движение-в-себе», чистейшая интроверсия, лишь способно было усугубить тревогу. Он плеснул на лицо пригоршню холодной воды и растёрся махровым полотенцем. Блондинистый чуб, доминанта мужественного облика, был пренебрежительно отодвинут со лба и заглажен в общей покорности густых, но мягких волос. Голубизна роговицы в тусклом электрическом свете отливала сиреневым. Припухшие губы плотоядно тянулись к воспоминаниям о ночных поцелуях. Он не понравился себе.
В дверь постучали. «Входите, не заперто!» – и тотчас побежал сам ко входу, подгоняемый робкою надеждой: она! Увидел молодого посланца с увесистой коробкой, и выдох разочарования прошелестел почти неслышным «А-а..». и, наткнувшись на уточняющее «Лыков?», откликнулся вялой репликой благодарности. «А-а… Спасибо».
Только детской коляски ему сейчас и не хватало! Чёрт бы их побрал, этих подвижников советской индустрии вместе со всем их убогим ширпотребом, бесправием, раболепством. Чем только не подкупали его! Чем не «подмазывали»! И чаще всего – так, на всякий случай, без нужды. Вывихнутый мир его собственной «деятельности» вдруг обнажился перед ним в своём уродстве; обожгло стыдом; как будто прилюдно содрали одежду и выставили на площади для поругания всяк желающим. Ещё этот бедняга, её муж… Подумать, так и он жертва их «славной отрасли»: ведь та «продукция», ставшая гробом для полутора десятков мальчишек-солдат и одного лейтенантика, должно быть, счастливого мужа и к тому грядущего отца, тот лёгкий, могучий, быстрый, бронированный дом на колёсах, что зовётся у нас ворчливо-ласково «бэтээр» и становится, похоже, привычным для всех «транспортным средством», – эта стальная коробочка обладает одним маленьким секретом: когда ей случается упасть в воду, она мгновенно тонет, не оставляя ни малейшей надежды на спасение содержимого, то бишь «личного состава», а если на касталийском языке – «человеческого фактора». Конечно, и мост повёл себя предательским образом – обрушиться в такой ответственный момент, в самый разгар боевых учений! Но, с другой стороны, всегда ведь и планируется «определённый процент», если так можно выразиться, «учебных потерь», которыми помимо сотен «рублёвых» миллиардов оплачивается наша «боевая мощь». Посмотреть с этой – прагматической стороны, то ведь кто-то ж должен был «закрыть» собой эти «генеральские проценты»! План – он на то и план, чтоб его выполнять. Бедной девочке просто не повезло. И не ей одной.
Вот так, подумал Альберт Васильевич, военные игры взрослых невежд (вероятно, общее состояние духа побудило его причислить к этим последним и себя самого) оборачиваются войной против собственных детей. Против народа. Он почувствовал, как непроизвольно сжимаются зубы – это был признак уж никуда негодный, свидетельствующий о пределе нервозности – при его-то всегдашнем конформистском благодушии.
В дверь опять постучали. Альберт Васильевич даже вздрогнул, потому что всё ещё стоял над этой никчёмной коробкой, брошенной у порога молодым носильщиком, и едва не додумался до того, что если суждено ему родить ребёнка, то уж он постарается спланировать так (насчёт планирования подобного где-то читалось им), чтоб непременно была девочка. Как ни воинственны были амазонки, а всё же матриархат, по всему, более гуманен, чем господство самцов, а у нас, добавил он мысленно, – и вовсе трутней (и опять в эту недостойную категорию включил себя).
Лыков открыл дверь – перед ним была вчерашняя молодая администраторша. Он успел забыть о ней, поэтому само её появление откликнулось досадой, видимо, отразившейся на его лице: гостья потухла, смущённо-радостное «доброе утро», которым она возвестила о своей готовности к адюльтеру, кануло в его ответном вязком молчании, порождённом внезапной мыслью об избавительном свойстве этого «второго пришествия». Сама судьба посылала ему профессионалку-утешительницу, вероятно, немало искушённую в любовной игре, которая одна сейчас могла отвлечь от разрушительного поэтического настроя, помочь преодолеть этот доподлинно овладевший им синдром лишения. Лыков не был бы Лыковым, если б не знал, как легко смываются душевные порывы таким вот «странствием по телам», подчас сопровождаемым удивительными открытиями, ибо по самой своей сути женская любовь-отдача, любовь-дарение романтична всегда и без исключения, и, отмыкая тело, просто не можешь не отомкнуть душу. Он готов был поклясться, что даже проститутка, если мужчина не отвратителен ей, успевает привязаться к своему клиенту всего лишь за один «сеанс» и потому никогда вообще не испытывает стыда за свою профессию. Разве любовь позорна? Только мужская брутальность, умноженная христианской догмой, а пуще невежеством, в «отдельно взятых» временах и странах возводит понятие «блуда» в кодексы официозной морали. Альберт Васильевич отступил назад и жестом пригласил женщину войти. А когда она шагнула через порог, он притворил дверь и обнял её, преодолевая едва заметное, скорей всего, инстинктивное сопротивление, и поцеловал долгим и нежным поцелуем, ощутив, как обмякает она, покоряясь, и как плавится помада на разгорающихся губках маленького жадного рта. Он был по-настоящему благодарен ей! «Как тебя зовут?» – спросил шёпотом, скользнув губами через персиковую мякоть щеки к золотистому локону, закрывающему ушко. Она ответила. Только он не расслышал, потому что шёпот её отлетел куда-то за спину, в глубь коридора, и там рассеялся, по малости звука даже не отозвавшись эхом. Да и какая разница! Ничего кроме нежности, которой так много было накоплено прошедшей ночью и так много осталось ещё в его душе, он теперь не чувствовал и лишь не препятствовал ей изливаться на эту случайно попавшую в его силки голодную птичку градом быстрых, сплошь покрывших её лицо и руки поцелуев и без тени смущения пробившихся к цели через платяные покровы самостийных ласк. Для женщины ведь это тоже близость. А большего он дать и не мог ей. Понял, что если сегодня же не найдёт приворожившую его необъяснимо беглянку Альфию, то может по-настоящему заболеть от тоски. Почувствовал – сквозь тело, теперь им сжимаемое в объятиях, прошёл электрический разряд, женщина отняла лицо и судорожно прижала к его груди, на секунду окаменев от настигшего её вожделенного удара. Через некоторое время он мягко отстранил её от себя, держа за плечи, и, когда, наконец, выйдя из забытья, она снова подняла к нему лицо и молча, глаза в глаза, они расставили по местам всё, о чём лучше не говорить, а просто передавать чувством на расстоянии, – тогда он всё-таки сказал, как бы итожа на данный момент их мотыльковый роман: «Не сейчас». Альберт Васильевич всегда был предусмотрителен, ему вовсе не улыбалось погибнуть под обломками рухнувшей «большой любви» и, коли уж не удастся спасти её, то по крайней мере самому уцелеть будет значительно легче, если выставить рядом с собой такую вот маленькую, но, похоже, довольно милую подпорку. Он подумал, что вся его жизнь держалась до сих пор на чём-то похожем: в противоположность многим он находил в мимолётных связях бездну романтики, и самую чистую радость, и настоящую печаль. Каждое новое знакомство сулило увлекательное путешествие в глубь неведомого континента, но, как всякое путешествие, всегда им ограничивалось во времени: жить всегда было удобнее дома, с мамой. В сущности, женские тела его интересовали мало. Опытный мужчина хорошо знает, что с некоторых пор всё начинает повторяться и только распадается на классы, в один из которых легко поместить каждую новую представительницу женского естества как совокупность определённых анатомических свойств и умения загораться страстью. Здесь, разумеется, может что-то нравиться или наоборот, могут быть даже свои приоритеты, но! – говорил Альберт Васильевич, паче чаяния доводилось развивать ему сексуальную тему в кружке друзей, – «Но скушно, господа!» и всегда он имел в виду сказать при этом, что скучна сама тема, если в отрыве от души. Женская душа – вот неисчерпаемый кладезь тайн! Даже Фрейд, сей безудержный фантазёр пола, признавался, что ничего не знает о женщинах.









































