Текст книги "Проселок"
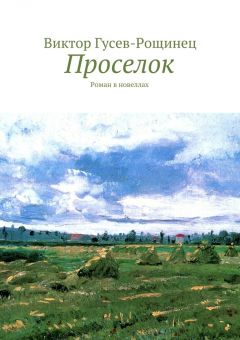
Автор книги: Виктор Гусев-Рощинец
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Подумал, не выпить ли стопочку перед обедом – да с устатку – «молдавского», и не выпил. А почему – и сам не знал. Наслаждался горячим перченым варевом, крепким чаем, и даже прилёг в спальне прямо поверх постельного покрывала, только выпростав из-под него пухлую, пенно взбитую подушку. Погрузился затылком в её свежую белизну и задремал. И наверно во сне уже подумал: жизнь прекрасна, несмотря ни на что.
Будущий «автогигант» встретил Альберта Васильевича слабым шевелением отдельных членов, растущих неравномерно, вразнобой и в условиях полуголодных, – отчего произвёл впечатление угнетающее, какое мог бы произвести слабоумный ребёнок на кресле-каталке. Директор, напротив, показался человеком весёлым, общительным, то, что называют лёгкого нрава и, вероятно, ввиду перманентности развала в своём хозяйстве воспринимал его философически и даже с юмором. Почтения к «штабу отрасли», как видно, не испытывал и спросил прямо на пороге: «Чего приехал?» (Секретарша доложила: из министерства.) Не успевши и рта раскрыть, Лыков смутился от такой невежливости, но добродушная улыбка на лице хозяина кабинета, человека уже немолодого, наверняка битого, перемятого в ржавых шестернях социалистической индустрии, заставила отбросить притворство (даже с каким-то болезненным удовлетворением отодрать от лица привычную «хорошую мину») и ответить столь же искренне: «Да так просто, посмотреть». Несколько позже, после того как директор не удержался-таки и поведал печальную историю-«елазиаду», oн добавил, что «кстати хотел бы ознакомиться с ходом выполнения триста пятнадцатого приказа и побеседовать с трудовиками». Ради бога, сказал директор. Он вышел из-за стола проводить гостя и уже у самой двери, будто спохватившись о главном деле, сказал с хитроватой весёлостью: «Мы тут, понимаете, ширпотреб наладили, детские коляски, неплохо выходит, кажется, советую посмотреть. Лучший цех!» Лыков заверил, что непременно посмотрит, они горячо пожали друг другу руки и на том расстались. Рукопожатие и улыбки сопровождены были – директор даже вышел в приёмную – коротким указанием миловидной секретарше «сделать всё, о чём попросит Альберт Васильевич, наш высокий гость». Юмор был не чужд, видимо, и юной директорской помощнице: когда начальник её скрылся в кабинете, она спросила растерявшегося Альберта: «Вы какой цвет предпочитаете – красный, синий, зелёный?» «А причём здесь?..». начал было тот и быстро – однако с опозданием, свидетельствующим о некоторой неповоротливости ума, догадавшись: речь о тех же колясках, – поторопился затушевать ненаходчивоеть грубоватой шуткой в том духе, что детей у него пока не предвиделось, но если очаровательная… тут он нарочито запнулся, ожидая подсказки, и, разумеется, немедленно получил её… очаровательная Людмилочка на этом настаивает, то он готов, и так далее, девушка была не из робких, договорились: он позвонит ей в конце рабочего дня. А коляска? Лыков сказал – синий, только она же громоздкая, как везти-то? На что получил разъяснение: в гостевом варианте легко разбирается и компактно укладывается в небольшой картонной коробке и даже с лямочками – наподобие пылесоса. Не из жадности, а просто так уж повелось теперь, чтоб не обидеть, Лыков никогда не отказывался от подарков, которые непринуждённо, а иногда и с настойчивостью преподносили им, касталийцам, подчинённые «производственники». Моральность, почти законность новоявленного обычая, пронизавшего «управленческие структуры» сверху донизу, ни у кого не вызывала сомнений, и даже слово такое – «взятка» – не содержалось в «касталийском» словаре, зато существовала определённая такса, о которой знали только, что она существует, но какова – об этом лишь можно было догадываться. Никто бы, например, не отважился перечислить дары, преподнесенные здесь же, на «Елазе», ответственным лицам «из комиссии», чтобы закрыть дело о пожаре в столярке, вкупе с «материальными ценностями» поглотившем три молодые жизни. Не коляски же, понятно. Альберт Васильевич даже засмеялся вслух, когда представил себе мамины округлившиеся глаза при виде такого подарка. Не захватить ли и Людмилочку с собой, подумал, уж больно хороша и, кажется, непрочь. И ещё, в который раз, подтвердил для себя: богата русская глубинка женской неистощимой красотой! Хотя тут же и поправился: «глубинка» -то была татарская, а посему подлежала более пристальному анализу. Вспомнил администраторшу в гостинице – чёрную бровь, горячий глаз, – и оказался будто бы на распутье. Вот так и всегда: только стукнется в сердце нечто настоящее, глядь, и с другой стороны стучат, и с третьей, и каждый по-особому стучит, со своим секретом, как не открыть, не пустить на часок хотя бы, не обидеть… Друзьям говорил не раз: каждую женщину, которую посылала ему судьба, он хоть немножечко, да любил. Может, и не женился поэтому до сих пор. О чём думал с годами всё более ностальгически, как о покинутой давно родной стороне, отдаляющейся неуклонно и без надежды на возвращение. Этакое типичное для старого холостяка переживание своего одиночества, однако не без приятности.
И только выйдя за проходную и оказавшись на главной елабужской улице, когда ход его мыслей переменился и стал опять на колею «туристическую», Альберт Васильевич подумал с сожалением, что вместо глупых шуток лучше порасспросил бы девушку, где искать и как пройти к тому дому и на кладбище, а теперь надо спрашивать, да некого, улица пуста, как вымерла, и, пожалуй, одно не вызывает сомнений – двигаться прочь из этих «новых», но таких безжизненных кварталов, туда, где лес и холмы над крышами деревенских домиков, там же, видимо, и река, и, если повезёт, хорошо бы найти то место, где Шишкин писал свою несравненную «Каму в окрестностях Елабуги», мирно дремлющую теперь в новгородской картинной галерее. Лыков, может, и не обладал высокоразвитым художественным вкусом, но чувства красоты ему было не занимать и той хорошей наивности, которая помогает искусству периодически возвращаться на круги своя, впадая в примитивизм. И он зашагал под сенью лип, высматривая в палисадничках живые души, могущие, по его мнению, помочь подсказкой в деле поисков, но, видно, все в этот послеобеденный час были заняты внутренними делами, никто не копался на грядках, не чинил, не строил и даже не сидел на лавочках под резными окошками. Несколько раз он сворачивал в боковые улочки и переулки, пока ни закружился окончательно. Два прохожих юнца, встреченные на каком-то по счёту перекрёстке, только недоумённо поморгали в ответ и, смутившись от своего незнания (или это ему только показалось?) поспешили ретироваться. Наконец он увидел то, чего искал: от крыльца почерневшей, но крепко стоящей, будто вросшей в землю избы шла с ведром к калитке старуха интеллигентного вида, почему-то сразу показавшаяся Лыкову (так он подумал) хранительницей старины, о чём, в сущности, мог бы свидетельствовать лишь её, без сомнения, старомодный наряд – этакий халат-пальто-шлафрок – и папироса, вероятно, погасшая, потому что, совершив светлячком подлёт к лицу женщины, заставила её остановиться, придирчиво осмотреть себя и проворчать нечто вроде упрёка – однако, довольно сдержанного – в адрес божественных, а может дьявольских сил. Альберт Васильевич замедлил шаг, подгадывая момент выхода на сцену исторического персонажа к своему собственному появлению у той же кулисы-калитки, чтобы в нескольких энергичных репликах провести рекогносцировку. И не ошибся. Точнее, ошибся только в одном – первой заговорила она, оказавшись притом отнюдь не старухой, а что чаще именуют «пожилая дама», но состаренная сверх возраста худобой своей и тёмным цветом кожи, приобретшей от табака ещё и сероватый, истинно пеплом обернувшийся налётец. Водяная колонка расположилась по другую сторону улицы, чего Лыков не заметил сразу, а теперь положил целью их общего дальнейшего движения; между тем, едва ступив за калитку, женщина остановилась и, скользнув глазами по лыковской столичной одёжке, сказала – будто и ждала только появления гостя: «Здравствуй, мил человек!» Альберт Васильевич немного опешил от неожиданности и не успел ответить, как она продолжила: «Вижу, в поисках ты. Иди прямо, дойдёшь до рынка, повернёшь налево, той дорогой, что приехал сюда. Кончатся дома, и сразу тропинка будет на горку, вон ту, с оградкой, видишь? Это и есть кладбище. А кроме него тут ещё два, так то не те. А там прямо у входа камень. Настоящего-то места никто не знает». Женщина показала на одну из трёх самых заметных возвышенностей не более чем в километре от места, где они стояли, и только теперь Лыков» разглядел тёмную полоску кладбищенской ограды, отделившей сосновую красноствольную макушку холма от выбритого гладко светло-зелёного затылка-ската. Он хотел было спросить – как это уважаемая угадала нужду его, но когда обернулся, отведя наконец взгляд от материализовавшейся цели паломничества, женщина была уже далеко, а ударившая в ведёрное дно тугая струя и вовсе сделала невозможным продолжение разговора. Лыков крикнул «Спасибо!» и пошёл своей дорогой. Да что, собственно, спрашивать? Будто и так не ясно: умение читать мысли других столь же обыкновенно, как и внушать кому ни то свои собственные. Конечно, здесь, в этом медвежьем углу, подумал он, следует быть готовым к любой неожиданности, но если вспомнить, что во время войны тут был один из самых обширных районов эвакуации, то не исключено, что некоторые беженцы могли остаться навсегда и дать новые побеги на местных родовых стволах. А повстречавшаяся так удачно старуха, бесспорно, выпестована московской коммуналкой и, как ни мял её колодезно-печной быт, не смог отлепить от подкрашенных губ беломороканальской папироски. Если бы та, другая, продержалась ещё немного, и – чем не шутит чёрт! – задержалась тут, – она бы стала таким же высохшим, почерневшим огарком, и что бы случилось тогда с волшебным древом её поэзии? «Волшебное древо» – даже и выговоренное про себя – заставило Альберта Васильевича поморщиться, но мысль сама по себе, поторопившаяся облачиться скоро в более нетривиальную форму, ему понравилась: к творчеству и к смерти подталкивает одно и то же, именно – страдание, и только сила его решает в противоборстве двух человеческих инстинктов – инстинкта культуры и инстинкта смерти; сила одного и сила другого странным образом связаны в душе человека законом пропорциональности: сильнее один – значит сильнее другой; право, сильные души – творцы и самоубийцы; слабые становятся вот такими огарками, влачащими растительное существование. В этом месте Лыков притормозил полёт теоретической мысли и укорил себя за несправедливость к той неведомой ему судьбе, которая пересеклась с его собственной несколько тому назад и с такой лёгкостью прочитала тайные знаки устремлённости её. Он посмотрел на часы – прошло, верно, немногим более десяти минут, а встреча та уже казалась невообразимо далёкой и вообще какой-то нереальной, будто воспоминание о давнем сне или о чём-то таком, чего и вовсе не было и быть не могло. Но тогда откуда же известен ему тот видимый отовсюду взгорок с оградой, подпоясавшей сосновую рощу, и откуда знать о кладбище в ней, и что оно – одно из трёх и то самое, которое нужно ему? И как он вышел к этому рынку? Лыков побродил немного меж унылых, полупустых в этот час рядов, купил цветы, осмотрел хозяйственный – тут же на базарной площади – магазин и, ничего не найдя в нём для себя интересного, вышел на тракт. Теперь он узнал его – оставалось пройти каких-нибудь пятьсот метров; дома обрываются разом – в поля, в леса, никаких тебе пригородов, дорога побежит в Набережные Челны, а он поднимется по той намеченной стежком тропе к кладбищенской калитке и, если верить старой вещунье, будет у цели.
Ещё издали он заметил по ту сторону входа слабое шевеление, а когда приблизился и заглянул внутрь, то увидел группку школьников четвёртого (пятого? – он всегда затруднялся в таких оценках) класса, которым сопровождавшая их, по-видимому, учительница читала знакомые стихи. Чтобы не скрипнуть ржавыми петлями, Лыков бочком протиснулся в щель, образованную бетонным столбом и железной створкой, и замер в неподвижности, спрятав за спину неуместно яркие, вдруг показалось ему, тюльпаны. Так оно всё и было, как ему говорили. По незнанию подлинного места камень водрузили у входа; кому-то пришло на ум выкрасить его зеленым, отчего создавалось впечатление замшелости, болотности и вообще некаменности, а надпись была стыдливо суха, как бывает, когда, выполнив докучливый долг, торопливо, без сердца, выбивают на могильной плите короткую биографическую справку: имя, срок на земле. Еще массивные цепи, провисшие на низеньких опорах, очерчивали площадку полтора на полтора метра, где чьей-то заботливой рукой поддерживался в идеальном порядке маленький цветник. Явление Лыкова возымело на детские души большее впечатление, нежели читаемые стихи, все повернули головы в его сторону, а учителка (так он мысленно уже называл ее) замолчала в ожидании, пока детское любопытство будет удовлетворено и станет возможным продолжать рассказ; а что до нового слушателя, то ведь и ему, верно, интересно будет послушать, а тем более – стихи и в столь необычном исполнении; хорошего учителя не смутишь посторонним присутствием на уроке, а то, что она – хороший учитель, и урок тоже неплох, Альберт Васильевич понял сразу и бесповоротно. Зато сам он смутился и сделал несколько извинительных жестов свободной рукой, настойчиво давая понять детям – слушайте, а ей – продолжайте. И она снова заговорила, мальчики и девочки нехотя отвернули от него недоуменные лица и стали внимать (очень музыкальному, заключил Альберт Васильевич) голосу, теперь уже ведущему прозаический рассказ о «жизни и творчестве». И смерти. И снова были стихи – не очень-то, подумал он, понятные детям, но по тому, как они слушали, было видно: что-то проникает в каждого, минуя рассудок, – конечно же, музыка, но еще и нечто не поддающееся определению, приводящее в движение какие-то глубинные структуры, праязык (несостоявшийся учёный, Лыков, однако, по привычке к умственным усилиям читал теперь философские трактаты и, возможно, оттого не становился хорошим поэтом, что непозволительно много знал о Витгенштейне, Барте и Мишеле Фуко), и целые горы сдвигаются в их бессознательном восприятии, куда ещё только подступилась робко археология гуманитарных наук. Поучительное зрелище, подумал он: дети, внимающие гениальному. И снова патетика, с которой вкупе явилась эта, признанная тотчас им тривиальной мысль, заставила его внутренне встряхнуться. Право, стоило обратиться вовне: девушка была безусловно красива – не кукольной, но одухотворённой красотой, которая видна особенно в человеке, когда тот в движении, в говорении – когда глаза встречаются, улыбка освещает лицо, а рука прикасается будто случайно к вашему рукаву, придавая волнующую доверительность даже самым невинным речам. Возраст? Как и в детях, Лыков с трудом угадывал его в женщинах, впрочем, не по неопытности, а, напротив, зная: легко ошибиться и причин к тому несть числа. Он сказал бы – с осторожностью: двадцать пять; но за этим могли скрываться и двадцать три, и двадцать восемь; если б то не Елабуга, где женщины, подумал он, не озабочены сильно камуфляжем, сей примерный диапазон и ещё бы следовало расширить. Во всяком случае, косметика на её лице была незаметна, если не считать тёплого блеска гигиенической помады на очерченных выразительно губах. Пожалуй, та, что ждёт сегодня его звонка, накрашена искуснее, но какова разница! – будто ставишь рядом ботичеллевскую мадонну и красотку с обложки журнала мод. Сдаётся ему, что напрасно (Лыков посмотрел на часы) она с нетерпением взглядывает сейчас на молчащий телефон и, верно, торопит его с вестью о загаданной встрече. Ему стало грустно: он не любил обманывать женщин. И та, другая, за конторкой гостиничного администратора, сию ж минуту лишилась надежды, сама не зная о том, провести часок в обществе красавца-клиента с риском для репутации своей, но несомненно с гарантией приятных впечатлений. И вот так всегда! Один из его удалых друзей в таких случаях говорит: косяк пошёл; Альберт Васильевич однако же не был циником; ощущая, как пробивается в груди росток нового чувства (любовь с первого взгляда – вот что было всегда его мечтой), он старательно обдумывал в то же время, как будет извиняться завтра перед введенной в искушение девочкой-секретаршей и как локализует «хозяйку гостиницы»; последнее представлялось, правда, весьма расплывчато ввиду неопределённости новых открывающихся перспектив и общего направления. Лыков никогда не шёл к цели, сметая всё на своём пути; он, скорее, позволял себе плыть по течению в прихотливой игре обстоятельств, справедливо полагая, что все реки впадают в единый мировой океан, и каждому чувству суждено умереть в нём, растворившись до концентрации столь слабой, что даже при большом желании уловить следы некогда мощного потока ничего, кроме незамутнённой штилевой глади вокруг, обнаружить не удаётся. К сожалению, опыт не прибавляет нам оптимизма; Альберт Васильевич колебался меж двух воззрений касательно своего холостяцкого положения и способов с ним покончить: жениться по любви или же по расчёту; истинно мужская дилемма, странным образом преследующая лишь невлюблённых и тотчас испаряющаяся при первом учащённом сердцебиении. Беда в том, что сердце с возрастом, должно быть, ослабевает и всё реже заходится при столкновении с красотой, а всё чаще при перемене погоды. С другой стороны, сколько ни рассчитывал Альберт Васильевич, прикидывал так и эдак, и даже с компьютером, всякий раз выходные данные были огорчительны – попросту говоря, не было никакого расчёта жениться при наличии такой мамы, как его, окружавшей единственного сына столь полной заботой, что ни одна женщина в мире не могла бы сравниться с ней. И всё же именно серьёзность установки заключала каждую новую встречу в романтический ореол, оживляла при том надежду на подлинно глубокое чувство и вселяла уверенность: браки совершаются на небесах. Скептически настроенный друг, предпочитавший рыболовные термины, пытался убеждать его, что брак – всего лишь контракт, оформляемый для рождения и воспитания (он говорил – выращивания) детей, и не имеет отношения к чувствам, а тем более к экзистенциальным категориям типа счастье, или страдание, или страх; он демонстрировал это на примере собственного вполне благополучного брака, разбавляемого мимолётными связями, и склонялся к мнению, что мужской природе – по преимуществу (куда же деть однолюбов?) – более всего отвечает брак полигамный; но и добавлял, что видит невозможность его в наших условиях по причинам сугубо материальным: не прокормишь.
Одним словом, Альберт Васильевич уже различал явственно первые могучие аккорды, нечто вроде тех, кладущих начало известнейшему концерту Чайковского, и уже начинала за ними разворачиваться чудесная мелодия простора и глубины, и бесконечности, и не менее прекрасные, столь же музыкальные строфы ложились на этот фон длинными мазками волнующих смыслов, заставляя ещё сильнее трепетать душу и биться сердце. В такие минуты, понятно, утрачиваются способности к обобщениям и логическому анализу, но если бы нашёлся некий сторонний наблюдатель, он без колебаний сказал бы: да, это есть то, что называется любовью с первого взгляда. И когда героиня сего мгновенно сочинившегося романа прошествовала к выходу, увлекая за собой притихший дитячий выводок, и на секунду задержалась прямо перед ним, забывшим, что надо посторониться, и вонзила слегка насмешливый взгляд – глаза в глаза, – вобрала его собственный, исполненный восхищения и робкой решительности, в свою зеленовато-голубую искрящуюся глубину, – тогда Лыков отступил на шаг и жестом преданнейшего пажа правой рукой увеличил насколько смог распах железно взвизгнувшей двери, а левую, с цветами, прижал к груди и слегка поклонился, почти незаметно, во всяком случае, почтительно опустил глаза. Он мог бы поклясться, что где-то уже встречал эту женщину, может быть даже говорил с ней, что происходящее сейчас, в эти минуты, с ним происходило когда-то, но где и когда? – этого он не знал. Известное, в общем-то, наверно всем состояние, – Бергсон называет его «воспоминание настоящего»; овладевая нами неожиданно и столь же быстро улетучиваясь, оно оставляет после себя привкус печали – впрочем, такой же светлой, как печаль от музыки, таинственно зазвучавшей в лесу, или стихов с отметиной гениальности. А ведь тут сложилось всё: и музыка внутри него, и стихи, и то странное состояние повторности мгновения, будто перечувствованного в какой-то прошлой жизни; и всё это, сложившись, не то чтобы потрясло Альберта Лыкова, но будто подняло занавес, отделяющий тусклую обыденность с её жалкими атрибутами разнообразия, укоренёнными в чувственной ткани жизни, от бескрайних владений духа. Когда они вышли, он положил цветы к основанию камня, ещё раз перечитал надпись на нём (отставший мальчуган задержался у выхода и спросил: «Она ваша родственница?» Лыков усмехнулся и сказал: «Конечно». ) и тут уже по-настоящему поклонился, а дождавшись удаления детской разноголосицы, ещё и перекрестился зачем-то, хотя не был верующим. Вышло это само собой, но, случившись, потребовало объяснения или, точнее сказать, оправдания, которое со свойственной ему находчивостью Альберт Васильевич положил в том, что сей архетипический жест символизирует не столько бога, сколь соприкосновение с высшей реальностью духа, с неким абсолютом, заключающим в себе и творчество гения, и веру в бессмертие души, и уж непременно и в первую очередь любовь! Возможно, строгий теоретик счёл бы лыковскую доморощенную философию смешной, однако будем справедливы: что-то в ней есть чрезвычайно привлекательное. Любовь как побуд к культуре – это ли не великое открытие в эпоху, когда все кому не лень кладут в основу мира не дух, а материю. «Немного воображения, господа!» – часто восклицал Альберт Васильевич в кругу друзей, хвастающих своими унылыми победами, невесёлыми приключениями и путешествиями в ночи. «Почитаем-ка лучше стихи!» и начинал что-нибудь из своего – далёкого, понятно, от совершенства, но в его собственном исполнении, на слух уловленного, напитанного искренностью высокого чувства, – приближавшегося, признавали единодушно, «к лучшим мировым образцам».
Огромный зелёный камень над несуществующим гробом (всё-таки сбежала, ускользнула от гнёта – в сосны, в траву, в непридавленность) уже не казался мрачным; луч солнца позолотил надпись; Лыков охватил ещё раз глазами – запечатлеть – святое место, повернулся и вышел, затворив за собой на этот раз вежливо промолчавшую кладбищенскую воротину. И удивился: как далеко успели уже уйти. Дети стайкой вились впереди; молодая учительница шла медленно, опустив голову, как и положено идти с похорон; ему ничего не стоило их догнать, чуть ускорив шаги, но та сила, источник которой открылся так неожиданно несколько минут назад, погнала с горы неуклюжим бегом, состоящим из каких-то диких прыжков, беспорядочного размахивания руками и гулкого топота, что вполне мог быть сочтён предвестником грозной стихии (в сущности – так оно и было), наподобие камнепада или снежной лавины. Альберт Васильевич, однако, опережал издаваемый своим движением звук, ему казалось, он легко парит над зелёным склоном, а когда оставалось до цели несколько метров, резко затормозил – врезался каблуками, взрыл убитую до белизны тропу и, всё ещё боясь поравняться, пошёл позади крадущейся поступью. Тропинка, напоследок провалившись в заросший кустарником и травой кювет, взлетела к асфальту, резко сократившему угол спуска и сделавшему дальнейший путь удобным, по мнению Лыкова, «для первого знакомства»; он два раза шагнул широко вперёд, и плечо девушки оказалось рядом, почти на одном уровне с его плечом, – она была высока ростом и держалась прямо, поразив его в этом новом ракурсе гордой посадкой головы: скользнула искоса взглядом, и получилось, будто смерила – сверху вниз, и, молчащая, с не скрываемой теперь улыбкой, продолжала идти, согласуя шаг с его, неровным от предыдущего волнения шагом. Не собравшись мыслями за время погони, Лыков никак не мог найти первого слова, пауза всё более становилась неловкой, и только после того, как она ещё раз – ободряюще – посмотрела на него («Ну же!»), он сказал нечто незначащее и почувствовал – голос не слушается, садясь и впадая в хрипоту. Но это уже было не так важно: сигнал боевой трубы не обязан прикидываться музыкой – он исполнен другого смысла, жизнь и смерть сливаются в нём в единое целое. Задумывался ли кто-нибудь, какой скачок совершается в мире, когда двое не знакомых до того людей заговаривают друг с другом? Альберт Лыков думал над сей великой проблемой и даже произвёл необходимые расчёты, пользуясь, как и всякий порядочный касталиец, ненормируемостью своего рабочего дня и находящейся в его распоряжении вычислительной техникой. По выполнении чего пришёл к выводу: энтропия Вселенной уменьшается при каждом такого рода «вербальном скачке» на десять в минус тридцать четвёртой степени процента. Результаты исследования Альберт Васильевич опубликовал в касталийском сборнике трудов, посвящённом «человеческому фактору». (Научная общественность от этого не всколыхнулась, но сам Лыков был чрезвычайно ободрён итогом своей работы и далее – без огласки – подсчитал, насколько же он лично уменьшил оную энтропию за время пребывания в этом лучшем из миров. Получилась довольно внушительная цифра.)
Итак, в человечьем косном конгломерате забил новый родник, наполняя «чашу любви», из которой, жаждали испить две случайно встретившиеся у гробового входа младые жизни. О нём уже сказано достаточно. Что до неё, то сообщим только ею самой положенное необходимым сообщить своему визави и, в свою очередь, им выясненное посредством всяческих – в рамках приличия – вопросов; а ввиду прямо-таки осязаемой тайны, которой окутана всегда красивая женщина, много добиться не удалось. Имя, пожалуй, здесь было главным: имя – это душа человека, – гласит один из древнейших магических постулатов. Лыков даже повторил его вслух и потом несколько раз ещё про себя: Альфия. С ударением на последнем слоге. И по слогам: Аль-фи-я. Странно, подумал он, в её лице ничего восточного. Разве что глаза-миндалины, но ведь и в них вместо сгущенного до черноты азиатского солнца – голубовато-зеленая средиземноморская гладь. Что? Окончила Казанский педагогический институт, преподает русский и литературу. Да, родилась и выросла здесь, в Елабуге. Нет, живет у родителей. Нет. Это последнее «нет» Лыков получил в ответ на вопрос, который должен быть расценен, разумеется, как нескромный («Вы замужем?») или, по меньшей мере, преждевременный – не прошло и десяти минут после начала атаки, – но бывают случаи, когда скорости сближения столь высоки, а само оно столь желанно обоим, что ни один вопрос не кажется лишним, если он помогает устранению каких-то препятствий. Границы взаимопонимания при том диктуются отнюдь не приличиями – они естественны и воздвигнуты на краю слов, у входа в усыпальницу сокровенного – там, где царит безмолвие. Приходит время – раньше или позже – и оба, взявшись за руки, начинают спускаться туда – молча, или один другого подбадривая признаниями, или барахтаясь в невнятице междометий, и тогда во тьме вдруг начинает что-то светиться, а бывает – и разгорается по-настоящему; но огонь сей непорочен, и душа чужая, подразнив отраженным светом, опять уходит в потемки.
После того как заявлены позиции на анкетном поле, лучше всего начинать игру с маневрирования легкими фигурами: известно, что самый короткий путь к цели – отнюдь не самый прямой. Да и цель в данном конкретном случае виделась Лыкову отличной от тех привычных маленьких целей, которыми питалось его повседневное общение с роем министерских сотрудниц, представительниц сферы услуг и случайно залетающих на огонек мотыльков из мира богемы. К слову сказать, и то прелестное создание из директорской приемной, и снедаемая чувственной тоской «хозяйка гостиницы» совсем даже не исчезли с горизонта, оттого что над ними вознеслась подобно снежной вершине новая большая цель; как истинный охотник, Альберт Васильевич умел держать в поле зрения – и делал это по чистой привычке – сразу все достойные того объекты; и теперь, впрочем, не отдавая себе отчёта, склонен был двигаться к дальней вершине как бы посредством покорения высот промежуточных, где, по всей вероятности, постарался бы закрепиться (создать «базовый лагерь», говорят восходители). Каждый национальный язык, утверждает лингвистика, дробит мир по-своему, тем и создавая, и основополагая оригинальную культуру; справедливость этого утверждения с неменьшей наглядностью представляют языки индивидуальные: там, где вполне могла бы примениться упомянутая терминология рыболова, Альберт Лыков предпочитал возвышенный стиль покорителя гор. А уж если захотелось поёрничать, то никого не оскорбит напоминание строчек безвременно ушедшего поэта: что лучше гор есть только горы, и так далее. Право, Альберт Васильевич был настоящим интеллигентом.
Детская группка ещё дальше ушла вперёд, тактично давая понять, что дела взрослых – такие понятные, разумеется – её не интересуют, и только на перекрёстках иногда замирала, вопросительно поглядывая назад двумя десятками глаз, на что Альфия отвечала царственно-плавным взмахом руки: вперёд, направо, налево. Быстро выев сердцевину неопределённости, разговор перекинулся на судьбу, с которой так решительно и бесповоротно распорядился этот захолустный городок, создав себе мировую, день ото дня возрастающую славу тем, что не приютил живую душу, но принял в землю свою исстрадавшееся тело. Лыков ничего не видел вокруг – ни улиц, ни домов, ни деревьев – только разбитый тротуар под ногами, чтоб не споткнуться, и её – Альфию, и только слышал её рассказ. Он не знал всех подробностей скорбного конца и теперь впивал их с напряжённым вниманием, подогретым общей восторженностью от того, что она шла рядом, от восхитительной музыки её голоса, от стихов, которые они вместе вспоминали, помогая друг другу и даже прочитывая кое-что дуэтом, как бы создавая мимоходом новый жанр, ничем, решили, не уступающий пению. Кому случалось отыскать родственную душу в прекрасной оболочке телесного, легко воскресит в памяти тот особый род тихого экстаза, будто приподнимающего и окрашивающего мир в солнечные тона. С каждой новой протекшей минутой Альберт Васильевич всё более укреплялся в сознании: его собственная судьба оказалась в каком-то мистическом скрещении с судьбами Высокого Искусства и Мировой Любви. Не то чтобы он мог сейчас размышлять об этом, оперируя столь отвлечёнными категориями; он это чувствовал (ничуть не менее плодотворный способ философствования!), а говоря более определённо, всем своим поведением демонстрировал готовность рабски следовать за этой женщиной, куда бы она ни направилась в следующую секунду, на что бы ни обратила своё внимание, какую бы прихоть ни выставила для того чтобы испытать его силу, мужество или способность к самопожертвованию. Они шли теперь к тому дому, где… О, ирония злых богов! На улице Жданова – он не ослышался?! Именно так, увы. Должно быть, по случаю большой победы, одержанной в борьбе за торжество тьмы. И ведь какова экономия! Не растрачено зря ни минуты государственного времени, ни листка бумаги, ни грамма свинца. Идеально тихое убийство. Как они потирали руки на очередном торжественном заседании! – ещё бы, не каждый день залетает в силки крупная дичь. Слушали. Постановили: переименовать улицу, где стоит дом, хозяев наградить ценным подарком. В гневе Альфия была ещё прекраснее: глаза её потемнели, на скулах выступил горячий румянец, высокий чистый лоб перерезал веер сбегающих к переносице морщинок, презрительно кривились, выгибались луком губы. Повинуясь непреодолимой тяге, то ли желая успокоить, то ли просто коснуться, он дотронулся до её руки и не встретил отказа. Гневная тирада оборвалась, из разжавшихся пальцев выпал меч. То, что последовало дальше, ни тот, ни другой не смогли бы объяснить с точки зрения общепринятых норм, – оно требует перехода на другой, более глубинный уровень анализа, возможно, оперирующего понятиями бессознательного. Альберт Васильевич легонько сжал с боков крупную длиннопалую кисть и – ладонь на ладони – поднёс тыльной стороной к губам, запечатлевая, с перехваченным дыханием, с сердцем, выскакивающим из груди, долгий, исполненный горячей нежности поцелуй. И что тут такого? – спросит какой-нибудь завзятый скептик, прошедший через горнило сексуальной революции, – подумаешь, поцеловал даме ручку! Раньше это было принято повсеместно и всечасно практиковалось безо всяких на то сомнений. Но ведь – раньше, ответим мы. Анатомия любви изменилась, и не меньше, чем изменили годы лицо мира, истерзанного вашими революциями, войнами и научно-техническим так называемым прогрессом. Сей воображаемый диалог успел пронестись в уме Альберта Васильевича, пока он ощущал на губах теплоту и вдыхал аромат её молодой кожи, – возможно, потому, что в пограничных ситуациях (когда оказываешься перед лицом смерти, а равно и любви) мысль ударяет подобно молнии; но поскольку он вообще потерял совершенно чувство времени, таковое могло случиться и по причине чрезмерной длительности самого поцелуя. Альфия мягко высвободила руку, и он скорее догадался, чем увидел, что она приветственно помахала кому-то на другой стороне улицы. Лыков очнулся от своего сна наяву и, оглядевшись, с удивлением обнаружил, что любовный порыв захватил его на том месте, где совсем недавно ему указывала путь на погост демонического вида старуха с папиросой. Ба! да это она сама и стоит всё так же с ведром у водоразборной колонки, и её-то и приветствует Альфия! «Моя бабушка». Лыков галантно поклонился и получил в ответ незамысловатый иероглиф белым папиросным мундштуком в засветившемся на солнце облачке табачного дыма. Они прошли ещё немного вперёд и повернули в узенькую, заросшую травой и бурьяном улочку с пешеходной тропинкой посередине, которая вскоре привела их к овражку, наискось пересекающему два ряда глядящих друг другу в окна бревенчатых изб. По дну оврага вяло струился ручеёк; бетонный мостик захватывал тропу, выносил её на другую сторону, и там она пряталась в тени старых деревьев, обступивших полуразрушенный остов храма, даже в забросе и запустении своём поражающий подлинным величием. Лыков аж присвистнул от изумления. Теперь Альфия взяла его за локоть и повернула лицом к крайней, у оврага, трёхоконной избе: на правом венце её неуклюже лепилась мемориальная доска. «В этом доме… известная русская поэтесса..». Всё бездарно и без души. Избёнка, впрочем, была аккуратно выкрашена ядовито-салатной зеленью, под железом, того же цвета штакетник обегал по краю оврага небольшой, засаженный, видно, картофелем участок земли. Позади дома виднелись кроны яблонь, в палисаднике, перед занавешенными окнами увядал от раннего майского зноя неухоженный цветничок. Калитку, перекрывшую доступ к наглухо замкнутой веранде, увенчивала традиционная табличка с извещением о злой собаке: чтоб не совались. Ходят слухи, сказала Альфия, вроде бы и крючок тот в сенях, в потолочной балке, цел целёхонек. Да что говорить (Лыков снова оглянулся на храм) при виде поруганной красоты – если сам положил все силы и всю жизнь на её сотворение, – как не пойти и не повеситься на первом попавшемся на глаза крюку? Дети воробьями облепили заборчик – читали выбитое на мраморе. Пусть читают, кто-нибудь из них, может, поймёт со временем, какая душа отлетела тут в иной, безусловно, лучший мир, а поняв – вернётся и устроит всё вокруг с благоговением и любовью и объяснит людям, какая дорога ведёт к храму. Альберт Васильевич высказал эту пришедшую ему мысль, конечно, другими, не столь высокопарными словами, но последнее – о «дороге к храму» – произнёс именно так, невзначай припомнив недавно прошелестевшую над страной аллегорию. Альфия прошла вдоль забора, снимая с него заворожённых чем-то (не призраком ли смерти?) детей, и, собрав их снова цыплячьим выводком, отпустила по домам; они послушно побрели обратно по улице, притихшие, понурые. «Мы писали, – сказала Альфия, – что музей нужен, улицу переназвать по имени её, восстановить церковь. Ответили – средств на это хорошее дело у города не имеется. Так и живём». Они прошли по мосту и меж двух пушистых вётел, соединивших порталом седые кроны, вступили под своды вековых лип. Вороньи гнёзда, облепившие черным наростом пунктирную сеть ветвей в высоте, пульсировали от внутренней, то набухающей, то опадающей жизни, и от этого явственно ощутимого напряжения, от глухого, изредка перебиваемого истошными вскриками монотонного грая здесь царила атмосфера недавно улёгшегося побоища, сгущаемая к тому зеленоватым сумраком глубокой, недоступной солнечным лучам тени; храмовые стены зияли кроваво-красным спекшимся кирпичом в местах отвалившейся штукатурки. Лыков сложил рупором ладони и гикнул что было мочи, удачно подражая, должно быть, вороньему кличу, ибо тотчас тысяччеголовая стая снялась и рванула ввысь, наполнив округу оглушительным хлопаньем крыльев и новыми горловыми аккордами, в диссонирующем крещендо взвившимися вслед за тучей тел и быстро сникшими где-то в небе. Альфия засмеялась, по-детски зажала уши и зажмурилась, став похожа на девочку, которой довелось «водить» в игре «в прятки». Воспользовавшись моментом её обезоруженности, Альберт Васильевич обвил правой, в силе своей уверенной рукой тонкий девичий стан и мягко притянул к себе. Он уже не способен был управлять собой, ощущая только одно жгучее желание – поцеловать девушку: прижаться губами к её восхитительно свежим губкам и пить из них блаженный нектар-амброзию, пока ни перехватит дыхание и напряжённость позы не потребует новых движений. И он уже было потянулся к вожделенным вратам, однако встретил сопротивление, столь же мягкое, но непреклонное, каковым было его собственное порабощающее движение; расширенные потемневшие зрачки стали перед его лицом двумя запретительными огнями, а на грудь легли старые знакомцы-ладошки, недавно показавшиеся такими сильными, а теперь, когда он накрыл их с тыльной стороны вспотевшими от волнения пальцами, неожиданно сжавшиеся и похолодевшие. «Почему?» Традиционно глупый мужской вопрос прозвучал смешно, и она опять рассмеялась. «Не здесь». Они снова двинулись вперёд, к пролому в стене, когда-то бывшему, очевидно, главным входом, поднялись на паперть и по растрескавшимся обомшелым камням вошли в церковный придел. В отличие от сотен разрушенных церквей, сквозь которые досталось в разное время жизни пройти Лыкову с тяжёлым от тоски сердцем, эта сохранила главное – могучий фундамент, возможно, сбитый из притёсанных валунов: уложенный гранитными плитами, почти не поддавшийся короблению пол поглощал звук подобно гигантскому монолиту. Стены вздымались высоко и свободно, неся бережно сохранившиеся островки фресок и облицовочной керамической плитки, чистой голубизной входящей в соперничество с небом, открывающимся то там, то здесь в оконных проёмах и заменяющим собой снесённые купола. В боковом нефе – другой пробоине – обрисовалась полоска воды, прочерченная вдоль поросшего лесом камского левобережья. Но главное, что несомненно завладевало тут вниманием пришельца, была царившая вокруг необыкновенная чистота: будто кто-то вымел, отскоблил, отмыл каменный пол, обтёр стены мягкой тряпицей и, сам невидимый, терпеливо ждёт прихода гостей. Уцелевший Христос на купольном своде взирал по обыкновению скорбно и тихо. «Здесь молится моя бабушка», – сказала Альфия. Лыков счёл это утверждение многое объясняющим и ввиду устремлённости мыслей на другое не стал выяснять подробности сего странного на его взгляд ритуала, ответил одним только неопределённым междометием: «А-а..». – и на секунду представил себе отбивающую поклоны цыганистую старуху с папиросой в зубах.









































