Текст книги "Собор Парижской Богоматери (сборник)"
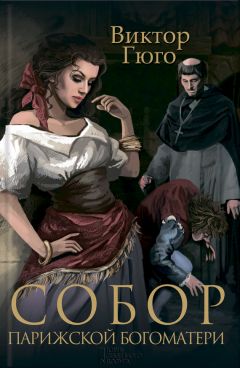
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 82 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
Жак Шармолю заговорил:
– Если угодно, господа, мы приступим к допросу козы.
Действительно, коза оказалась второй подсудимой. В те времена обвинение животного в колдовстве было делом обыкновенным. Так, в отчетах судопроизводства за 1466 год содержатся, между прочим, интересные подробности о стоимости процесса Жилье-Сулара и его свиньи, казненных за их проступки в Карбэйле. Здесь есть все: и стоимость ямы для закапывания свиньи, и пятьсот вязанок хвороста из Морсанского порта, и три пинты вина и хлеба – последний обед осужденного, который он по-братски разделил со своим палачом, – и наконец, издержки на охрану и корм свиньи в продолжение одиннадцати дней, по восьми парижских денье в день. Иногда заходили еще дальше. Так, по капитуляриям Карла Великого и [Людовика Благочестивого] налагаются ужасные кары на огненные призраки, осмеливающиеся появляться в воздухе.
Между тем прокурор духовного суда воскликнул:
– Если злой дух, который вселился в эту козу и который не поддается никаким увещеваниям, будет продолжать упорствовать в своих кознях, – если он ужаснет ими суд, то мы предупреждаем его, что мы будем вынуждены прибегнуть против него к виселице или к костру.
У Гренгуара выступил холодный пот. Шармолю взял со стола бубен цыганки и подал его особенным образом козе, спрашивая ее:
– Который час?
Коза посмотрела на него своим умным взглядом, подняла золоченое копытце и ударила семь раз. Действительно, было семь часов. Движение ужаса пробежало в толпе.
Гренгуар не выдержал.
– Она губит себя! – крикнул он. – Вы ведь видите, что она не понимает, что делает.
– Тише, вы, мужичье, там в зале! – резко приказал пристав.
При помощи такого же маневра с бубном Жак Шармолю заставил козу проделать еще несколько подобных фокусов, касавшихся дня недели, числа месяца, года и т. д., – словом, заставил козу проделать все, чему читатель уже был свидетелем. И вследствие оптического обмана, обычного при судебных разбирательствах, те же зрители, которые, может быть, не раз аплодировали на перекрестках невинным шуткам Джали, испугались их под сводами суда. Коза, без всякого сомнения, была нечистой силой.
Впечатление получилось еще более сильное, когда королевский прокурор, высыпав на пол из мешочка, висевшего у Джали на шее, содержавшиеся в нем подвижные буквы, заставил козу копытцем сложить из рассыпанной азбуки роковое имя: Феб. Колдовство, жертвой которого пал капитан, казалось неопровержимо доказанным, и в глазах всех эта прелестная плясунья, столько раз очаровывавшая прохожих своей грацией, превратилась в ужасную ведьму.
Впрочем, она не подавала никаких признаков жизни. Ни грациозные движения Джали, ни угрозы судей, ни глухие проклятия, раздававшиеся из толпы, – ничто не доходило до ее сознания.
Чтобы пробудить ее, сержанту пришлось безжалостно ее трясти, а председателю торжественно возвысить голос:
– Девушка, ты из цыганского племени, предающегося колдовству. Ты, состоя в сообщничестве с заколдованной козой, привлеченной к процессу, в ночь на двадцать девятое марта убила, заколов кинжалом, при помощи темных сил, чар и колдовства, капитана королевских стрелков Феба де Шатопера. Ты продолжаешь отрицать это?
– Какой ужас! – вскричала девушка, закрывая лицо руками. – Мой Феб!.. О! Это ад!
– Ты продолжаешь отрицать? – холодно спросил председатель.
– Да, отрицаю! – отвечала она громко и встала со сверкающими глазами.
Председатель прямо поставил вопрос:
– В таком случае как ты объяснишь обстоятельства, послужившие к твоему обвинению?
Она отвечала прерывающимся голосом:
– Я уже сказала. Я ничего не знаю. Это сделал священник – священник, которого я не знаю. Этот дьявол-священник преследует меня.
– Совершенно правильно, – сказал судья. – Это «мрачный монах».
– Сжальтесь надо мной, господа судьи! Я бедная девушка…
– Цыганка, – дополнил судья.
Мэтр Жак заговорил мягко:
– Ввиду прискорбного запирательства подсудимой я предлагаю применить пытку.
– Согласен, – ответил председатель.
Несчастная содрогнулась всем телом, однако поднялась по приказанию стражей и медленно, довольно твердою поступью, предшествуемая Шармолю и консисторскими священниками, между двумя рядами алебард, направилась к потайной двери, которая внезапно отворилась и так же быстро захлопнулась, произведя на Гренгуара впечатление ужасной пасти, поглотившей несчастную.
Когда она исчезла, послышалось жалобное блеяние – то плакала бедная коза.
Заседание было прервано. Один из советников заметил, что господа судьи устали и что слишком долго ждать окончания пытки. На это председатель ответил, что должностное лицо должно уметь приносить себя в жертву своему долгу.
– Скучная, противная девчонка, с которой приходится возиться на голодный желудок! – заключил один судья-старик.
II. Продолжение рассказа об экю, превратившемся в сухой листПоднявшись и спустившись по нескольким ступеням в коридорах, настолько темных, что и днем они освещались лампами, Эсмеральда в сопровождении своей мрачной свиты была введена судейской стражей в комнату зловещего вида. Эта круглая комната помещалась в нижнем этаже одной из толстых башен, вздымающихся еще и в наше время над зданиями, заступившими в современном Париже место старинных построек. В этом подземелье не было окон, не было никаких отверстий, кроме низкой, окованной железом двери. Темно, однако, здесь не было. В толстой стене была выложена печь, в которой пылал яркий огонь, наполнявший подземелье своим багровым отблеском и лишавший всякого значения жалкую сальную свечу, горевшую в углу. От железной решетки, закрывавшей печь, поднятой в это время над пылающим отверстием, на темной стене выступал ряд темных, острых, редких зубьев, что придавало печи вид сказочного дракона, изрыгающего пламя. При свете печи узница увидела в комнате различные ужасные орудия, назначение которых ей было непонятно. Посредине, почти на полу, находился кожаный матрац, над которым висел ремень с пряжками, прикрепленный к медному кольцу, соединенному с таким же кольцом огромных размеров, вделанным в свод потолка. Тиски, клещи, огромные полосы железа наполняли внутренность печи и накалялись, брошенные в беспорядке на горящие угли. Кровавый свет горна освещал в подземелье массу ужасных вещей.
Этот ад назывался допросной камерой.
На кровати сидел в непринужденной позе Пьера Тортерю, присяжный палач. Его прислужники, два гнома с четырехугольными лицами, в кожаных фартуках и холщовых рубахах, поворачивали железные орудия на углях.
Напрасно несчастная девушка призывала на помощь все свое мужество. Войдя в эту комнату, она ужаснулась.
Стража встала по одну сторону, священники и представители консистории – по другую. В углу, за столом, на котором стояла чернильница, сидел писец.
Мэтр Жак Шармолю подошел к цыганке с самой ласковой улыбкой.
– Ты все еще продолжаешь запираться, дитя мое?
– Да, – отвечала она уже упавшим голосом.
– В таком случае нам очень тяжело будет допрашивать тебя более настоятельно, чем мы бы того желали. Потрудись сесть на кровать. Мэтр Пьера, дайте барышне сесть и затворите дверь.
Пьера встал, ворча.
– Если запру дверь, огонь погаснет, – проворчал он.
– Ну, так не запирайте ее.
Между тем Эсмеральда продолжала стоять. Эта кожаная постель, на которой корчилось столько несчастных, приводила ее в ужас. Страх леденил ее кровь. Она стояла растерянная, ничего не понимая. По знаку Шармолю два прислужника схватили ее и посадили на постель. Они не причинили ей боли, но, когда эти мужчины дотронулись до нее, когда кожа матраца коснулась ее тела, она почувствовала, как вся кровь прилила ей к сердцу. Она окинула блуждающим взглядом комнату. Ей казалось, что все эти безобразные орудия пытки, представлявшие собой среди виденных ею когда-либо инструментов то же, что летучие мыши, сороконожки и пауки среди насекомых и птиц, двинулись к ней со всех сторон, чтобы поползти по ее телу, чтобы кусать и щипать ее.
– Где врач? – спросил Шармолю.
– Здесь, – отвечал человек в черном, которого Эсмеральда не заметила раньше. Она вздрогнула.
– В третий раз спрашиваю вас, продолжаете вы упорствовать в отрицании поступков, в которых вас обвиняют?
На этот раз она могла только кивнуть головой. У нее не было голоса…
– Вы упорствуете? – спросил Жак Шармолю. – В таком случае я, к величайшему сожалению, должен исполнить свой служебный долг.
– С чего мы начнем, господин королевский прокурор? – резко вмешался Пьера.
Шармолю с минуту поколебался с двусмысленной улыбкой поэта, подыскивающего рифму.
– С испанского «сапога», – сказал он наконец.
Несчастная почувствовала себя до такой степени покинутой Богом и людьми, что голова ее бессильно опустилась на грудь, как неодушевленный предмет.
Палач и врач одновременно подошли к ней. В то же время прислужники начали рыться в своем ужасном арсенале. При звоне этих страшных железных орудий несчастная девочка задрожала, как мертвая лягушка, сквозь тело которой пропустили электрический ток.
– О мой Феб! – проговорила Эсмеральда так тихо, что никто ее не слыхал.
Затем она снова погрузилась в свою прежнюю неподвижность и каменное безмолвие. Это зрелище истерзало бы всякое другое сердце, кроме судейского. Казалось, будто сам Сатана допрашивает бедную грешную душу при багровом свете ада. Несчастное тело, за которое готовы были ухватиться эти бесчисленные пилы, колеса и дыбы, существо, которое должно было сейчас очутиться в этих цепких руках палачей, в этих тисках, было кроткое, хрупкое, беленькое созданьице. Бедное зернышко, которое людское правосудие бросало под ужасные жернова пытки.
Между тем мозолистые руки слуг Пьера Тортерю грубо обнажили эту прелестную маленькую ножку, не раз поражавшую своим изяществом и красотой зрителей на парижских перекрестках.
– Экая жалость! – проворчал палач, смотря на нежную, грациозную ножку.
Если бы архидьякон был тут, он, без сомнения, вспомнил бы своих символических паука и муху. Скоро несчастная увидала сквозь дымку, застлавшую ей глаза, как поднесли «сапог», скоро почувствовала, как ее ножка, охваченная окованными железом лубками, исчезла в ужасном аппарате. Тогда ужас вернул ей силы.
– Снимите с меня это! – крикнула она, не помня себя, и, поднявшись, вся растрепанная, прибавила: – Сжальтесь!
Она пыталась вскочить и броситься к ногам прокурора, но ногу ее сдавливал тяжелый, дубовый обрубок, окованный железом, и она принуждена была опуститься, более обессиленная, чем пчела, к крылу которой подвесили бы кусок свинца.
По знаку Шармолю ее снова положили на постель, и две грубые руки привязали к ее тонкому поясу ремень, свисавший с потолка.
– В последний раз: признаете вы обстоятельства, при которых совершилось злодеяние? – спросил Шармолю со своей невозмутимой медоточивостью.
– Я невиновна.
– В таком случае как вы объясните все, в чем вас обвиняют?
– Увы! Я не знаю, монсеньор.
– Вы отрицаете свою вину?!
– Отрицаю все!
– Начинайте! – приказал Шармолю палачу.
Пьера завернул винт, «сапог» сжался, и несчастная испустила один из тех ужасных криков, передать которые невозможно ни на одном человеческом языке.
– Остановитесь, – приказал Шармолю Пьера. – Сознаетесь? – спросил он цыганку.
– Во всем! – закричала несчастная девушка. – Сознаюсь! Сознаюсь! Пощадите!
Идя на пытку, она не соразмерила своих сил. Первая боль победила бедняжку, жизнь которой до тех пор была так весела, легка и приятна.
– Человеколюбие обязывает меня предупредить вас, что, повинившись, вы должны ждать смерти, – сказал прокурор.
– О, поскорей бы, – ответила она и упала на кожаную постель, точно умирающая, перегнувшись вдвое и повиснув на кожаном ремне, застегнутом пряжкой у нее на груди.
– Ну, красавица, приободрись, – сказал мэтр Пьера, приподнимая ее. – Ты похожа на золотого агнца, которого носит на шее герцог Бургундский.
Жак Шармолю возвысил голос:
– Писец, пишите. Цыганка, ты признаешься, что принимала участие в сходбищах, шабашах и адских колдовствах вместе с злыми духами, ведьмами и вампирами? Отвечай.
– Да, – отвечала она так тихо, что ее слова сливались с дыханием.
– Ты видела барана, которого показывает Вельзевул в облаках, чтобы собрать шабаш, и которого могут видеть одни только колдуньи?
– Да.
– Ты признаешься в том, что поклонялась головам Бофомета, этим отвратительным идолам храмовников?
– Да.
– Что общалась с дьяволом под видом ручной козы, привлеченной к делу?
– Да.
– Наконец, ты признаешься и каешься в том, что с помощью демона и оборотня, обыкновенно называемого «мрачным монахом», ты в ночь на двадцать девятое марта убила некоего капитана Феба де Шатопера?
Она подняла на прокурора свои большие неподвижные глаза и отвечала как бы машинально, не дрогнув:
– Да.
Очевидно, в ней все было сломлено.
– Пишите, писец, – приказал Шармолю. – А вы, – продолжал он, обращаясь к палачам, – отвяжите узницу и отведите ее обратно в зал суда.
Когда с узницы сняли «сапог», церковный прокурор осмотрел ее ногу, все еще неподвижную от боли.
– Ну, беда невелика. Ты крикнула вовремя. Еще сможешь плясать, красавица!
Затем он обратился к представителям правосудия:
– Вот наконец правосудию все ясно. Это утешительно, господа. Барышня должна отдать нам справедливость, что мы действовали со всей доступной нам мягкостью.
III. Конец экю, превратившегося в сухой листКогда бледная, хромающая Эсмеральда вернулась в зал, ее встретил общий ропот удовольствия. Со стороны публики это было чувство удовлетворенного нетерпения, которое зрители испытывают при окончании последнего антракта пьесы, когда подымается занавес и начинается финал. Со стороны судей – надежда на скорый ужин. И козочка заблеяла от радости. Она хотела побежать навстречу хозяйке, но ее привязали к скамейке.
Совсем стемнело. Свечи, количество которых не увеличили, давали так мало света, что даже стены зала не были видны. Мрак окутывал всех как бы туманом. Только едва выделялось несколько апатичных лиц судей. На противоположном конце длинного зала зрители видели неясную белую точку, выделявшуюся на темном фоне. То была подсудимая.
Она дотащилась до своего места. Шармолю, торжественно дойдя до своего, сел, затем встал и, не выказывая слишком сильного тщеславия своим успехом, сказал:
– Подсудимая во всем созналась.
– Цыганка, – заговорил председатель, – ты призналась в колдовстве, распутной жизни и убийстве Феба де Шатопера?
Ее сердце сжалось. Из темноты послышались рыдания.
– Во всем, в чем хотите, – отвечала она слабым голосом. – Только убейте меня поскорей!
– Господин прокурор церковного суда, палата готова выслушать ваше заявление.
Мэтр Шармолю извлек тетрадь ужасающих размеров и начал читать, жестикулируя, повышенным тоном стряпчего латинскую речь, где все доказательства обвинения были нагромождены на цицероновских перифразах и сопровождались цитатами из Плавта, его любимого комика. Очень сожалеем, что не можем предложить читателю этого замечательного документа. Оратор читал его весьма оживленно и еще не успел окончить вступление, как уже пот капал у него с лица, а глаза вылезли из орбит.
Вдруг на самой середине периода он остановился, и его взгляд, обыкновенно довольно добродушный и даже глуповатый, стал метать молнии.
– Господа! – вскричал он уже по-французски, так как этого не было в тетради. – Сатана настолько замешан во всем этом деле, что вот он сам присутствует при наших прениях и передразнивает королевский суд. Взгляните.
Говоря это, он указал на козочку, которая, видя жесты Шармолю, действительно подумала, что ей следовало подражать ему. Она присела на задние ноги, а передними и бородатой головкой старалась, насколько возможно, повторять патетические движения прокурора церковного суда. Если читатель помнит, это был один из ее талантов. Этот инцидент, это последнее доказательство произвело огромный эффект. Козе связали ноги, и королевский прокурор продолжал прерванную нить своего красноречия.
Говорил он долго, но речь была великолепна. Вот ее последняя фраза; прибавьте к ней мысленно хриплый голос и торопливую жестикуляцию мэтра Шармолю: «Ideo, domini, coram stryga demonstrata, crimine patente, intentione criminis existente, in nomine sanctae ecclesiae Nostrae-Dominae Parisiensis, quae est in saisina habendi omnimodum altam et bassam justitiam in illa hac intemerata Civitatis insula, tenore praesentium declaramus nos requirere, primo, aliquamdam pecuniariam indemnitatem; secundo, amendationem honorabilem ante portalium maximum Nostrae-Dominae, ecclesiae cathedralis; tertio, sententiam in virtute cujus ista stryga exeunte in fluvio Secanae juxta pointam jardini regalis, executatae sint»[117]117
«Итак, господа, теперь ведьма обличена, преступление доказано, преступные намерения ясны, и от имени священнослужителей собора Парижской Богоматери, которым принадлежит высшее и низшее право суда на этом незапятнанном острове государства, мы, согласно в настоящее время действующему суду, заявляем наши требования: во-первых, присуждения к денежному штрафу; во-вторых, к публичному покаянию перед главным порталом собора Парижской Богоматери; в-третьих, приговора, в силу которого эта ведьма со своей козой были бы казнены на площади, которую в просторечии именуют Гревской, или на острове реки Сены, неподалеку от королевского сада» (лат.).
[Закрыть]. Он надел шапочку и сел.
– Ох! – вздохнул Гренгуар. – Bassa latinitas![118]118
Варварская латынь! (Лат.)
[Закрыть]
Другой человек в черной мантии встал возле обвиняемой. Это был ее адвокат. Проголодавшиеся судьи начали роптать.
– Говорите кратко, – обратился к адвокату председатель.
– Господин председатель, – начал адвокат, – так как моя подзащитная созналась в своем преступлении, то мне остается сказать только одно слово. Вот текст салического закона: «Если ведьма съела человека и уличена в том, она заплатит штраф в восемь тысяч экю, то есть штраф в двести золотых су». Угодно будет суду приговорить мою клиентку к уплате штрафа?
– Текст, уже вышедший из употребления, – заметил королевский прокурор.
– Nego[119]119
Отрицаю (лат.).
[Закрыть], – ответил защитник.
– На голоса! – посоветовал советник. – Преступление доказано, и уже поздно.
Собирали голоса, не выходя из зала. Судьи подавали голос снятием шапочки, все спешили. При зловещем вопросе, с которым к ним шепотом обращался председатель, видно было в полумраке, как они один за другим снимали шапочки с головы. Несчастная подсудимая как будто смотрела на них, но ее помутившиеся глаза уже не видели ничего.
Затем писец начал писать и через несколько времени передал председателю длинный пергамент.
Тогда несчастная услыхала, как толпа задвигалась, зазвенели пики, ударяясь одна о другую, а ледяной голос стал говорить:
– Девушка-цыганка, в тот день, который благоугодно будет назначить королю, нашему государю, в полдень, тебя, в рубашке, босиком, с веревкой на шее, вывезут в телеге перед главным фасадом собора Богоматери. Здесь, держа двухфунтовую восковую свечу в руках, ты всенародно покаешься, и оттуда тебя перевезут на Гревскую площадь, где тебя повесят и удавят на виселице, так же, как и твою козу. Ты заплатишь исполнителю приговора три лиондера в возмездие за совершенные тобой преступления, в которых ты повинилась, – колдовство, волшебство, распутство и убийство дворянина Феба де Шатопера. Прими, Господь, твою душу!
– Это сон! – проговорила Эсмеральда и почувствовала, что ее уносят сильные руки.
IV. Lasciate ogni speranza[120]120Оставь всякую надежду (Данте. Божественная комедия).
[Закрыть]
В Средние века в каждом законченном здании почти такая же часть, какая находилась над землей, скрывалась и под землей. Каждый дворец, каждая крепость, каждый храм, если только они не были построены на сваях, как собор Богоматери, имели подземные этажи. В соборах бывали как бы еще другие, подземные соборы – низкие, темные, таинственные, слепые и немые, помещавшиеся под первыми, верхними, залитыми светом, оглашаемыми день и ночь звуками органа и колоколов. Иногда то бывали склепы. Во дворцах и крепостях под землей помещались темницы либо тоже склепы, а иногда и то и другое вместе. Эти огромные здания, способ постройки которых мы уже объяснили, имели не только фундаменты, но и, так сказать, корни, которые разветвлялись под землей в виде комнат, галерей, лестниц, таких же, как в надземном помещении. Таким образом, половина корпуса церквей, дворцов и укреплений находилась в земле. Подвалы здания были другим зданием, в которое спускались, вместо того чтобы подниматься, и которое соприкасалось своими подземными этажами с громадой надземных этажей, как соприкасаются леса и горы, отраженные на зеркальной поверхности озера, с подножием гор и лесов, находящихся на его берегу.
В Сент-Антуанской бастилии, в парижском Дворце правосудия, в Лувре эти подземелья были тюрьмами. По мере того как этажи этих тюрем углублялись ниже и ниже, они становились все теснее и темнее. Каждый этаж представлял как бы пояс известной степени ужаса. Данте не мог найти ничего лучшего для своего ада. Эти тюрьмы-воронки обыкновенно оканчивались колодцем-ямой, куда Данте поместил своего Сатану и куда общество заключало приговоренных к смерти. Раз несчастный попадал в такой колодец – прощай, свет, воздух, жизнь, прощай, всякая надежда! Он выходил оттуда только на виселицу или костер. Иногда он тут и сгнивал. Человеческое правосудие называло это забвением. Осужденный чувствовал, что между ним и людьми над его головой тяготеет каменная громада, а тюремщики, вся тюрьма, вся крепость представлялись ему огромным сложным замкóм, за которым он сидит, исключенный из мира живых.
В такое-то подземелье, в колодец, вырытый Святым Людовиком в тюрьме для вечного заключения в Турнеле, поместили, вероятно опасаясь ее бегства, Эсмеральду, приговоренную к повешению. Над ее головой высилась громада Дворца правосудия. Бедная мушка, которая не могла шевельнуть ни одной из своих маленьких лапок!
Без сомнения, судьба и общество были одинаково несправедливы. Не было надобности в таком избытке бедствия и муки, чтобы разбить столь хрупкое создание.
Она очутилась в темноте, погребенная, закопанная, замурованная. Всякий, кому пришлось бы увидеть ее в таком положении после того, как он ее видел пляшущей и смеющейся на солнце, несомненно, содрогнулся бы. Кругом тьма и холод смерти. Ни одно дуновение ветерка не шевелило ее волос, ни один человеческий звук не касался ее слуха, ни один луч света не достигал ее глаз. Разбитая, раздавленная цепями, сидя возле кружки с водой и куском хлеба, на охапке соломы, в луже воды, образовавшейся из капель, стекавших со стен тюрьмы, без движения, почти без дыхания, – она уже не имела сил даже для страданий. Феб, солнце, полдень, свобода, улицы Парижа, пляски при рукоплесканиях, сладостный любовный лепет с офицером; затем монах, кинжал, кровь, пытка, виселица – все это еще мелькало в ее голове, то как радостное, золотое видение, то как уродливый кошмар. Но это были уже лишь смутные и ужасные образы, терявшиеся во мраке, тихие отдаленные звуки, раздававшиеся там, наверху, на земле, и не достигавшие уже глубины, где была заточена несчастная. С тех пор как ее поместили здесь, она не бодрствовала, но и не спала. Со своим несчастием, в этом склепе, она уже не была в состоянии отличить бодрствование от сна, сновидение от действительности, день от ночи. Все смешивалось, дробилось, расплывалось, носилось в мыслях в каком-то тумане. Она уже не чувствовала, не сознавала, не думала, разве только грезила. Никогда еще живое существо не стояло так близко к небытию.
В таком оцепенении, застывшая от холода, окаменевшая, она едва слышала два или три раза стук открывавшегося где-то над ее головой люка, через который не проникало даже ни единого луча света, но через который чья-то рука бросала ей корку черного хлеба. Это периодическое появление тюремщика было единственным ее общением с людьми.
Один только звук невольно занимал ее слух. Над ее головой сырость просачивалась через заплесневевший камень свода, и через ровные промежутки времени с него падали капля за каплей. Эсмеральда бессознательно слушала шум, производимый этой каплей при падении в лужу возле ее подстилки.
Эта падающая капля была единственным движением вокруг, единственными часами, указывавшими течение времени, единственным звуком из всех звуков, раздававшихся на поверхности земли.
В довершение всего Эсмеральда часто чувствовала, как что-то холодное пробегает у нее по руке или ноге среди этой зловонной темноты, и вздрагивала.
Сколько времени она пробыла в этом подземелье, она не знала. Она смутно помнила, что где-то над кем-то был произнесен смертный приговор, что затем ее унесли куда-то и что она, вся закоченев, пришла в себя среди темноты и полного безмолвия. Она поползла на руках, цепи зазвенели и врезались ей в ноги. Она убедилась, что ее окружает одна сплошная стена и что она лежит на снопе соломы, брошенном на мокрый пол. Нигде ни светильника, ни отдушины! Тогда она села на этой соломе, а иногда, чтобы переменить положение, переходила на последнюю ступень каменной лестницы, находившейся в ее тюрьме.
Эсмеральда попробовала было считать минуты по падавшим каплям, но скоро это слабое усилие больного мозга само собой прервалось, и она погрузилась в полное оцепенение.
Наконец – днем то было или ночью, она не знала: в этом склепе полночь и полдень были одинаково черны – она услыхала над своей головой шум более сильный, чем производила обыкновенно подъемная дверь, через которую ей спускали хлеб и кружку с водой. Она подняла голову и увидала красноватый луч, падавший через люк, устроенный в своде камеры.
В то же время загремел тяжелый засов, люк со скрипом поднялся на заржавленных петлях, и Эсмеральда увидала руку, фонарь и нижнюю часть туловища двух человек. Дверь была слишком низка, чтобы можно было рассмотреть их головы. От света ее глазам стало так больно, что она их закрыла.
Когда она снова открыла глаза, дверь была затворена, фонарь поставлен на ступеньку, а перед ней стоял человек – один. Черный плащ окутывал его с головы до ног, капюшон такого же цвета закрывал лицо. Не было видно ни фигуры, ни лица, ни рук. Перед Эсмеральдой стоял черный саван, под которым что-то двигалось. Несколько секунд она, не сводя глаз, смотрела на привидение; оба молчали. Они походили на две встретившиеся статуи. Только две вещи, казалось, жили в этом подземелье: фитиль фонаря, трещавший от сырости воздуха, да водяная капля, прерывавшая этот неровный треск своим монотонным падением, заставляя дрожащий отблеск фонаря разбегаться кругами по маслянистой поверхности лужи. Наконец узница прервала молчание:
– Кто вы?
– Священник.
Слово, интонация, звук голоса заставили ее вздрогнуть. Священник продолжал глухим голосом:
– Вы приготовились?
– К чему?
– К смерти.
– О! – сказала она. – Скоро ли это будет?
– Завтра.
Голова ее, которую она было радостно подняла, снова упала на грудь.
– Как долго! – проговорила она. – Отчего не сегодня?
– Вы, стало быть, очень несчастны? – спросил священник, помолчав.
– Мне очень холодно, – ответила она.
Она взялась руками за ноги движением, свойственным людям, которым холодно; мы уже видели такое же движение у узницы Роландовой башни. Зубы ее застучали.
Священник, по-видимому, осмотрел из-под капюшона камеру.
– Без света! Без огня! В воде! Это ужасно!
– Да, – отвечала она с тем изумленным видом, который ей придало несчастье. – Свет ведь для всех. Отчего мне дают только мрак?
– Знаете ли вы, за что вы здесь? – спросил священник.
– Кажется, знала, – сказала она, проводя худыми пальчиками по лбу, как бы стараясь помочь своей памяти, – только теперь забыла.
Вдруг она расплакалась, как ребенок.
– Мне хотелось бы уйти отсюда, сударь. Мне холодно, страшно. По моему телу бегают какие-то звери.
– Хорошо, идите за мной.
С этими словами священник взял ее за руку. Бедняжка вся окоченела и тем не менее почувствовала холод от прикосновения этой руки.
– О! Это ледяная рука смерти, – проговорила она. – Кто же вы?
Священник поднял капюшон. Она увидела то зловещее лицо, которое так давно преследовало ее, ту дьявольскую голову, которую она увидала у Фалурдель над головой обожаемого Феба, тот самый взор, который сверкнул перед ней рядом с кинжалом.
Появление этого человека, всегда роковое для нее, толкавшее ее от одного несчастья к другому, вплоть до осуждения на казнь, вывело ее из оцепенения. Ей показалось, что покров, окутывавший ее память, порвался.
Все подробности кровавого происшествия, от ночной сцены в доме Фалурдель до приговора на суде, сразу воскресли в ее памяти не в неясных, расплывчатых воспоминаниях, как до сих пор, но в отчетливых, резких, трепещущих, ужасных образах. Темная фигура, стоявшая перед ней, снова оживила эти воспоминания, почти изгладившиеся под влиянием чрезмерных страданий, подобно тому, как приближение огня заставляет резко выступить на белой бумаге невидимые буквы, написанные симпатическими чернилами. Ей показалось, что все раны ее сердца раскрылись снова и сочатся кровью.
– А! – крикнула она, с судорожной дрожью закрывая глаза рукой. – Это тот священник!
Затем руки ее беспомощно опустились, и она села, понурив голову, устремив глаза в землю, безмолвно трепеща.
Священник смотрел на нее глазами коршуна, который долго кружился в воздухе над головой бедного жаворонка, притаившегося во ржи, безмолвно сужая спираль своего полета, и вдруг как молния бросился на добычу, сжимая трепещущую птичку в когтях.
Эсмеральда тихо проговорила:
– Кончайте! Нанесите последний удар! – Она в ужасе втянула голову в плечи, как овечка, ожидающая удара дубины мясника.
– Я внушаю вам ужас? – спросил он.
Она не отвечала.
– Неужели я внушаю вам ужас? – повторил он.
Ее губы искривились, точно она улыбалась.
– Да, – сказала она, – палач еще смеется над осужденной! Вот уже целые месяцы, как он преследует меня, грозит, пугает меня! Боже, как я была счастлива без него! Он толкнул меня в эту пропасть! Небо! Это он убил… он убил его… моего Феба!
Рыдая, она подняла глаза на священника.
– О презренный! Кто вы? Что я вам сделала? За что вы так ненавидите меня? За что?
– Я люблю тебя! – крикнул священник.
Слезы Эсмеральды сразу высохли. Она смотрела на священника тупым взглядом. Он же упал перед ней на колени и пожирал ее пламенным взглядом.
– Слышишь ты? Я люблю тебя! – еще раз закричал он.
– Что же это за любовь! – прошептала несчастная, содрогаясь.
Он продолжал:
– Любовь обреченного грешника.
Оба несколько секунд молчали, подавленные тяжестью своих чувств; он – обезумевший, она – совершенно отупевшая.
– Слушай, – заговорил наконец священник, к которому вернулось странное спокойствие. – Ты все узнаешь. Я тебе признаюсь в том, в чем до сих пор едва решался признаться самому себе, вопрошая свою совесть в те поздние ночные часы, когда мрак так глубок, что сам Бог, кажется, не видит нас. Слушай. До встречи с тобой, девушка, я был счастлив…
– И я тоже! – со слабым вздохом прошептала она.
– Не прерывай меня… Да, я был счастлив, по крайней мере, верил, что счастлив. Я был чист; на душе у меня было ясно и светло. Никто не держал голову так высоко, как я. Священники учились у меня целомудрию, доктора – науке. Да, наука была для меня всем! Она была мне сестрой, и, кроме нее, мне никого не было нужно. Между тем с летами мне стали приходить другие мысли. Не раз моя плоть волновалась, когда мне случалось видеть проходившую мимо женщину. Не раз волнение крови, которое я, безумный юноша, считал подавленным навеки, судорожно потрясало железные обеты, приковывавшие меня, презренного, к холодным плитам алтаря. Но пост, молитва, занятия, умерщвление плоти снова вернули душе господство над телом. Я избегал женщин. К тому же стоило мне открыть книгу, чтоб все нечистые помыслы рассеялись перед лучезарным сиянием науки. Через несколько минут я чувствовал, как все тяжелые мирские дела отступали все дальше и дальше, я снова становился спокойным, созерцая в душевной ясности ослепительное, но спокойное сияние вечной истины. Пока дьявол посылал, чтобы меня искушать, лишь неясные женские образы, мелькавшие мимо меня поодиночке то в храме, то на улице, то где-нибудь вблизи и лишь слегка тревожившие меня во сне, – я легко побеждал дьявола. Увы! Если победа осталась не за мной, – виноват Бог, давший неодинаковые силы дьяволу и человеку… Слушай же! Однажды…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































