Текст книги "Откровение Блаженного"
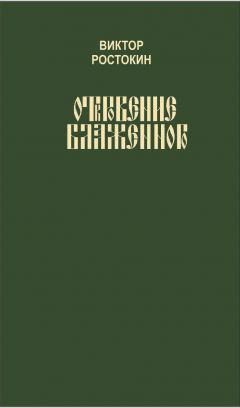
Автор книги: Виктор Ростокин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Изба на Угоре
Памяти моего пращура
1
Взойдя на холм, Никита положил в траву жердину с подвязанной на конце холщовой торбой. Огляделся. С той стороны, откуда он пришел, до горизонта снежными свеями тек ковыль; по правую руку лазоревыми цветами румянел пойменный дол, по левую – яснилось неоглядное, как небушко, озеро; прямо, перед взором, сочно зеленели лесные кущи. Осторожным шагом спустился к речке. На отмели резвилась стайка рыб. Невольно залюбовался на них. В душе словно лед растаял. И Никита улыбнулся… А думал, что разучился улыбаться. Двадцать лет отсидел в остроге за участие в Пугачевском бунте. Многие братья-казаки там загнулись и сгибли. А он выдюжил. Благодарение за это Господу Богу! И вот срок каторги истек. И он притопал на родную Донщину. Родственников близких и дальних давно порастерял, перезабыл. Не помнил того места, где родился. Да если бы и помнил, то вряд ли туда вернулся: кому нужен бывший каторжник! Лучше уж жить на отшибе отшельником, по-монашески да с исповедальными молитвами!
Никита, стараясь не распугать рыб, ковшом разлапистой ладони бесшумно зачерпнул проточную свежесть. Выпил.
– Иисус мой светлейший! – промолвил радостно, ощутив на губах бодрящую сладость влаги.
На вербе куковала кукушка, в темно-фиолетовой гущине зарослей и деревьев нежно щелкал соловей; на противоположном берегу цвела черемуха и отражалась в воде – словно на дне снежный сугроб.
По мелкому перебрел. На угоре нарвал увесистой зоревой клубники, поел. Прилег под дубом, весело осыпаемый пчелиным и шмелиным звоном. Целый день он проспал. И еще ночь. И еще бы, наверно… Но над поймой загремел гром. И разбудил. Сверху, при солнце, радужно падали дождинки. Никита разделся догола и прыгнул с обрыва в струящуюся родниковую прозрачность. Прибрежный тальник от крутого вала аж вздыбился, а лилии подпрыгнули, из своих лепестков выплеснув ночную росу.
В это время на исподвольке, над излукой, за кустом конского щавеля прятался некрупный захватанный до иверней репьями медведь. Он глядел-глядел на человека… да и сам бултыхнулся в реку. Купались поврозь, не мешая друг другу. Волна от Никиты шла накатистая, гребнистая. Мишка на плаву на ней качался, довольно пофыркивая.
Когда Никита одевался, то слепой дождь уже не мельтешил цветисто. Из торбы он вытащил топор, срубил ветловые колья, с косым уклоном забил их в дерн, с боков обложил зеленым камышом. Супротив развел костер. Над огнем подвесил котелок. Вскоре в затончике жердиной подцепил соменка, сунул его в кипяток. Тут же посорил дикого лука и щавеля. Горячую рыбную похлебку хлебал деревянной ложкой. Съел сваренного соменка. Перекрестился. Сияли звезды. Из леса потягивало студеным приправленным ароматом черемухи воздухом. Сладко зевнул. И уже намеревался укладываться на ночлег в камышовом укрытии, как услышал с луговой стороны принесенные порывом ветра голоса и смех. Потом заржала лошадь. «Нешто цыганский табор? – подумалось Никите. – Сходить бы да расспросить, есть ли поблизости какое-либо селение».
Деревянной гребенкой расчесал на голове косматые, давно не стриженные волосы, широко спадающую на грудь бороду.
Отволглый от росы травостой мягко холодил, щекотал босые ноги. И тут, в низине, пахло черемухой ключевой прохладой.
Когда Никита пробрел затишливой луговиной, то оказался у реки. Нет, это не та, возле которой он поставил шалаш. Эта просторнее и, судя по упружистому, громкому журчанию, резвей в беге. На опушке горели костры. Пригляделся. Совсем не цыганский табор. А сенокосный люд на ночевке. Стало быть, по соседству хутор или станица?
Шагах в десяти гулко всплеснулась вода и женский голос словно задохнулся от радости:
– А-а-ах!..
Женщина купалась недолго. Она вышла на сушу. И пока отжимала долгие волосы, Никита глядел на нее почти в упор из-за ветки. Света было предостаточно – он исходил от костров и водной глади, где отражался бликами. Ее влажное, гладкое тело светилось само по себе. Она оделась. И, напевая, пошла к стану.
Никита возвращался по недавно им же промятому в траве следу, влажно темневшему в звездной ночи. В душе с горькой досадой усмехался над самим собой: «Эх, даже и погутарить не смог!»
Лег в шалаше. И опять вспомнил женщину: «Кровная донская казачка! Красавица на загляденье! Небось, от женихов отбоя нет! И правильно, что я ее не затронул. Не по зубам яблочко. Вон какой я косматый да страшный! Ить мог бы девку до смерти напужать».
До Яблочного Спаса на угоре Никита срубил избу: от обчинок и до конька – чистый дуб. Мохом законопатил промеж бревен пазы и щели. Потолок залил речной глиной, оконце обтянул оттертым до прозрачности песком лосиным пузырем. В кладовке полнились кадки окороками звериного мяса. Окорока пересыпал солью, которую нагребал на плешине солончаковой макушки горы, что белелась в версте за поймой. Несколько раз на самодельной повозке возил на ярмарку в станицу свежую лосятину и кабанятину. На вырученные деньги купил муку, лопату, вилы, теплую одежду и всякую другую мелочь для хозяйства. На знойном предосеннем солнышке насушил на повети грибов, лесных яблок, калины, чабреца, мяты. За избой почал катух, дабы в него до холодов загнать стельную коровенку. Впрок запасал сено, палые листья. Благо, крайние дубы так близко нависали кронами, что желуди с веток осыпались прямо во двор. Добро само шло в руки. Желудями завалил чердак. Не откладывая на потом, решил в чулане отгородить закром, засыпать и его. За излучиной как-то видел старую расщепленную вербу. К ней и зашагал, сунув за пояс топор. И не извилистым берегом, а через заросли. Вверху шумливым вихрем пронеслась скворчиная стая; в станице брызнул звоном церковный колокол. Никита перекрестился:
– Воскресенье сёдня. Аль и мне, грешнику, оставить суету да помолиться в горенке.
– Ау-у-у! – прозвучало в одной стороне. Никита насторожился: аль заблудился кто?
И снова, но уже с другой стороны:
– А-у-у!
«Эхо? Непохоже. Верно, кто-то отозвался».
– А-у-у-у! – прокатилось за спиной. «Не иначе, леший забавляется».
В одном, особенно затемненном, влажном месте, похожем на урочище, Никита узрел женщину. Она стояла по пояс в ежевичных дрожливых листьях в напряженном ожидании. «Не она ли в сенокосную ночь купалась в Бузулуке? Она! Истинный бог»! Сердце его заколотилось. Он подошел к ней, поклонился:
– Здорово живешь, красна девица! Аль заблукала часом?
– Ишо чаво! Выросла туточки, кажный кустик знаком! С матушкой перекликнулась. Ягоду с ней собираем.
«Ты сама, как ягодка!» – хотелось ласково сказать Никите. С минуту он молча любовался ею, румяной, с откинутой назад головой – тянула толстая коса. Девушка отвернула край запона – в ведре заманчиво сизовела ежевика, отборная, одна к одной! Голубыми глазами доброхотно улыбнулась. Никита тоже улыбнулся, взял щепотку, отправил в волосяный рот:
– Скусная.
– Бери ишо.
– А ты не скупая.
– Смотря для кого…
– Дак я-то с клеймом…
– В станице гутарят: людей ты убивал.
– Убивал. За нашенскую казачью волюшку.
– А ишо смеются: отчего живешь не с обчеством, а один, как лешак.
– А-у-у! Настя! Настена! Иде ты?
– Матушка моя…
Прощальные слова молвила жалостливые:
– По твоим глазам вижу: настрадался ты…
Ветки за ней сомкнулись, а листья ежевики еще подрагивали.
2
Что бы Никита ни делал – рубил ли сушняк на топку, набивал чулан листьями, готовил еду – он вдруг впадал в хандру. Неведомая тоска до боли сжимала сердце. И тогда все валилось из рук. Уходил из дома, неприкаянно бродил окрест. Из Мудрова ключа крупными глотками пил морозистую влагу. Неожиданно становилось легко и радостно на душе. И мир казался сказочно-дивным, сокровенно принадлежавшим только ему, Никите. Шел по бугристым Пескам, разнаряженным красноталом и рослыми жаркими цветами. Березняки весело обороняли солнечные листья – как золотой слепой дождь. Околесил небесно сияющее озеро Ильмень, увидел сросшееся с ним русло Паники – той самой малой речки, на угоре которой поставил избу.
«Что в моей душе в последнее время происходит? – пытался вникнуть Никита. – То в ней хмарь, то – ведро, то – жарко, то – знобко. Неужель виной тому Настя? Нет, нет… Упаси бог! Я – каторжник, отшельник! Зачем я ей!» Но тут же в памяти всплывает: она угощает его ежевикой, говорит исходящие от сердца слова. Вовек подобных ни от кого не слышал. Аль чем приглянулся ей? Аль просто пожалеть хотела?
Никита склонился над ключом, взглянул на свое отражение:
– Срамота! Леший пригляднее меня!
Об покатистую макушку валуна почиркал лезвием ножа. Полоснул им чуть ниже подбородка – более четверти бороды отхватил. Помолодел лет на пятнадцать! Вздохнул…
Станица Ярыженская. На кольях сушились горшки. По их круглым донышкам прядали воробьи, оставляя белесые отметины помёта. В глубине затишливого дня бабьего лета колыхалась паутина.
На Никите новые штаны с лампасами, хромовые сапоги. Сам причесанный, веселый. Шел мимо палисадников и гадал: в какой избе живет Настя? Вот городьба из чакана, вот – из горбыля, из паклены. Вот из желтого хвороста, а посверх плетня узор из густо-малинового краснотала. Залюбовался. В чистое оконце кто-то выглянул. Угадал: Настя.
В пригожей светелке поклонился в передний угол, трижды перекрестился:
– Здорово живете!
– Слава богу!
– Намедни Настя угостила меня ежевикой, а теперча я…
Поставил на столешницу сплетенное из свежей белой лозы лукошко с рябиной. Захватил жменю, поднес, как на блюдце. Щеки девушки полыхнули жарче спелой ягоды. Мать кинула недовольный взор:
– Зачем пришел, казак?
– Ягоду принес.
– Сказывай прямо!
– Твоя дочь мне по душе.
– Она жениха ждеть со службы. Возвернется – свадьбу сыграем. Так-то, родимый. Ступай с богом. И больше в наш двор не заходи. Дурные сплетни по станице поползут.
– Ладно… чё ж… оно, конечно…
В станичной лавке купил бутылку вина. На луговине выпил ее. Долго лежал в траве. Думать ни о чем не хотелось. О чем думать? Все просто: Настя помолвлена. Да и зачем ей связывать свою судьбу с каким-то пришлым с каторги и забиваться в паникские урёмы.
В повечерь Никита услышал: скрипнула чуланная дверь. Кто-то вошел к нему в избу. А он продолжал отрешенно и мрачно сидеть, опершись локтями о столешницу. Потом чья-то легкая ладонь прикоснулась к его затылку, погрузилась в волосы и кончиками теплых пальцев дотронулась до кожи. Он обернулся… Настя! Вскочил, прижал к груди. Захлебываясь от радости, произнес:
– Как же ты… Какая ты смелая, Настя!
– Я – трусиха! Пока лугом бежала, все время боялась: ну-к, матушка хватится, а меня нет дома, да в погоню бросится, да за косы схватит!
Сеновал. Никита пробудился: ему на чело обронилась роса. Встал. Под навесом подоил козу. Принес в кружке молоко и ломоть хлеба.
– Настя?
Настя открыла глаза, улыбнулась:
– Я, наверно, продолжаю спать и видеть хороший сон.
– Нет, это не сон, моя голубушка. Это явь. Я и сам все никак не могу поверить.
– Давай помолимся Господу, поблагодарим его.
– Помолимся в часовенке.
– У тебя часовенка есть?
– В березках…
Позавтракали. Никита спросил:
– Он кто… твой жених?
– Бывший жених… Зовут его Старынин Федор.
– Видать, из богатеньких?
– Сын станичного атамана.
– Понятно…
Никита тяжело вздохнул. Настя прижалась к его плечу:
– Чё опечалился?
– Да так… давнее… Вспомнил, как они, богатенькие, предали Пугача. Ну да ладно. Было и быльем поросло.
Вновь повеселел. Обнял Настю:
– Неужель ко мне навсегда?
– А зачем бы я притащила узел с бельем? А ты че… и вправду, намеревался отшельником жить?
– Намеревался. Да в сенокосную ночь подглядел, как ты купалась в Бузулуке. И с того часу…
– Это ты был за кустом? А я думала: медведь Трофим?
– Со мной один медведь купается в Панике, немного поодаль. Любо ему на волнах качаться.
– Это он. Его когда-то цыганский табор оставил – чем-то захворал. Так и прижился.
– Я-то ентот раз даже и не помыслил пред твоими очами явиться. Я был пострашнее медведя. Испужалась бы меня.
– Медведя я совсем не боюсь – он ручной. И тебя не испужалась бы: у тебя глаза добрые. И еще в них… такое… дай я лучше их поцелую.
Лучи солнца просеивались сквозь реденькую камышовую кровлю. Под обрывом журчала речная струя. С небес обронялся молитвенный клик журавлей.
Еще шелестели листопады, когда с неба повалил ядреными, разлапистыми хлопьями снег. По свежей пороше Никита выбрался в степной дол поохотиться. Из дымящейся Мокрой пади кобель вспугнул глухаря, под уклон разогнался за ним и плюхнулся в бочажину. Выкарабкался. И, уже не помня о дичи, как оглашенный стал бегать кругами, чтобы согреться и просохнуть.
Из зарослей терновника Никита поднял двух зайцев. Но выстрелом не достал – далековато. Поразмыслил. И потянул ближе к станичной околице – тут беляки более свойские, привычные к человеку: должны бы подпустить к себе ближе. Так-таки, одного сумел добыть.
Зима была многоснежная, лютая на морозы. То и дело учиняли разор подворью дикие кабаны. Они потрошили на гумне стога, нагло лезли в катухи, даже в чулан. Не желая их обозлить более крутыми мерами, а избавиться полюбовно, Никита протянул проволоку, на нее подвесил жестяные самодельные коробочки: при малейшем к ним прикосновении они начинали долодонить, звенеть, поднимать тревогу. Кабаны перестали докучать.
На забазье приходил старый больной лось. Никита подкармливал его объедками, ставил в ведре теплого пойла. В пургу зверь оставался под навесом на ночевку. Положив на прясло голову, дремал.
В печке горели дубовые поленья. В избе тепло. У горящей лучины сидела Настя, вязала пуховые варежки. Никита штопал валенки. На лбу испарина. Ласково глянул на жену:
– Об матушке, небось, соскучилась? Сходила бы, проведала.
– На Пасху уж…
– Теперича она простила…
– Ежели бы простила, позвала. Или сама наведалась. Бог ей судья. Я, Никитушка, вот о чем хочу тебя спросить. Что по разумению… понимаю… ну, как бы это сказать…
– Ты о чем?
– Я о детях. Вот, когда они есть…
– Когда они есть, это большое счастье. А ты к чему это?
– Тяжелая я. Все никак не решалась тебе сказать: вдруг огорчу. А щас послухала…
– Настенька, родная моя, да разя я изверг, чтобы…
Весь сияя, Никита поцеловал жену в пушистый затылок:
– Ей-богу, не верится: у меня родится сын!
– А ежели дочь?
– Дак ишо лучше! Вырастет такая же красавица, как ты!
– А может, на тебя будет похожа!
– У меня большой нос. А большой нос токмо казака красит!
Разнежились, расчувствовались… И легли пораньше. По избе плавал сладкий ладан потухшей лучины.
3
На Пасху со службы вернулся в Ярыжки подхорунжий Старынин Федор. Еще летом родные отписали ему в письме, что его невеста Настя насовсем сбежала к пришлому каторжнику на Панику. С досады не одна горькая чарка была осушена им! Пить и дома не прекращал. Иногда садился на жеребца без седла и в слепой ярости внамет носился над обрывистыми оврагами Ярыженской горы.
Опухший с похмелья, мрачный, зашел к Настиной матери.
– Тетка Фроська, че ж она так подло поступила со мной, а? Аль я урод? Аль из худой семьи?
– Гутарила я с ней, остерегала. Холудинкой замахивалась. Да разя… Эвон, волосатый леший сманил. Бяда.
Федор гневно тряхнул кудрями:
– Шутковать над Старыниным?! Да мы… да я… – Бухнул кулаком по столешнице: – В пыль… в пепел… всех…
– Ой, Хвёдор, да ты чё? Никак грозишься? Остепенись!
– Сотру… и ее и пугачевского разбойника! В пепел! Старыниных!.. Да я!..
«А ну-к, и вправду с ревности сбесится и злодеяние совершит! Упредить надо. Побегу на Панику». И как только Федор ушел, Фроська прикрыла избу на поцепку и садами-огородами, а там луговым бездорожьем во всю прыть вдарилась-полетела. Когда стала переходить мосток через Мудров ключ, то квелое перильце треснуло, и она шлепнулась в мелководье. Не ушиблась. Но тиной заватлалась, запачкалась до ушей. Вылезла на затравеневший дёрн. Потянула носом воздух и почуяла: пахнет паленым…
Из станицы по простору Федор гнал коня, как в атаку: орал на него матом, до кровавых брызг хлестал плеткой! На поляне спешился с седла. Зарослями мелколесья да купырями подкрался к подворью Никиты. И аккуратно, без суеты, поджег гумно, баньку, палисадник. Костры неуемно загудели, полукругом поползли друг к другу.
– Пропади с глаз долой, поганый каторжник!
В глазах Федора суматошно роились блики пламени. На лице страшная дьявольская гримаса. Он отступил к поляне. Коня на месте не оказалось. А из кустов без рычанья выскочил медведь. Повалил Федора. И калеными когтями рванул по черепу…
Филоново. Ярмарка. Никита и Настя тут с утра. Купили кусок плотной ткани для обивки донышка колыбельки, которую смастерил Никита. «Чтоб колыбелька порхала, как одуванчик, а мой сынок в ней крепко спал и не по дням, а по часам подрастал!» Набрали дверных петель, скоб, гвоздей, ниток.
На майдане казаки мерились силой. Кто поднимал огромный камень пять раз, кто – два раза, а кто еле-еле отрывал от земли.
– Нешто и мне попробовать, а, Настена? Ребяты, посторонись!
Никита схватил за бока валун. Двенадцать раз вскинул его над головой. Казаки одобрительно закричали:
– Силен, земляк!
– Эвон, как пушинку!..
Стали расспрашивать: чей будешь? Откуда? С каких краев? Никита подолом рубахи отер лоб, поклонился толпе:
– Микита я. А живу, стал быть, в хуторе Паникском.
– Не слыхали про такой хутор!
– А я и сам не слыхал!
Раздался дружный хохот!
На закате дня Никита и Настя в обнимку неспешно подошли к Панике. Обочь стежки, на колоде, их поджидала Фрося.
– Матушка!
Придерживая руками тяжелый живот, Настя подбежала к матери.
Фроська поднялась ей встречь.
– Простила, матушка? Да?
– Дак че ж теперича…
– От тебя дымом пахнет. Аль стряпала на костре?
– Бяда… бяда у вас… Покель вы на ярманке… тута Старынин Федька пьяный… Как с ума спятил… О-хо-хонюшки!
Никита не стежкой, а прямиком, чернолесьем прорвался к подножью угора. И вместо подворья увидел обгорелые, разбросанные бревна, доски, кучи дотлевавшей золы.
4
До конца лета Настя жила в станице у матери. А Никита сызнова возвел избу, поставил катухи, изгородь. Благо, лес под боком. Он валил дубы, разделывал их, бревна волок на угор. В обед Настя приносила харчи и кормила его.
Ясным, покойным днем справили новоселье.
Под Покров Настя родила сына.
Никита стоял на коленях в часовенке перед образами, молился:
– Исполать Иисусу нашему Христу небесному, творящему диво и благолепие…
Перед вторым пришествием
Бородатый молодой мужик Вениамин, одетый в несвежую рясу, привалившись к косяку открытой церковной калитки (в нее с улицы по-овечьи неуклюже проталкивался куделистый туман), уложил пучком хворостинки, в трех местах перетянул шпагатом, затем в середку вдавил заостренный конец черенка, тупым – постучал об землю: метла готова! Стал подметать площадку, на которой ставили машины приезжавшие, кто – венчаться, кто – креститься, кто – покойника отпевать. На изгороди поджидали воробьи, когда будет можно порыться в куче мусора, подобрать-поклевать хлебные крошки, подсолнуховые семечки, огрызки яблок, оброненные и брошенные в часы дневной и вечерней службы.
Вениамин, прямо держа спину, помахивал метлой и краем уха слушал, как напротив, во дворе, Дуня покрикивала на мужа Петровича:
– Кур выпустил с база? Выпусти! Да погребицу подладь!
Боже милостивый, все никак с собакой не расстанется!
Подковылял с мешком на спине бездомный Валетов, плаксиво-сиплым голосом попросил у Дуни:
– Хозяйка, сруби вилочек на борщ! И перец у тебя поспел – на кожаные кошельки похож!
– Гэм! Гэм! Ко мне! Дай лапу! – продолжал забавляться с щенком-овчаркой на палисаднике брюхастый Петрович.
– Коль уж не выговариваешь «р», так назвал бы Тузиком, – подсказал ему Валетов.
Спустя минуту Петрович вышел за калитку с топором.
– Ты чё это?! – струхнул бродяга.
Петрович рубанул и отсек молодой ивушке макушку:
– Кудлявее будет!
– А-а…
Скворец, держа крупную гусеницу в клюве, с сердитым верещаньем пролетел в глубь двора. Дуня бросила в мешок Валетову влажный кочан:
– Говоришь, на борщ… А где варить-то будешь?
– На костре, милая Дуняша.
Когда-то Валетов в укромных местах подкарауливал красивых женщин, оглушал их и насиловал. Отсидел двадцать лет. «Не жалею!» – порой тряс он рыжей головой, и в его глазах загорался алчный огонь. И ныне был до баб великий охотник. Но не насиловал их, а спал с ними полюбовно. Стоит какой-нибудь женщине попасть в больницу, как тут же по станице молва: не иначе под Валетом побывала! Сам-то сморчок, а та штука, что промеж ног мотается, – под локоток! Зашла к нему в хибарку цыганка (еще хибарка его не сгорела). Попросила поесть. А он ей: «В печи вареники со сметаной. Бери сама». Та сунулась в загнетку… Этим моментом Валетов ее обратал сзади… И так «отходил», что у бедняжки ноги подкосились, и она без памяти валялась на полу полчаса. А очухалась, плеваться стала. Дураком обозвала. Сказала, чтоб язык за зубами держал: муж узнает – тебя и меня порешит!
– Эх… че по-людски тебе не живется? Шляешься! Не ты ль надысь у Волыновых в погребице махотку кислого молока ополовинил?
– Боже упаси, Дуняша, чтоб я чужое… Вот те крест, не брешу!
– Ну ступай.
– Ох, грехи наши тяжкие, – вздохнул Вениамин и проворнее замахал метлой. На щеках полымем – молодецкий румянец, в мышцах – силушка, как у раскормленного овсом жеребца. Он покосился на окошки пристройки в церковном дворе: Анастасия, поди, еще зоревала. Мысленно представил спальню, белые, полные ее руки посверх одеяла… нет, одеяло сползло на пол, на простыни розовеют оголенные до бедер ноги… Ах, Анастасия! Из-за нее вот теперь дворником: круто наказан отцом Василием!
– Здорово, Вениамин! О чем задумался?
Семенов – хирург. Закоренелый холостяк. Вместо жены у него в квартире двухпудовая гиря. На нем болоньевая куртка, застегнутая до самой шеи, в руке болоньевая сумка – всегда порожняя. При ходьбе шаги делал неспешно и так основательно придавливал, что под подошвами песок и мелкие камешки звучно трещали. Ежели выпивши, то возмущался, что, мол, наглые демократы прикарманили его семнадцать тысяч рублей (социалистические), которые лежали на сберкнижке. Или удивлялся: «Не пойму, зачем люди заводят детей? Родился и сразу его с глаз долой – в детдом!»
– Библиотекарша Андреева концы отдала, – хладнокровно сообщил Семенов. – Вчера вечером пошла в подвал за картошкой. А кто-то из соседей шутки ради ее примкнул. Стучала, кричала… Сильнейшее кровоизлияние в мозг. От расстройства.
С Вениамином поравнялся Ряснов. С удочкой.
– На Бузулук?
– Да. Посидеть на прощанье.
– Уезжаете?
– Пора…
– Написали роман?
В одном журнале Вениамин прочитал о Ряснове: «Широко известный писатель…» Но так ли? В родной станице никто не прочитал даже коротенького его рассказа. Он с ним не был в приятельских отношениях. Но встреч не избегал. А однажды зашел к нему домой. Из простого человеческого любопытства: как живет писатель? Не нажимая на кнопку электрического звонка, по-мышиному поскребся об притолоку, у порога снял шапку, помолился. На приглашение пройти в зал отказался, смущенно пробормотал: «Я ужо тут постою. А то разуваться надо – нагибаться, а у меня поясница больная». От обыденного: как здоровье? о чем пишете? какая у мамы пенсия? – Вениамин постепенно перешел к более сложным реалиям жизни. «Чтобы изучать Вселенную, – морщил до испарины лоб, – не надо никуда летать. В наших мозгах – вот где истоки всех тайн». «С испода провел ладонью по бороде до низа, на кончиках волосков «чуя силу». Вениамин когда-то работал в школе учителем. Там и взбрело ему на ум отрастить бороду. Тут и началось: то директор, то еще кто «покруче» брали в оборот: какое безобразие! Немедленно… под корень! Терпел, терпел… Взял да и уволился. Во дворах печки клал. В добрый или недобрый час пригласил его к себе поп – тоже печку сложить. Когда садился отдыхать, беседовали. От Вениамина исходила кроткость и благочестие. Попу понравился, особенно после фразы: «Христос не был в дальних странах, но лучше всех знал мир». Отец Василий похвалил: «Лепо изрек, чадо!» Но когда попытался изучающе-пристально заглянуть ему в очи, тот беспросветно занавесил их плотными рядами ресниц – спрятал.
И подумалось батюшке: «Ёрничает? Кривит душой? Потешается? Аль искренен?..» Вениамин не унимался: предсказал Второе Пришествие Иисуса. И не где-нибудь, а возле станичной церкви. «Ко мне на службу пойдешь?» – «Пойду…» Поначалу Вениамин сторожил церковь и все принадлежащее ей невеликое хозяйство. Потом его взяли в хор. А свои певческие способности обнаружил при одной выпивке с батюшкой в угловой, без образов лачуге. Там, приняв внутрь несколько рюмок, запел так басовито, что паутина под матицей в клубок смоталась! «Беру в хор. С водкой же, чадо, не балуй!» – «Я ее пью не веселья для. Хочу познать ее изнутря». – «Не шибко, не шибко… Сам понимаешь: святой храм…» Но споткнулся Вениамин не о бутылку. Хором руководила Анастасия – супружница попа. Вениамин стоял посреди. И подчинялся каждому взмаху ее рук. Непогрешимо, как ребенок. Да нечистый подзуживать начал, щекотать воображение: обрати, мол, око… какие у нее свежие сладкие губки, какая осанка! Когда попадья переступала с ноги на ногу, то круглые ее бедра колыхались – даже широкое платье не могло скрыть их соблазнительные прелести. Заглядевшись, Вениамин вдруг замолкал, замирая с раззявленным ртом. Анастасия все заметила, поняла… Сказала попу-мужу. И пот тотчас перевел его в дворники. Вот теперь метет…
У изгороди паслась корова с теленком. Корова нагибалась, делала холостой взмах головой, не схватывая зубами пожухлую до корней траву. В конопле возились куры. На дозоре стоял петух. Второй петух, совсем молодой, раздумывал на кровле сарая: прыгать ему в коноплю или не прыгать? Домашние утки, разбежавшись и часто махая крыльями, полетели в плес.
– Роман, говоришь? Почти закончил. Дело несложное.
Лицо у писателя помятое, с желтизной.
Накануне Вениамин зашел к нему. Да его самого не было. На диване сидел незнакомый мужик и всхлипывал. Мужик поведал, что приехал он в Крым в санаторий. Познакомился с Рясновым (он в это время тоже там находился). Вместо лечения кутили напропалую. И сюда в станицу ехали на такси. За деньги мужика. По дороге Ряснов то и дело заставлял, чтоб шампанское покупал. Словом, до рубля промотали. Мужик канючил: «А мне в Мурманск надо… домой… Писатель пообещал занять денег мне на дорогу. Ушел спозаранку…»
– Гостя проводил?
– Дал ему пинка под зад!
– Дак уехал он?
– Пешком ушел…
– До Мурманска?
– Да хоть до Северного полюса! Не люблю прилипал! – И негодующе фыркнул: – Русский мужик – ничто! Более того, дрянь! Ты знаешь, чего он больше всего боится? Каб часом его с теплой печи не турнули и работать не заставили. На одной воде будет сидеть… дикарь, невежа, хитрец, пропойца! Намедни я забрел на ферму. И перепугался: думал, что мне хана! Испитые, угрюмые скотники так исподлобья зыркнули… Вот-вот начнут в меня ржавые вилы метать, как копья туземцы! Облик человеческий потеряли! Станичники вон ликуют, радуются: газ им ведут! А как делают? Я поглядел… Трубы с пьяных глаз абы как варят, изоляцию на них не наматывают, а спихнут в траншею и землей завалят. Ясно, чем это грозит! Говорю мужикам: «Землякам моим беду ведете!» А они – ржут!
– О мужиках вы верно сказали. Клал я у батюшки-то печь. Закончил работу. Гляжу, бродяга Валетов подкатил, засипел в ухо: «Брак…» Я зажег газету – тяги нет! Что за оказия! Ить все по правилам делал! Проверил… А в трубе – кляп! Подстроил зараза чумазый! А почему? Как-то дал я ему на похмелку. А он, бессовестный, привязался: дай еще, дай еще! Впору, как привязчивую собаку, гнать палкой!
Петрович лазил в малиннике, будто паук. В одних трусах. Ноги и руки тонкие, огромное пузо синюшное. Пузо всегда напоказ. С наглой издевкой: глядите хоть до блевотины! С куста конского щавеля он сорвал лист, сунул в рот. Услышав тарахтенье мотора, нырнул в заросли. К воротам подъехали двое на мотоцикле. В черных майках. Поддатые. Из дома вышел чернявый подросток (чадо Петровича). Ему налили в стакан.
– Пей. И ступай, скажи матери, чтоб поживее собиралась.
Дуняшка вышла принаряженная, без особой опаски глянула в малинник, где синело пузо импотента-мужа. Напялила на голову шлем. Втиснулась промеж ядреных райцентровских парней, весело крикнула:
– Жорка, погоняй коней!
Мотоцикл с оглушительным треском испарился.
– Козлы вонючие! – погрозил кулаком Петрович.
– Ты сам сатана! – подковырнул еще торчавший у забора Валетов.
– Тьфу на тебя, блодяга!
Тот утерся рукавом, вытащил из мешка вилок капусты:
– Видал? А теперича не увидишь! Кукиш!
Снова бросил в мешок.
– Эх, несчастный! До чего достукался!
– До чего же, ну?
– Зачем к Плонькиным в кухню залез?
– Жрать захотел – вот и залез! Тебя не спросился…
Валетов тогда был, как и сейчас, полупьяный. Потемну вошел во двор к Пронькиным и забрался в кухню. Тетка Ольга услышала чавканье. Включила свет. Бродяга сидел за столом и, от бороды и до пупа облившись, из кастрюли через край хлебал холодные щи.
Валетов промышлял всякими способами. Даже на кладбище со свежих могил подбирал хлеб, яйца, сало. Все то, что оставляли для божьих пташек родственники умерших.
– Пловаливай, Валетов! От тебя смелдит!
– Сам ты смердишь, рахитный!
Бродяга с независимой ухмылкой присел. Вытащил из-за пазухи початую бутылку. Погладил ее скрюченной землянистой ладонью. Глотнул из горлышка. Да и приснул. С открытыми глазами.
Вениамин и Ряснов продолжали беседу.
– Русский мужик… Нет, он не круглый негодяй, – хрипел Ряснов. – В городе, где я живу, рядом пивнушка. Как-то утром проснулся, чую: башка от вчерашней попойки раскалывается. Глянул в окно: за пивом – столпотворение! Ни за что не пробиться! Стал я думать, как бы мне поскорее опохмелиться. И вот чего надумал. Снял с гвоздя сувенирные лапти, напялил их на ноги и вышел на волю. Возле пивнушки нарочно прошелся туда-сюда, покрасовался на виду у всех. Слышу, мужики загоготали: «Глянь, гражданин в лаптях! А они у него искусственные!» Пришлось ногу задрать, чтоб потрогали и убедились, что правдашние они, из лыка. Тогда уважительно закричали: «Молодец! Потешил! Пропустите его без очереди!» Ну, предо мной расступились. И я без всякой мороки взял пару кружек пива да отвел душу.
В церковную калитку торкнулась молодая бабенка. Вениамин ее остановил.
Та рассказала о своей заботе: у ее мужа, когда он был малолетний, умерла мать и его на воспитание взяла тетка.
На ее щеках красными пятнами проступил румянец:
– Живу с ним около года, а вместе спали всего ничего… С теткой он своей в летней кухне… сама видела в глазок… Что мне делать?
– Молись!
Женщина поклонилась и ушла. Ряснов усмехнулся:
– Это называется: от имени Господа успокоил ты ее?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































