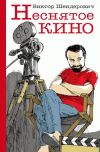Текст книги "Евроремонт (сборник)"
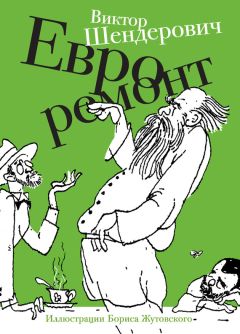
Автор книги: Виктор Шендерович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Попка не дурак

I
Больше всего на свете Кеша любил семечки и новые слова. Семечки наполняли его сытостью, а слова – гордостью.
Вы не пробовали наполняться гордостью, сидя в клетке?
Был он в самом соку – восемьдесят пять лет, но больше семидесяти не дашь – и собою очень импозантен. Одна дама лет пятнадцать назад так и сказала: красавец! И дала семечек.
Кешин папа по имени Гоша, до сих пор столовавшийся у какого-то инженера, тоже был импозантен и еще вполне ничего.

Старушка Кузьминична, в чьи обязанности входило кормить Кешу и за ним убирать, жила тут же, на диванчике. Жили они так. Старушка целый день шаркала по комнате, изредка на этом самом диванчике затихая, так что Кеша даже косился, нагнув голову набок, – уж не померла ли, чего доброго? Но старушка, покряхтев, вставала, и снова шаркала, и причитала, и шуршала в шкафу. Ее вечные вздохи и присказки Кеша давно выучил наизусть и при повторах протестовал, тряся прутья крючковатым клювом.
Старушка уходила на кухню, а Кеша оставался слушать радио.
Радио Кузьминична выключала только на ночь. Кеша, наклоняя голову то одной, то другой стороной к приемнику, слушал внимательно, лузгал провиант, раскачивался на жердочке и обиженно скрипел, когда начинали передавать песни: от музыки он нервничал.
А уважал Кеша последние известия: билась в нем эта общественная жилка! Все, бывало, послушает и самые звучные слова повторит. Я ж вам не сказал: Кеша был говорящий. Поначалу старушка пугалась, потому что освоение материала происходило по ночам, а потом привыкла к этому, как раньше незаметно привыкла и к самим словам.
Но однажды радио засипело, свистнуло и смолкло – среди бела дня и рассказа о том, какой замечательный человек живет и трудится в Пукинском районе Тукинской области. Встревоженный поведением приемника, Кеша закричал старушке – та пришаркала из кухни и долила в блюдечко воды.
– Трансляция! – крикнул раздраженный Кеша и, не сдержавшись, добавил: – Дура!
Кузьминична, за тридцать лет совместной жизни не слыхавшая от Кеши грубого слова, заплакала, а он надулся и демонстративно прикрыл один глаз.
Радио Кузьминична отерла тряпочкой и унесла, и стало в квартире тихо. Щелкали ходики, скрипел диван. Кеша, надувшись, по целым дням сидел теперь на жердочке, прикрыв уже оба глаза.
Но он не спал. Он думал.
В темном, как клетка под накидкой, мозгу раздельно звучали слова – то мужским голосом, то женским. Некоторые из них сами лепились в предложения, поражавшие Кешу своей значительностью. А старушка начала надоедать: своим шарканьем, своими вздохами, своим вечным шуршанием.
– Катастр-рофа! – скрипел Кеша, мрачно поглядывая на светлое пятно на обоях, откуда раньше вещал на разные голоса толстячок-приемник. – Пр-ропал…

И хохолок поднимался на орехоподобной голове.
На третий день Кеша начал воротить от Кузьминичны клюв, а на четвертый исчез.
Если бы старый диван мог говорить, он рассказал бы старушке, как Кеша, поскрипывая, выбрался из клетки, хохотнул, обозвал Кузьминичну склеротичкой, нагадил на подоконник, перебрался на форточку, гордо осмотрел пейзаж, сказал "Пор-ра!” – и сиганул вниз.
II
Нового начальника звали Иннокентий Георгиевич Пернатых. Откуда он взялся, не знал никто, даже секретарша Инессочка, знавшая про всех всё. На выразительные взгляды сослуживцев она только пожимала плечиками и делала большие-большие глаза.
Но какие глаза ни делай, а с некоторых пор с началом шестого сигнала новый начальник появлялся в дверях собственной персоной: маленький, нос крючком, костюм голубой, рубашка оранжевая, галстук красный, носки зеленые. Явившись, он на пару секунд застывал на пороге и резкими поворотами головы строго оглядывал помещение. Голова его была похожа на орех, увенчанный бодреньким хохолком, и взгляд, надо сказать, совершенно бесстыжий.
– Здравствуйте, Иннокентий Георгиевич, – давясь помадой, говорила Инессочка. Всяких она начальников видала, но такого…
– Привет-привет, – быстро отвечал товарищ Пернатых и проходил в кабинет.
Походочка у него тоже была ничего себе.
Из кабинета сразу начинало орать радио, сопровождаемое скрипучим голосом товарища Пернатых:
– Интер-ресно! Кр-райне, кр-райне!
Послушав, чем сегодня живет страна, товарищ Пернатых начинал руководить. Распоряжения его поразили Инессочку. В первый же день Иннокентий Георгиевич вызвал зама по снабжению и велел ему ехать на Минаевский рынок и взять по безналу семечек.
Зам давно уже ничему не удивлялся.
– Сколько? – спросил он, вынув "паркер”.
Товарищ Пернатых бочком скакнул к югославской стенке, извлек оттуда кубок "За победу в III квартале 1971 года”, похожий на бадью, глянул внутрь пронзительным взглядом и, сунув заму, топнул ножкой:
– Довер-рху, чер-ртова мать!
Зам с достоинством закрыл блокнотик и удалился с бадьей наперевес, а товарищ Пернатых заскакал по кабинету.
Такое начало бросило Инессочку в жар. Новый начальник, хотя еле доходил ей до груди, был мужчина с характером, а Инессочка таких уважала.
Руководил товарищ Пернатых не хуже прежних. С самого утра, поскакав немного для разогрева, он вскарабкивался в кресло и начинал селекторное совещание.
– Впер-ред! – неслось сквозь двойные двери. – Пер-реходящее кр-расное! На тр-ридцать пр-роцентов! На сор-рок, чер-ртова мать!

Дорисовав глаза, Инессочка щелкала косметичкой и наливала из электрического самовара кипяток в специальную чашечку. Соорудив подносик, приоткрывала дверь в кабинет:
– Разрешите?
И столько всего было в этом "разрешите” – словно не чай предлагала она, ох, не чай. Услыхав из кабинета бодрое "пр-рошу”, Инессочка входила, и дивное зрелище открывалось ей.
Это был Стол, гордость Отдела. На этот Стол могли садиться самолеты. В конце взлетно-посадочной полосы, среди телефонов и канцпринадлежностей, торжественным прыщом цвела голова товарища Пернатых. Пространство вокруг было обильно заплевано шелухой. Товарищ Пернатых слушал радио.
Иногда он делал это сидя на подоконнике – в этом случае заплеванным оказывался подоконник.
Инессочка шла по ковровой дорожке, неся вдоль стола подносик и грудь. Иннокентий Георгиевич реагировал на дефиле исключительно хорошо: лузгать переставал, слушать тоже, а начинал, наоборот, говорить.
– Кр-расавица, – поскрипывал товарищ Пернатых, соскакивая на пол и норовя прислониться, – р-рыбка!
Красавица-рыбка видала и не такое. Товарищ Пернатых был не первым, чей хохолок поднимался при виде ее достоинств. Впрочем, было в Иннокентии Георгиевиче нечто, чего не хватало предыдущим начальникам: ну вот хоть взгляд этот с искрой безумия в глубине, опять-таки импозантность, напор. В общем, вопрос о мужской судьбе товарища Пернатых находился на рассмотрении.
Одарив Иннокентия Георгиевича чаем с конфетой и запахом “Шануара”, Инессочка, покачивая всем, что качалось, выплывала из кабинета.
А по четвергам серьезные мужчины стекались к приемной изо всех щелей, тихо переговаривались, входили, рассаживались вдоль взлетно-посадочного стола, с опаской поглядывая на торчащую в торце голову с хохолком.
Инессочка в такие минуты не печатала – она слушала небесную музыку руководства.
– Кр-ретины! – неслось из-за двойных дверей. – Согласно инстр-рукций, чертова мать! И доср-рочно, доср-рочно! Отр-рапортовать за р-решающий в опр-ределяющем! – неслось оттуда. – За р-работу, чер-ртова мать!
Из-за двойных дверей серьезные мужчины выходили красными, как вареные раки, – и до головы обложенные руководящими указаниями. Иннокентий же Георгиевич был свеж, скакал по кабинету, как птица какая, и без перерыву молол воздух.
– Р-рыбка! – в восторге кричал он, завидев Инессочку. – Кальмар-рчик души моей!
И приглашал в кабинетик, и, норовя прислониться, угощал коньячком из сейфа. Товарищ Пернатых нравился Инессочке все больше, и в один прекрасный вечер вопрос о мужской судьбе Иннокентия Георгиевича был решен положительно прямо в кабинете.
Товарищ Пернатых оказался темпераментен, но чрезвычайно скор. Встряхнулся, кинул "пр-риветик” – и след простыл.
А наутро с началом шестого сигнала опять стоял на пороге, осматривая помещение пуговичным глазом.

И снова-здорово – руководил, птичий сын! Лузгал семечки (в последнее время, правда, уже не семечки – зауважал товарищ Пернатых сервелат, балычок и шоколадные наборы; а что товарищ Пернатых уважал, по роду его службы само в кабинете появлялось); совещания проводил уже ежедневно, селекторные и просто так, слюной в лицо. Собирал народ, как в бане по пятницам, надувался весь и давай верещать: мол, пр-роценты, соцсорревнование, в четыр-ре года!.. И лапкой эдак по столу.
А взгляд – ну не то чтобы орлиный, но вроде того… С придурью взглядик.
А как боялись! По коридору идет – замолкают, пройдет – в спину смотрят, скроется – шепотом гадости говорят. Настоящий руководитель. В кабинет шасть, а там телефонограмма. Он папочку хвать, Инессочку по щечке хлоп-хлоп, "я полетел”, говорит, но только все врет, уж давно не летал он – на машине его возили черной, целый день шофер внизу сидел, детективы читал.
А привезет его шофер куда сказано, товарищ Пернатых из машины вылезет – еще меньше, чем был, по лесенке топ-топ, в предбанничек шмыг, а там таких, как он, дюжина, и все сидят тихо, папочки на коленках.
Потом селектор вз-зз-з, голос бу-бу – и входил Иннокентий Георгиевич вместе со всеми в кабинет, а в кабинете стол – пустыня, а не стол, а в торце товарищ Ползучих сидит – сам тощий, губы поджатые, очки на пол-лица, на сером костюме – значок. Начинал товарищ Ползучих шелестеть – чего, не слышно, а переспросить страшно. Потом на шип переходил: больш-ше, мол, лучш-ше, выш-ше. И покачивался за столом.
В глаза ему смотреть не мог никто, а товарищ Пернатых особенно: хохолок падал. Еле выползал, болезный. Но, глядишь, по лестнице топ-топ, дверцей хлоп, а вылезает уже с хохолком и надутый – весь, как был, только злее еще. Дверью кабинетной хрясь, все кнопки понажимает, народу соберет, и полчаса только дым стоит.
А то, бывало, не получит телефонограммы – так целый день прыгает себе вдоль стола, последние новости слушает. А в пятницу вечером замочком щелк, Инессочку по попке шлеп – и на дачку. Дачку Иннокентию Георгиевичу к кабинету в придачу выдали, чтоб восстанавливался на природе, неделю без отдыху вдоль стола проскакавши. Там, на дачке, товарищ Пернатых опять себя не щадил. Даже жена сокрушалась.
Женат он был – а как же! Им иначе нельзя. Всем хороша была жена, а главное – на глаза не лезла.
В выходные Иннокентий Георгиевич с коньячком боролся – до частичного посинения и временной потери подвижности. На пару с соседом, что через забор – Зубастых была его фамилия, – вдвоем самоистреблялись. А в понедельник с утреца водички попьют, в машины черненькие влезут – и дремлют аж до самого руководства.
Инессочка, умница, чаек принесет – сладкий чаек, радио заговорит – сладко заговорит, и все одно и то же, от понедельника до пятницы – все бу-бу да бу-бу: да все как один, да не сегодня-завтра, и так под это дело руководить было хорошо – невозможно сказать!
А потом…
III
Потом по радио стали передавать классическую музыку.
Включает как-то раз товарищ Пернатых приемничек – а оттуда ни слова. Все марши, да симфонии. В первый-то раз сильно встревожился Иннокентий Георгиевич, заскрипел, запрыгал по кабинету бочком. То к приемничку подскачет, голову повернет, глазом-бусинкой поблескивая, то в кресло запрыгнет, на телефон уставится: может, позвонят, объяснят, что происходит?
Послушал полчасика, как трубы воют да литавры грохают, с кресла соскочил, по кабинету попрыгал, голову свою ореховую в дверь просунул, сегодня никого не принимаю, говорит, и – хлоп! – заперся, и совсем занервничал, стакан со стола смахнул, расскрипелся, как старая дверь, а как телефон вдруг заверещал, так, извините, прямо посреди кабинета по старой-то привычке и нагадил.
Трубку снимать не стал. Решил очень мужественно: умру, а дождусь указаний по радио! Пусть, решил, дурака-то не валяют, а скажут, как народом руководить, в какую сторону вести к сияющим вершинам, с чем бороться. А из ящика, как назло, все скрипки да трубы, литавры да барабаны. Совсем извелся товарищ Пернатых, ручку оконную зубами трясти принялся, в угол забился, замолк.
Коньячку не пьет, колбаской-сервелатом не закусывает – плох стал.
Ничего, однако, страшного не произошло, обижать не стали, назавтра же все объяснили, три дня горевать велели, а там все своим чередом пошло – с коньячком да колбаской-сервелатом.
Только вдруг дисциплина товарища Пернатых начала беспокоить! С утра пораньше кнопки селекторные понажимает и два часа кряду кричит как угорелый: "Дисциплина, чер-ртова мать!” И если на минуту один кто-нибудь опоздает, сутки потом никто не работает, все пишут объяснительные в пяти экземплярах.
В общем, освоился Иннокентий Георгиевич – так что, когда опять музыка классическая зазвучала, нервничать не стал, выпил-закусил с товарищем Членистоногих, три дня горевать приготовился. Погоревал – и опять за дело.
Год пролетел как в сказке. А как снова зазвучало, во вкус входить начал товарищ Пернатых, Шопена от Бетховена отличать. Но кончился Бетховен, и Шопен кончился, – и вот тут-то странное началось.
Никогда таких слов товарищ Пернатых не слыхал; первые дни так и сидел у приемника, головой вертя – то одним глазом на чудо говорящее поглядит, то другим, а все равно ничего не поймет. А когда дошло – хмуриться начал, хохолком туда-сюда ерзать.
Потом пришлось припрятывать коньячок.
Про сервелат ничего по радио не сказали, а коньячок – пришлось. Пил теперь товарищ Пернатых тайно и в одиночку, отчего характер у него испортился окончательно.
А из приемника что ни день новое говорилось, и уже два раза снился товарищу Пернатых большой сачок и что несут его мимо персонального автомобиля, но держат почему-то вниз головой за связанные ноги.
Руководить, однако же, продолжал. Орал в кабинете пореже, но на трибуне маячил исправно: чуть где собрание – по проходу топ-топ, и только хохолок над графином торчит, но уже без бумажки, а как положено, от всей души: ускор-рение, мол, перестр-ройка, человеческий фактор-р!.. Даешь демокр-ратизацию, чер-ртова мать! Только в глазах-то тоска, а еще бы не тоска, если каждую ночь сачок снится и что несут куда-то вниз головой.
В придачу ко всему Инессочка, до того называвшая его пташечкой и курносиком, в один прекрасный день назвала так, что товарищ Пернатых, как ни силился, даже слова такого не вспомнил. После чего видел ее несколько раз с товарищем Холоднокровных из Особого сектора.
Да что Инессочка! Не до нее уже стало: приемник так раздухарился, хоть глушилкой его глуши – а вроде первая кнопка. И народ распоясался: журналисты приходили, микрофон в лицо совали, спрашивали про руководимый участок – жуть! От огорчений у Иннокентия Георгиевича почерк портиться начал. Он и до этого-то писал как курица лапой, а теперь и в собственной фамилии по три ошибки делать начал, перешел на крестик.
В общем, долго ли, коротко ли – а стал товарищ Пернатых за социализм беспокоиться: не сбились ли с пути? Больно стало за достигнутое, гордость за пройденный путь обуяла! Однажды на дачке, коньячку приняв, так товарищу Зубастых и сказал: "Не могу, – сказал, – поступиться. Чер-ртова мать!”
Только не расслышал товарищ Зубастых, чем Иннокентий Георгиевич поступиться не может: то ли принципами, то ли марципанами. Ну, да не важно.
А важно, что заговариваться начал Иннокентий Георгиевич.
Селектор утром включил, всех на связь вызвал и сказал: "Кеша – умница, дай ор-решек, дай!” И в тот же день потребовал на исходящей бумаге дополнительную визу, а когда спросили чью, несколько раз внятно повторил: "Лично товар-рища Бр-режнева”, – и зааплодировал.
После этого в кадрах и поинтересовались возрастом товарища Пернатых – и по бумагам вышло, что родился он в прошлом веке и по годам вполне мог быть завербован царской охранкой. Просто удивительно, как этого раньше никто не заметил! Надо же, удивились, какой бодрячок. И, удивившись, пошли звать Иннокентия Георгиевича на пенсию, чтобы заговаривался там.
Инессочка брезгливо сказала: “У себя”, – и снова принялась стучать на машинке, а пришедшие вошли в кабинет.
Войдя, они увидали товарища Пернатых, сидящего на корточках на подоконнике и зубами выдирающего из стены радиорозетку. Глубокое молчание нарушил сам товарищ Пернатых.
– Дело др-рянь, – понимающе проскрипел он, по очереди рассмотрел вошедших, коротко хохотнул и сиганул в открытое окно.
Товарища Пернатых хотели похоронить, но нигде не нашли.
IV
Уже месяц Кеша живет у меня.
Днем лузгает семечки, качается на жердочке и поскрипывает тихонько: кошмар-р. р-распустили нар-род. По ночам кричит нехорошим голосом, заговаривается во сне, требует сервелата и перестройки в четыре года. Поначалу я пугался, потом привык.
С судьбой Кеша, кажется, смирился и протестует, только когда я забываю вовремя подсыпать ему семечек.
Но радио слушает очень внимательно – и форточку просит держать открытой.
1990
Послесловие 1995 года
Улетел-таки, стервец! Теперь в Совете этом сидит. или в подкомитете, черт их разберет! Да вы знаете его! Ну, взгляд еще эдакий. судьбоносный, и чуть что, сразу – патр-риотизм. дер-ржавность. пр-ра-вославие!
Вспомнили? Он.
Быть ему, сукиному сыну, Президентом!

Информация к размышлению
(хроника небывшего)
Мих. Шевелеву

Старенький пастор Шлаг все перепутал, заблудился в Швейцарии и отправил шифрованную депешу не в ту сторону. Никакой утечки о переговорах с Даллесом от этого не произошло, и миссия Вольфа закончилась полным успехом: сепаратный мир был заключен.
Переброска армии Кесельринга на Восточный фронт и успехи рейхсвера на Балатоне отозвались высадкой Квантунской армии в Чите и Хабаровске и расстрелами в Москве руководителей полковника Исаева (Штирлица).
Вместо звания Героя Советского Союза аккурат в эти дни он был награжден личным крестом фюрера.
Левые в Конгрессе США покричали о предательстве, но им было указано на национальные интересы, и они набрали в рот воды.
Второго сентября 1945 года на авианосце “Зигфрид” была подписана полная и безоговорочная капитуляция коммунистической России. Поделили ее, матушку, по-честному: европейская часть СССР вошла в состав тысячелетнего рейха; а территории за Уралом попали под юрисдикцию США.
Заодно, на память о Перл-Харборе, Штаты оттяпали у японцев четыре острова с Курильской гряды. Японцы пробовали протестовать, но публичные испытания в Лос-Аламосе их убедили без всякой Хиросимы.
Немецкий атомный проект чуть запаздывал благодаря апатии физика Рунге, последний энтузиазм из которого был выбит в подвалах папаши Мюллера. Проект был реализован только в сорок девятом, и Рунге получил крест Героя национал-социалистического труда.
К тому времени между демократическим Западом и нацистской Германией уже три года шла “холодная война”…
…Штирлиц сидел в своем любимом кабачке “Элефант”, перечитывая старые радиограммы из Центра.
Новых не поступало, да и неоткуда было: на Лубянке с Рождества располагался филиал гестапо. Однажды нацистское руководство предложило Штирлицу командировку в Москву, но он отказался, потому что не хотел встречаться с женой.
Рассчитывать было не на кого, и полковник Исаев принял решение продолжить борьбу с фашизмом самостоятельно.

Между тем фатерлянд, откуда ни возьмись, заполонили убийцы в белых халатах. Они уже залечили насмерть Геббельса, его жену и шестерых детей – и по слухам, подбирались к фюреру. Их разоблачила простая немецкая медсестра, но казнить убийц не успели, потому что весной 53-го Гитлер все-таки умер – возможно, что и сам.
Когда в бункере началась дележка пирога, Штирлиц понял, что его час настал.
Летом того же года он подговорил любимца армии, маршала Гудериана, на арест рейхсмаршала СС Гиммлера – за что получил звание бригаден-фюрера и долгожданную “вертушку”.
Гадить на фатерлянд было удобнее с самого верху.
Гиммлер, как выяснилось сразу же после ареста, был завербован британской разведкой еще во времена Веймарской республики. Шпиона, тридцать лет притворявшегося видным нацистом, без лишних формальностей расстреляли в военной комендатуре Берлина.
Результатом тесной дружбы Штирлица с контрадмиралом Деницем стал доклад контр-адмирала на ХХ съезде НСДАП – о мерах по преодолению последствий культа личности Адольфа Гитлера (Шикльгрубера). Предполагалось, что доклад будет закрытым, но Штирлиц, разумеется, организовал утечку в низовые партийные организации.
“Выдержка, – любил повторять полковник Исаев, – оборотная сторона стремительности”. Только летом 1957-го у него подвернулся случай рассчитаться с папашей Мюллером за нервный денек, проведенный в его подвалах весной 45-го. Стараниями Штирлица антипартийная группировка (Мюллер, Кейтель, Роммель и примкнувший к ним Риббентроп) была осуждена на пленуме НСДАП.
Мюллер вылетел на пенсию – и до середины 8о-х развлекался тем, что пугал берлинцев, гуляя по бульварам без охраны.
Следует заметить, что всю эту антипартийную группировку сам Штирлиц и придумал.
На время Берлинского фестиваля молодежи и студентов 1958 года он уехал в Альпы покататься на лыжах – от стихов молодых поэтов на Александр-плац его мутило. Из немецкой поэзии Штирлиц предпочитал Рильке, но никому этого не говорил – растерзанный в клочья нацистской критикой, Райнер-Мария не дожил до Нобелевской премии.
Октябрьский 1964 года Пленум ЦК НСДАП застал Штирлица врасплох. Предложение группы старых нацистов повесить волюнтариста Денница на фортепианной струне не собрало большинства – опальному контр-адмиралу дали пенсионную дачу под Берлином, но его зятя из “Фёлькишер беобахтер”, конечно, поперли.
О новом лидере нации было известно, что он начинал секретарем у Бормана, и покойному фюреру однажды понравилась его выправка. Шевеля огромными бровями, новый лидер начал закручивать гайки и возвращать страну к исконным ценностям национал-социализма.
“А вот это провал”, – думал Штирлиц, голосуя “за”.
Через четыре года танки Германии и ее союзников по Варшавскому договору вошли в Прагу, где чехи пытались построить национал-социализм с человеческим лицом… “Оттепель” закончилась.
Для причинения нацизму серьезного урона Штирлицу нужен был новый пост, и, собрав все силы для решающего карьерного броска, полковник Исаев пустился во все тяжкие.
Он охотился с Герингом на кабанов в берлинском зоопарке, пьянствовал в помещении рейхсканцелярии с Кальтенбруннером, расхищал вместе с Борманом партийную кассу и неоднократно участвовал в свальном грехе с министром культуры Марикой Рокк. Все это дало результаты не сразу – только в 1971-м Штирлиц стал членом Политбюро ЦК НСДАП.

Мало кто из знавших штандантерфюрера в молодые годы узнал бы его теперь: у Штирлица появился блудливый взгляд, мешки под глазами и сильное фрикативное “г” в слове “геноссе”. Зато теперь он имел возможность впрямую влиять на политику Третьего рейха, что и делал сколько хватало фантазии.
Штирлиц начал с поворота рек Рейн и Одер, а продолжил строительством узкоколейки Бордо – Сыктывкар, бросив половину гитлерюгенда в Заполярье. Усиление борьбы с рок-музыкой удачно совпало с появлением в Мюнхене карточек на пиво и баварские сосиски. “Фольксвагены” уже давно продавались только по записи.
В целом Штирлиц был доволен итогами десятилетия. В фатерлянде еще оставалось несколько недоразваленных отраслей, но это было делом времени. “Теперь главное – Иран”, – думал он, складывая на столе спичечных зверюшек.
Вооруженная поддержка шаха закончилась, как и планировал Штирлиц, полной изоляцией Германии и бойкотом берлинской Олимпиады 1980 года. Немецкие атлеты взяли все медали себе, а диссидент физик Рунге (в прошлом трижды Герой национал-социалистического труда) был сослан в закрытый город Штутгарт, и оттуда выразил поддержку бастующим на верфях рейхсвера в Гданьске.
Вскоре после Олимпиады бровастый Генсек ЦК НСДАП получил литературную премию имени Ницше и умер.
Следом за ним, на том же посту, умерли: старинный приятель Штирлица глава разведки Шелленберг (так и не сумевший навести в фатерлянде дисциплину) и тихий, никому не известный за пределами ЦК НСДАП помощник лауреата премии Ницше.
На всех трех похоронах исполнялось “Кольцо Нибелунгов”, целиком.
В 1985 году в ошалевшей от Вагнера стране к власти пришел молодой, энергичный выходец из гитлерюгенда, давно чувствовавший необходимость коренных перемен в нацистском движении.
Первым делом (разумеется, с подачи Штирлица) он объявил войну шнапсу. Решение это дало поразительные результаты: уже через месяц заводы Круппа перешли на нелегальное производство самогонных аппаратов! Когда самогонщиков начали судить, фатерлянд встал на дыбы – и, вдохновленный работоспособностью нового отца нации, Штирлиц пошел ва-банк.
Мало кто в Политбюро ЦК НСДАП догадывался, что именно полковнику Исаеву принадлежала идея гласности унд перестройки нацистского государства. А простые немцы вообще ничего не понимали – просто в одно прекрасное утро обнаружилось, что все герои фатерлянда – не потомки Зигфрида, а дерьмо собачье.
Под окнами прогрессивной “Нойес лебен” стали собираться возбужденные строители Третьего рейха, поголовно поносить фюреров и спорить о прусской идее. Германия превратилась в библиотеку; в районных отделах НСДАП в открытую читали Фейхтвангера. Мюллер переправил в Америку свои мемуары о жутком прошлом гестапо – и ездил в Гарвард читать лекции.
В мае 1987-го в Доме культуры имени Геринга состоялся вечер памяти Брехта – и пока истинные арийцы обсуждали размеры карательной акции, “Берлинер ансамбль” поставил “Карьеру Артура Уи”.
Премьеру посетил лидер нации и произнес на банкете речь об ужасах гитлеризма. Речь вызвала восторг в прогрессивной немецкой прессе; в тот же день диссидентам, сидевшим за распространение пьесы Брехта в самиздате, ужесточили режим.
Диверсии в области идеологии Штирлиц продолжал подпирать расколом в партийных рядах. В сентябре 1987-го он еще раз ударил бутылкой по голове Холтоффа, возглавлявшего в то время берлинскую партийную организацию. Находясь в этом состоянии, Холтофф произнес яркую речь против привилегий, был исключен из Политбюро ЦК НСДАП и стал народным арийским любимцем.
Мир за пределами Германии по-прежнему сходил с ума от борца со шнапсом. Вдохновляемый Штирлицем, тот признал перегибы в работе Освенцима и личным звонком вернул из закрытого города Штутгарта опального физика Рунге.
Вывод рейхсвера из Ирана окончательно превратил борца со шнапсом в идола западной демократии.
В 1989-м Штирлиц осуществил операцию “Выборы в рейхстаг”. Из пятисот депутатских мест десять удалось отдать не членам НСДАП, протащить в высший законодательный орган Третьего рейха двух евреев и организовать прямые трансляции на всю Германию.
До последнего момента нацистская верхушка была уверена, что играет с проклятым Западом тонкую двойную игру, но депутаты рейхстага, истинные арийцы с характерами нордическими, выдержанными, в прошлом беспощадные к врагам рейха, оказавшись в прямом эфире, понесли родное нацистское государство по таким кочкам, что первыми испугались евреи.
Жизнь за пределами фатерлянда тоже била ключом: в норвежских школах перестали преподавать немецкий язык; в Польше День знаний – первое сентября – объявили днем траура. Подразделения рейхсвера, направленные остановить войну между Чешским и Словацким протекторатами из-за Моравии, были обстреляны с обеих сторон, и больше рейх уже ни во что не вмешивался.
Наконец, толпы славянской молодежи снесли Уральский хребет – и Западная Россия объединилась с Восточной.

Штирлицу уже не надо было ничего делать: нацистский режим разваливался в автономном режиме. Единственное, что позволял себе старый бригаденфюрер, – это время от времени бить бутылкой по голове Холтоффа, но и это было скорее данью традиции: нашедший себя партайгеноссе сам крушил рейх как мог…
Собственно, никакого рейха уже не было: “Дойчебанк” давал за марку полцента, гестапо окончательно перешло на рэкет; какие-то умельцы втихую акционировали имущество гитлерюгенда. Деморализованные войска вермахта, сопровождаемые улюлюканьем, покидали Варшаву и Москву.
Летом 1991 года группа отчаявшихся национал-патриотов изолировала борца со шнапсом в его резиденции на Черном море и, собравши пресс-конференцию, объявила все, что случилось в фатерлянде после смерти Гитлера, недействительным.
При этом руки у патриотов тряслись.
Ранним августовским утром Штирлиц приехал к Холтоффу и, растолкав, объяснил тому, что – пора. Попросив Штирлица покрепче ударить себя бутылкой по голове, Холтофф вышел в прямой эфир и позвал берлинцев на баррикады.
Через пару дней, подцепив тросами за шеи, берлинцы уже снимали с площадей изваяния фюрера, а свободолюбивый немецкий народ, во главе с активистами гестапо, рвал свастики и громил сейфы в здании ЦК НСДАП.
Разгромив сейфы, демократы-гестаповцы с немецкой аккуратностью жгли документы.
Вернувшийся в Берлин борец со шнапсом рейха уже не застал.
Полковник Исаев сидел в своем любимом кабачке “Элефант”, накачиваясь импортным пивом (своего в Германии давно не было). Задание, которое он дал сам себе полвека назад, было выполнено с блеском – нацистское государство лежало в руинах.
И только одно мучило старенького Максима Максимовича: он никак не мог вспомнить – где раньше видел лицо лидера либеральнодемократической партии фатерлянда, этого болтливого борца за новую Германию, вынырнувшего из ниоткуда и мигом взлетевшего в политическую элиту страны (поговаривали, на деньги Бормана).

Он вспомнил это по дороге домой – и, остановив машину, долго сосал валидол.
Лицо главного борца с гитлеризмом было лицом провокатора Клауса, агента четвертого управления РСХА, собственноручно застреленного Штирлицем под Берлином полвека назад.
Клаус не только выжил, но ничуть не постарел, а только раздобрел на спонсорских харчах – и теперь, не вылезая из телевизоров, уверенно вел фатерлянд к демократии.
Штирлиц выключил зажигание и заплакал тяжелыми стариковскими слезами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.