Текст книги "Детский поезд"
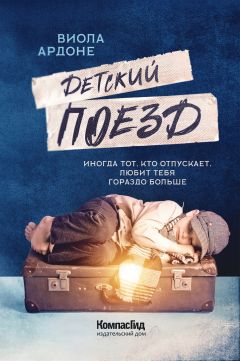
Автор книги: Виола Ардоне
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
17
Поскольку никто так и не возвращается, я выхожу сам и направляюсь в сторону поля. Завидев меня, Риво бежит навстречу, хватает за руку. Я краснею, вспомнив о дырках в мортаделле, но следую за ним в хлев.
– Корова добрая, – поясняет Риво, – а вот от быка, если заартачится, лучше держись подальше…
Я гляжу на быка и сразу понимаю, что характер у него не сахар. Навроде моей мамы Антониетты: на первый взгляд добрая и ласковая, а как ногами топать начнёт – хоть святых выноси.
Таких больших зверюг я ещё не видел. Маленьких, впрочем, тоже – если не считать Чиччо-сыра. Я рассказываю о нём Риво: надо же дать понять, что животные мне не в новинку. Чиччо-сыр был толстым серым уличным котом, который вечно ошивался у Ха балдиных дверей: та ему никогда не отказывала ни в куске чёрствого хлеба, ни в плошке молока. А вот моя мама Антониетта, едва увидев, обозвала дармоедом и выгнала прочь. Потому что не особенно сильна в общении с котами. Но мы с Томмазино всё равно твёрдо решили, что станем Чиччо-сыру хорошими хозяевами и непременно выдрессируем. Это мы на Ретифило на одного старика с учёной обезьянкой насмотрелись. Старик велел ей садиться – она садилась, велел вставать – вставала, велел танцевать – обезьянка начинала пританцовывать. Люди им хлопали, монеты в шляпу бросали, и старик в тот день немало денег загрёб, особенно возле домов побогаче. А как представление закончилось, забрал свою обезьянку и ушёл. Он потом ещё пару раз на каких-то других улицах объявлялся, и мы с Томмазино всё ждали, что вернётся: во-первых, надеялись на живую обезьянку поглазеть, во-вторых, подсмотреть стариковы трюки. Но старик исчез, будто сквозь землю провалился, и больше мы его не видели – как и обезьянку. Вот и решили: выдрессируем Чиччо-сыра – вмиг разбогатеем. Только Чиччо-сыр о наших планах и слышать не желал, а делал только то, что ему в голову взбредёт. Права была моя мама Антониетта: не поддаются коты дрессировке. Зато у нас был собственный питомец. Мы его гладили, он тёрся о наши ноги, а завидев в конце переулка, всегда подходил, задрав хвост.
А потом исчез и Чиччо-сыр. Мы всё обыскали, каждый уголок, но так его и не нашли. Я для себя решил, что он к старику с обезьянкой ушёл и живёт теперь в богатстве и роскоши. Тюха, конечно, ворчала, что люди с голодухи даже кошек жрут, только я ей не поверил. Хотя, по правде сказать, Чиччо-сыр знатно отъелся на Хабалдиных хлебе с молоком – может, у кого и мелькнула мыслишка.
Впрочем, Риво не даёт мне дорассказать. Его послушать, так все кошки рано или поздно возвращаются. Уж такие они животные: бывает, надолго исчезают, но дорогу домой никогда не забудут.
– Я больше собак люблю, – говорит. – А ты?
– Кошек. Они ведь как я: в конце концов непременно домой вернутся.
Риво уже возле коровы:
– Не бойся, подойди, она добрая, – и прямо промеж рогов трогает. А она даже хвостом не ведёт. Видать, тоже дрессировке не поддаётся. Риво ко мне оборачивается: – Давай, погладь!
Я протягиваю руку, касаюсь кончиками пальцев. Шерсть у коровы не такая мягкая, как у Чиччо-сыра, и дух от неё животный, а принюхаться – так воняет сильнее, чем у Тюхи. Глажу снова, уже всей ладонью. А у неё глаза блестят и вид понурый, как у мамы в тот день, когда мы к коммунистам ходили и она мне потом жареную трубочку купила.
18
До чего же не хочется надевать халатик с бантом, как у девчонок! Кажется, сейчас со стыда сгорю. Но Дерна, похоже, довольна, вот я и молчу. Она меня будто к празднику готовит, а не к неизбежным подзатыльникам, запаху пота и бесконечным чёрточкам в тетради.
– Я ведь уже все цифры знаю, – пытаюсь возразить я. – Могу на пальцах десять раз по десять сосчитать!
– Нужно ещё буквы выучить, деление, географию…
– Буквы мне не нравятся. Вон, мама моя их вовсе разобрать не может – и ничего! Зачем они вообще нужны?
– Чтобы тебя не одурачили те, кто их знает. Пойдём… – она берёт меня за руку, и мы выходим. Тумана сегодня нет: видно, как из дома напротив выскакивают Риво и Люцио – тоже в торчащих из-под курток чёрных халатиках и с ранцами, как у меня. Риво, подбежав, первым делом сообщает новости: оказывается, корова стельная, скоро родится телёнок. А вот Люцио не торопится: пинает каждый камешек, имевший несчастье попасться ему на пути.
– Может, в этой новой школе для меня и места не будет?
– У меня в классе есть свободные парты, – бормочет Люцио, не поднимая глаз.
– Я вчера говорила с директором, – подтверждает Дерна. – Будешь учиться вместе с Люцио: ты, правда, на год постарше, но всё-таки немного отстал. Ну же, улыбнись: значит, даже в школе сможешь общаться с семьёй!
Тут Люцио пинает очередной камешек и бежит за ним, а Дерна с нами прощается: ей пора на профсоюзное собрание.
– Прошу тебя, сынок, веди себя прилично! – и она удаляется в противоположную сторону. Потом вдруг замирает как вкопанная и кричит мне: – Стой, Америго, подожди! Вот голова-то дурная: завтрак отдать забыла!
Мне сразу вспоминается мамино яблоко, по-прежнему лежащее на столе. А Дерна уже достаёт из сумки что-то завёрнутое в салфетку и пахнущее лимонным пирогом. Я кладу это в ранец и торопливо шагаю вслед за Риво.
– Надо телёнку имя выбрать, – говорит тот. – Вот ты бы как назвал?
Я думаю предложить Луиджи – в честь моего брата, который умер от бронхиальной астмы, – но не успеваю и рта открыть, как Люцио вопит:
– Я сам! Моя очередь имя выбирать! Договари вались, чтобы всем по одному, так что этот телёнок – мой!
Риво несётся за ним, отнимает камешек и пинает с такой силой, что тот скачет до самых ворот школы. Я пытаюсь их догнать, но запутываюсь в халатике и прихожу последним.
Учитель в этой школе – совсем молодой мужчина по имени синьор Феррари. Усов он не носит и чуточку картавит, когда объявляет, что я – один из тех детей, что приехали с Юга на поезде, и все должны оказать мне самый тёплый приём, чтобы я почувствовал себя как дома. А я думаю, что дома у нас обычно бывало холодно: пусть лучше встречают как у них дома.
Люцио садится за первую парту, рядом с кудрявым светловолосым пареньком, а единственное свободное место обнаруживается в глубине класса, среди тех, кто повыше. Я пристраиваюсь там и жду, пока закончатся уроки, но время тянется ужасно медленно. Синьор Феррари говорит: возьмите тетради в клетку – и все их берут; потом говорит: возьмите тетради в линейку – и все снова берут. Похоже, в этом классе необходимости в подзатыльниках нет: дети уже дрессированные, как обезьянка у старика с Ретифило. В какой-то момент звенит звонок. «Слава Мадонне, всё кончилось», – думаю я и, натянув куртку, направляюсь к двери. Остальные хохочут. Я ничего не понимаю, но возвращаюсь на своё место, а синьор Феррари объясняет: это звонок на перемену, сейчас можно позавтракать. Все вскакивают с мест, собираются кучками, болтают. А я вспоминаю про салфетку с лимонным пирогом и, усевшись за последнюю парту, начинаю есть – медленно-медленно, чтобы растянуть на подольше. В школе с подзатыльниками перемен не было, как и лимонного пирога, а звонок означал только одно: бить сегодня больше не будут.
Наконец синьор Феррари говорит, что перемена окончена, и все рассаживаются по местам.
– Что ж, давайте теперь повторим таблицу умножения на два. Бенвенути, к доске.
Люцио поднимается, берет кусок мела и начинает выписывать цифры. Потом застывает, уставившись на доску, и только рот беззвучно разевает.
– Садись, Бенвенути, – видно, что учитель сердится, но пока вроде обходится без подзатыльников. – Ну, кто скажет, сколько будет дважды семь?
Все молчат, даже не дышат. И только Люцио подаёт голос:
– Синьор учитель, а спросите Сперанцу!
– Сперанца новенький, – отвечает тот, – он только что приехал, давайте дадим ему время освоиться…
– Но он же должен почувствовать себя как дома, синьор! – смеётся кто-то.
Учитель нерешительно улыбается – похоже, подзатыльников от него не дождёшься.
– Сперанца, ты знаешь, сколько будет дважды семь?
Я вижу, что все на меня уставились, но слышу только эхо собственного голоса:
– Четырнадцать, синьор учитель.
Люцио смотрит на меня так же, как смотрел, когда застал с мортаделлой: будто я снова что-то украл. А вот синьор Феррари, похоже, удивлён, но доволен.
– Браво, Сперанца! Выходит, ты в Неаполе уже проходил таблицу умножения на два?
– Нет, синьор учитель, – говорю, – я в Неаполе только ботинки считал, а они всегда парами ходят.
Когда звенит последний звонок, а значит, пора собираться, учитель велит нам всем взяться за руки. Я один в круг не встаю. Поначалу никто этого не замечает, но потом подходит один из тех, кто сидел за первыми партами, берет меня за руку и выдыхает:
– Мняулианозвут.
Я киваю, но молчу, поскольку с таблицей умножения на два, как выяснилось, знаком неплохо, а вот в иностранных языках не особенно силён.
19
Мортаделла с дырами от моих пальцев куда-то исчезла, хотя салями по-прежнему висят на кухне. Правда, мне пока никто ничего не сказал. Будь здесь моя мама Антониетта, она бы меня уже выбивалкой по всему переулку гоняла! Но на Севере, похоже, наказания не в чести, и это гораздо хуже: никогда не знаешь, чем дело кончится. Сегодня, к примеру, мне приснилось, будто в дверь постучали. Открываю – там полиция: уводят меня, сажают в тюрьму, в одну камеру с Долдоном. А тот и говорит: «Меня – за кофе, тебя – за мортаделлу, никакой разницы, понимаешь?» Я, конечно, во сне ответил: «Нет! Я вовсе не такой, как ты!» – вот только, проснувшись, уже не был в этом так убеждён.
Возвращаясь из школы, я слышу голос дона Альчиде:
– Спать не должно! Спать не до-о-олжно![16]16
Стихи из арии Nessun dorma («Спать не должно») из оперы «Турандот». Либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони, музыка Джакомо Пуччини.
[Закрыть]
Он частенько напевает известные арии из опер, но на этот раз я чувствую намёк на свои делишки, поэтому стараюсь прокрасться мимо, не попавшись ему на глаза. Да только он всё равно меня замечает:
– Ты куда это? Не хочешь сперва ничего рассказать?
Я с независимым видом сую руки в карманы и, обнаружив там шарик Люцио, начинаю катать его между пальцами. Но не отвечаю.
– А то я тут кое-что про тебя узнал… Просто думал, ты сам мне скажешь…
– Дон Альчиде, только пообещайте не сильно наказывать!
– Да с чего бы мне тебя наказывать, сынок?
– И полицию звать не станете?
– Полицию? Вроде бы за хорошие оценки ещё никого не арестовывали…
– А, так вы, верно, с синьором Феррари говорили? – вынув руки из карманов, выдыхаю я.
– Именно! И он мне сказал, что в числах ты уже довольно силён, теперь нужно ещё над буквами поработать.
– Мне числа тем нравятся, что никогда не кончаются…
– Должно быть, это потому, что у тебя страсть к музыке. А если хочешь научиться играть на музыкальном инструменте, нужно уметь считать.
С доном Альчиде никогда не поймёшь, смеётся он или серьёзно. Вот и сейчас: подходит к буфету, берет кусок мортаделлы, отрезает два ломтика.
– Значит, вы на меня не сердитесь?
– Разве что немножко. Ты ведь всё ещё зовёшь меня на «вы», а мог бы уже хоть разок папой назвать, – с этими словами он нарезает хлеб, кладёт между двумя ломтями мортаделлу и заворачивает получившиеся бутерброды в салфетки. – Один тебе, один мне. Ну, пошли?
В мастерской пахнет деревом и клеем. Здесь много разных музыкальных инструментов – одни целые, другие разобранные на части: ждут, пока их вместе сложат.
– И что мне делать? – спрашиваю.
– Садись и смотри, – отвечает дон Альчиде и приступает к работе: режет, пилит, приколачивает. А в перерывах всё мне объясняет. Я его слушаю, наблюдаю, и время просто летит – не то что в школе. За работой Альчиде больше помалкивает: говорит, дело требует сосредоточенности. Время от времени дёргает струны, зажимает клапаны и показывает мне разницу между звуками.
– Слышишь? – спрашивает.
Потом достаёт из жилетного кармана гнутую стальную трубочку, легонько ударяет ею по корпусу пианино и прижимает к крышке: звук такой, будто корабль гудит, когда от причала отходит, только далеко-далеко.
– Легкотня! На этой штуке и я сыграю!
– Она называется камертон и издаёт только одну ноту. Зато по ней можно любой инструмент настроить. Вот, сам попробуй.
Я прижимаю камертон к деке и тут же чувствую дрожь: от кончиков пальцев она проникает в руку и уже по ней поднимается до самого затылка, будто я снова выкрутил лампочку из ночника на маминой тумбочке и меня ударило током. «Так тебе и надо, – сказала тогда мама, – а если разобьёшь, ещё наподдам». Но только эта дрожь приятная, радостная.
Приходит время перекусить, а я и проголодаться не успел. Альчиде наливает себе стакан красного вина, мы садимся за стол друг напротив друга и едим, как двое взрослых. Он говорит, мол, отец его ремеслу не учил, всё сам. Отец фермером был, и он тоже землю любит, но музыку любит больше и слух у него хороший. А я вот про отца ничего не знаю, но думаю, что хочу заниматься музыкой – как подрасту, конечно.
Инструменты в мастерскую привозят не только из Модены, но и из соседних городов. Привозят и оставляют, а Альчиде сидит себе за верстаком и чинит потихоньку. Хорошо у него в мастерской. Мне даже начинает казаться, будто я тоже сломанный инструмент и он меня починит, а потом вернёт туда, откуда привезли.
– Смотри, – говорит Альчиде, – вот гитара, вот тромбон, вот флейта, вот труба, вот кларнет. На чём хочешь попробовать?
– А скрипка есть? – уточняю я, поскольку Каролина, моя подруга из музыкальной школы, именно на ней и играла.
– Скрипка – это тебе пока сложновато. Давай-ка, – он сажает меня на стул перед пианино и показывает, как нажимать на клавиши, чтобы вышли семь уже известных мне нот. Я пробую снова и снова, потом начинаю добавлять другие ноты, совсем как цифры, и звуков становится бесконечное множество. Я даже успеваю представить себя дирижёром, навроде того, которого видел в театре, куда мы с Каролиной пару раз пробирались во время репетиции.
Дон Альчиде хлопает, я встаю, раскланиваюсь, и тут входит дама в мехах.
– Здравствуйте, синьора Ринальди.
– Добрый день, синьор Бенвенути. Смотрю, сегодня вам сынок помогает? Похож на вас.
Мы с Альчиде смущённо переглядываемся: а ведь и правда, оба рыжие.
– Не зря я велел звать меня папой! Вот и синьора Ринальди подтвердит. – Он уходит куда-то в глубину склада и уже оттуда добавляет: – Нет, синьора, это не мой сын, просто погостит здесь немного. Но для нас с Розой он такой же родной, как и остальные мальчишки.
Я остаюсь наедине с синьорой Ринальди.
– У Розы ведь родственники где-то в Сассуоло, если не ошибаюсь? Ты оттуда приехал?
– Нет, синьора, меня на поезде привезли. На детском поезде.
Альчиде, вернувшись, кладёт на верстак скрипку, и я сразу вспоминаю о Каролине, о её мозолистых, изрезанных струнами кончиках пальцев.
– Я тут всю фурнитуру заменил, – тем временем объясняет Альчиде синьоре Ринальди.
Синьора надевает очки и начинает вертеть скрипку в руках: то с одной стороны заглянет, то с другой, то струны пощиплет – проверяет, хорошо ли сделана работа, нет ли где брака. Наконец, убедившись, что всё в порядке, благодарит Альчиде и, сдвинув очки на кончик носа, переводит взгляд на меня – тоже изучает, как инструмент: вдруг я бракованный?
– Бедные малютки… Привезти их сюда… Сколько часов в вагоне, сплошные неудобства… А потом, когда эти чудесные каникулы закончатся, им придётся вернуться к тому же нищенскому существованию… Разве не лучше было бы дать их семьям денег, а не тащить сюда детей? – и она, печально улыбнувшись, даёт мне монетку.
Альчиде встаёт сзади, кладёт руки мне на плечи. Сжимает крепко, но молчит.
– Впрочем, – продолжает синьора Ринальди, – это всё-таки лучше, чем ничего. Хотя бы ремеслу выучишься. Ты чем хочешь заняться, когда вырастешь? Тоже станешь музыкальные инструменты чинить?
Рука Альчиде давит мне на плечо, словно вжимая в пол, и я вдруг осознаю, что этой руке, такой лёгкой в работе с инструментами, вполне хватает тяжести, чтобы удержать меня на месте и не дать сбежать. Синьора тем временем берёт скрипку и уже собирается уходить.
– Нет, – отвечаю я наконец. – Не хочу я чинить инструменты, когда вырасту.
Пальцы Альчиде, как каменные, по-прежнему сжимают мои плечи, а сам он, присев рядом, мне в лицо всматривается, будто впервые видит.
– Ах, вот как? – удивляется синьора. – И чем же ты тогда хочешь заниматься?
– Играть на них хочу. Чтобы люди деньги платили за то, чтобы меня послушать.
Я возвращаю ей монетку, и синьора, не произнеся больше ни слова, уходит. А я наконец снова чувствую себя Нобелем, как в нашем переулке.
20
Роза испекла пирог с лимонным кремом, раскатала тесто на домашнюю пиццу с салями и сыром. Сказала, для Риво и Люцио то же самое готовит, когда они именинники.
– А у тебя обычно что бывает на день рождения?
В прошлом году, к примеру, была лихорадка. Даже доктора вызывали. Ещё и Хабалда пришла. Моя мама Антониетта сидела бледная-бледная, но не плакала – моя мама Антониетта вообще никогда не плачет, – только на фотокарточку моего старшего брата Луиджи над комодом смотрела и тут же глаза отводила. А доктор глядел так, будто обнаружил, что припрятанную на завтра последнюю порцию дженовезе уже кто-то съел. «Лекарство, – сказал, – купить нужно». Но мама дождалась, пока он уйдёт, и только потом, сунув руку в вырез платья, где держала чудотворный образок Святого Антония – с бесами воина, достала платок со сложенными пополам купюрами.
– Что говорить, в прошлом году был подарок так подарок.
Роза улыбается:
– А на этот день рождения, который ты с нами встретишь, чего бы хотел?
– Да что угодно, лишь бы не как в тот раз.
Роза накрывает пиццу ещё одним слоем теста, смазывает маслом. По радио звучит какой-то весёлый мотив, и она порхает по кухне, словно танцовщица, которую я как-то видел на американской вечеринке.
– Поставим в духовку, когда Дерна придёт, чтобы была горячей. А пока помоги мне накрыть на стол, побудешь сегодня моим кавалером.
Она берёт меня за руку, и мы кружимся в танце прямо посреди кухни. Нери, глядя на нас с высокого стульчика, хлопает в ладоши, но всё время не в такт. Потом Роза делает пируэт, и я спотыкаюсь об её ногу. Ей смешно, а вот я краснею.
– В юности мы с Альчиде часто ходили на танцы, это сейчас я только на кухне танцую…
– А вот мы с мамой никогда не танцевали. Даже на кухне.
Дерна, вернувшись с работы, говорит, что у неё для меня сюрприз. Я спрашиваю, какой именно, но она отмахивается: «Всему своё время». Тем временем Роза, подхватив пиццу, выходит во двор, и я бегу за ней, помогать: я ведь сегодня её кавалер. Печь обнаруживается сразу за хлевом, приходится даже голову запрокинуть, настолько она огромная. Только вот я ещё ни разу не видел, чтобы заслонка была открыта. И тотчас же вспоминается фотография, которую Тюха мамам показывала, чтобы убедить их никуда нас не отпускать. Ноги вдруг становятся ватными, и я опрометью бросаюсь в хлев. Роза бежит за мной и находит свернувшимся в комочек возле коровы, что должна вот-вот разродиться: у меня не хватает духу даже просто поднять глаза.
– Что с тобой? Переволновался из-за праздника?
Я отворачиваюсь, молча гляжу в землю.
– Что случилось? Не бойся, скажи мне! В школе обидели?
Корова дышит мне в затылок тёплым, но говорить я не в силах.
– Снова тебя задирали?
Это случилось в один из первых школьных дней. Бенито Ванделли, мальчишка с последней парты, обозвал меня грязным неаполитанцем, а когда я подошёл ближе, зажал нос, будто тухлой рыбой завоняло. Но Улиано, тот, что сидел в первом ряду, а теперь сидит рядом со мной, сказал, чтобы я не обращал внимания: мол, в начале года Бенито самого задразнили, вот он и стал злым.
А вечером, в мастерской, пока мы полировали пианино, которое должны были скоро отправить, Альчиде сказал мне, что злых детей нет, есть только предвзятость: вроде как судить о вещах, не до конца разобравшись, просто потому что кто-то втемяшил тебе в голову свои мысли и теперь их уже ничем не вышибешь. И предвзятость эта – разновидность невежества, так что всем, а не только моим одноклассникам, стоит последить за собой, чтобы ни о чём не судить предвзято.
На следующий день, когда Бенито снова обозвал меня грязным неаполитанцем, Улиано подскочил к нему и прошипел: «Заткнись, тебя вообще в честь фашиста назвали!» Бенито не ответил, просто ушёл к себе на последнюю парту. А я сидел и думал: разве он виноват, что ему дали не то имя? Выходит, хорошим людям тоже случается быть предвзятыми. Совсем как мне сейчас: увидел огромную Розину печь – и, забыв про всё хорошее ко мне отношение, тут же поверил Тюхиной болтовне о коммунистах, которые детей едят. Да ещё и побежал за стельной коровой прятаться, только ботинки в коровьем навозе испачкал. И как раз сегодня, в день моего рождения.
– Вы уж простите меня, Роза… – бормочу я, вылезая из своего убежища. – Это всё от волнения. По правде сказать, у меня никогда ни праздника не бывало, ни подарков, разве что старая шкатулка, которую мне мама Антониетта отдала. Я потому и счастливым-то быть не умею.
Роза обнимает меня, и её руки пахнут опарой. Я чувствую тепло коровьего дыхания за спиной и тепло Розы, прижимающей меня к груди. Волосы у неё тоже мягкие, как вата, только тёмные – в тон глазам. Не знаю, что в этот момент на меня находит, но я вдруг понимаю, что молчать больше не могу, и сознаюсь:
– Это я… я – тот вор, что мортаделлу крал…
Роза гладит меня по голове, касается пальцами уголков глаз, словно пытаясь утереть слёзы.
– В нашем доме воров нет.
И, взяв меня за руку, ведёт обратно в дом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































