Текст книги "Детский поезд"
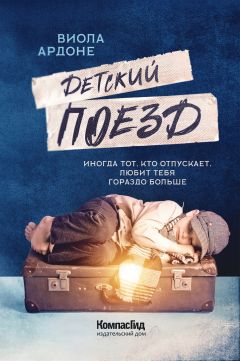
Автор книги: Виола Ардоне
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
10
Темнота вдруг сменяется ослепительным светом: поезд выскакивает из туннеля, и огромная луна сразу же заливает белым всё вокруг – дорогу, деревья, горы, дома. А сверху сыплются столь же белые крошки, какие побольше, какие поменьше.
– Снег! – шепчу я, чтобы убедить себя в реальности происходящего. Потом повторяю, уже громче: – Снег, снег!
Но никто в купе не просыпается – даже белобрысый, который врал, что нас в ледяных домах поселят. Вон, погляди на свою Россию! Я снова прижимаюсь лбом к стеклу: хочу последить за медленно падающими снежинками… И тут глаза наконец закрываются.
– Рикотта! Рикотта! – будит меня крик Мариуччи. – Америго! Амери!.. Просыпайся скорее, тут вся земля рикоттой усыпана! Повсюду валяется: на дороге, на деревьях, на верхушках гор! Тут даже дождь из рикотты идёт!
Ночь давно кончилась, в окно заглядывает солнце.
– Какая ещё рикотта, Мариу? Это же снег!
– Снег?
– Ну да, вода замёрзшая.
– Как та, что дон Мими в тележке возит?
– Навроде того. Только, видишь, тут вишен сверху не кладут, – зеваю я: глаза опять слипаются.
Даже в натопленном вагоне чувствуется, что снаружи холодно. Все дети, разинув рты, глядят на белое чудо за окном. По-моему, они даже не дышат.
– Что, неужели вы раньше такого не видели? – удивляется Маддалена.
Мариучча молча качает головой: стыдно ей, что приняла снег за рикотту. Какое-то время мы молчим, будто снегом засыпанные.
– Синьорина, а синьорина? – не выдерживает наконец щербатый. – Нам же, как доедем, поесть-то дадут? У меня с голодухи живот подводит хуже чем дома…
Маддалена улыбается – это она всегда так на вопросы отвечает. Сперва улыбается, а потом говорит:
– Товарищи из Северной Италии готовят нам торжественную встречу. С флагами, оркестром и целой горой еды.
– А с чего им так радоваться, что мы приедем? – вырывается у меня.
– Может, их кто заставил? – подхватывает Мариучча.
Маддалена говорит, мол, нет, они просто ужасно рады.
– Рады, что мы приедем и всё у них сожрём? – недоверчиво переспрашивает белобрысый. – Это ещё почему?
– Потому что у нас со-ли-дар-ность.
– Это что-то вроде до-сто-ин-ства? – перебиваю я, стараясь сделать лицо, как у Тюхи, только что сквозь зубы не сплёвываю.
Маддалена объясняет, что да, солидарность – это как достоинство, только в отношении других:
– Вот, скажем, есть у меня две палки салями, а у тебя нет. Я с тобой поделюсь, но и ты, когда у тебя будет два куска сыра, тоже со мной поделишься.
Неплохая, выходит, штука эта солидарность, думаю я. Вот только одно странно. Допустим, у жителей Северной Италии есть две палки салями и одну они отдадут мне. Но как я смогу в ответ поделиться с ними сыром, если до вчерашнего дня у меня и ботинок-то собственных не было?
– А я однажды пробовал салями, – сглатывает Томмазино: видать, от одних воспоминаний слюнки текут. – Мне колбасник с виа Фориа подарил…
– Что, прямо так взял и подарил? – Мариучча, пихнув Томмазино в бок локтем, щёлкает пальцами: стянул, небось?
Томмазино неловко усмехается, и я, зная его не пер вый день, лихорадочно пытаюсь сменить тему. К счастью, Маддалена меня не слышит, потому что остальные дети снова начинают кричать. Я проталкиваюсь к окну и вижу за заснеженным полем что-то новое. Только сперва даже не понимаю, что именно, настолько оно незнакомое: ровное, неподвижное и серое, будто кошачья шерсть.
– Что, моря тоже не видели? – хохочет Маддалена. – Уж его-то вы должны были узнать!
– А моя мама Антониетта говорит, море – штука совершенно бесполезная, от него только холера и в горле першит.
– Это правда, синьорина? – хмурится Мариучча: всё-то ей не так.
– Ну, в море можно мыться, – начинает перечислять Маддалена, – плавать, нырять, развлекаться…
– Значит, коммунисты из Северной Италии нас и нырять научат?
– Так точно, синьор! Но не сейчас, конечно, сейчас слишком холодно. Когда лето придёт.
– А я плавать не умею… – признаётся Томмазино.
– Да ну? – поддразниваю его я. – Ты же летом на Искью едешь, забыл?
Он, скрестив на груди руки, обиженно отворачивается.
– Если нас и отвезут к морю, то разве для того, чтобы утопить, – вмешивается белобрысый. По-моему, он и сам своим словам не верит, а языком болтает, только чтобы Мариучча опять расплакалась.
– Это всё сплетни, – обрывает его Маддалена, – нечего их слушать…
– А у вас, простите, дети есть? – не унимается тот.
Я вижу, что Маддалена впервые за всё это время мрачнеет. И тут же бросаюсь на её защиту:
– Какие ещё дети? Она ведь не замужем!
– Ну, а если бы были, – настаивает белобрысый, – вы бы их в наш поезд посадили? Или всё-таки нет?
– Да что ты вообще понимаешь! – кричу я. – В поезде с нами только те, кто нуждается в помощи, а не те, у кого и так всё есть. Иначе что это за солидарность?
Маддалена молча кивает.
– А скажите честно, – с озорным блеском в глазах спрашивает Мариучча, – тот молодой человек на вокзале, который вам помогал детей считать, – ваш возлюбленный?
– Почему сразу возлюбленный? – снова вмешиваюсь я, чтобы не смущать Маддалену. – Он тоже коммунист, я его как раз перед отъездом в городе видел…
– И что? Хочешь сказать, если коммунист, то и влюбиться не может?
– Некогда ему! Тут южный вопрос надо решить, не время о любви думать…
– У любви множество лиц, и не только то, о котором вы думаете, – перебивает Маддалена. – Скажем, сидеть здесь с вами, несносными сорванцами, – это что, не любовь? А ваши мамы, посадившие вас в поезд и отправившие за тридевять земель, в Болонью, Римини, Модену… разве они вас не любят?
– Как так? Кто же отсылает прочь тех, кого любит?
– Знаешь, Амери, иногда тот, кто отпускает, любит тебя гораздо больше, чем тот, кто удерживает…
Этого я не понимаю, но переспрашивать не решаюсь. Маддалена говорит, что должна проверить, как там другие дети, и уходит, а мы с Томмазино и Мариуччей, чтобы скоротать время, садимся играть в «Камень, ножницы, бумага».
Но вот поезд наконец замедляет ход, потом и вовсе останавливается. Девушки велят нам посидеть спокойно и подождать, пока подойдёт наша очередь выходить, а на платформе – не разбегаться, не то заблудимся и отобьёмся от остальных, а какая же это солидарность, если каждый сам по себе?
На вокзале нас встречает оркестр под белым транспарантом. «Добро пожаловать, дети Юга», – читает нам одна из девушек. Значит, именно нас и ждут. Похоже на праздник Мадонны дель Арко[14]14
Праздник Мадонны дель Арко ежегодно проводится в честь чудотворного образа Богоматери из предместья Неаполя Сант-Анастазия.
[Закрыть], только одеты не в белое. И на колени с воплями «Мадонна!» не падают.
Похоже, все девушки из нашего поезда знают песню, которую играют музыканты, потому что через каждые две-три строчки выкрикивают: «Белла, чао, чао, чао!», а в конце вскидывают кулаки к серому, затянутому узкими длинными облаками небу. Мариучча и Томмазино думают, кулаки – это знак единства, но я им рассказываю про коммунистическое приветствие, которому научила меня Хабалда, и чем оно отличается от фашистского, которому научила Тюха. Сказать по правде, когда они, то есть Хабалда с Тюхой, встречались у нас в переулке, мне казалось, будто они спятили и решили в «Камень, ножницы, бумага» сыграть.
Я встаю в пару с Мариуччей, за нами Томмазино с парнишкой постарше, и мы идём сквозь толпу людей с трёхцветными флажками: одни нам только улыбаются, другие хлопают в ладоши, третьи машут рукой. Считают, наверное, что мы в лотерею выиграли и теперь приехали в Северную Италию с ними делиться, а не наоборот. Усатые мужчины в шляпах, собравшиеся под красным флагом с молотком и жёлтым полумесяцем, поют ещё одну незнакомую мне песню, время от времени выкрикивая: «С ин-тер-на-ци-о-на-а-а-а-алом…»
Потом начинают петь и женщины, жёны тех усатых в шляпах, что стоят под красным флагом. Но эту песню я уже слышал – её пела Маддалена, когда прогнала Тюху: про женщин, которые не боятся, хотя они женщины – или, не знаю, может, как раз поэтому. Голоса срываются, многие поют со слезами на глазах. Я не очень разбираю слова, но они, ясное дело, про мам и детей, потому что в какой-то момент и девушки из поезда, и коммунистки Северной Италии, глядя на нас, улыбаются, словно все мы – их дети.
Нас приводят в большой зал: по стенам флаги, трёхцветные и красные, а в центре – длиннющий стол, и на нём чего только нет: и сыр, и ветчина, и салями, и хлеб, и паста… Мы уже хотим наброситься и сразу всё съесть, но одна из девушек останавливает:
– Не спешите, ребята, тут на всех хватит. Каждый получит тарелку, столовые приборы, салфетку и стакан для воды. Голодать здесь никто не будет.
А Томмазино, подтолкнув меня локтем, шёпотом добавляет:
– Кроме тех коммунистов, что детей едят. Ну ничего, они и глазом моргнуть не успеют, как мы сами их сожрём!
Мы с Мариуччей и Томмазино садимся рядом. Потом склоняемся над тарелками – и наступает гробовая тишина: там у каждого по ломтику розовой ветчины, сплошь в жирных белых пятнах, и немного сыра – один кусок совсем раскисший, другой твёрдый, как камень, третий вообще пахнет немытыми ногами. Мы нерешительно поглядываем друг на друга, но есть никто не начинает, хотя по глазам видно, как все оголодали. К счастью, появляется Маддалена.
– Что такое? Аппетит пропал?
– Синьорина, так ведь эти, с Севера, нам испорченную еду подсунули! Вон, на ветчине пятна, а на сыре плесень, – бормочет Мариучча.
– Точно отравить хотят! – встревает тот противный белобрысый мальчишка без трёх передних зубов.
– При всём уважении, если мне в жизни только холеры и не хватало, почему бы мидий в порту не поесть? – поддакивает Томмазино.
Но Маддалена просто берёт ломтик ветчины с пятнами и отправляет в рот. Говорит, придётся нам привыкать к этим новым блюдам: к мортаделле, пармезану, горгонзоле…
Тогда я, собравшись с духом, пробую небольшой кусочек ветчины – той, что с пятнами. И Мариучча с Томмазино, поняв по моему лицу, что это штука вкусная, тоже пробуют – и больше от тарелок уже не отрываются. Мы сметаем всё подчистую, даже раскисший сыр и ломти с зелёной плесенью, а под конец и твёрдые кубики, настолько солёные, что язык сводит.
– А моцареллы тут не держат? – интересуется Томмазино.
– Нет, дружок, за моцареллой – это тебе в Мондрагоне, – усмехается Маддалена.
Тут девушка-коммунистка подкатывает тележку, всю уставленную чашками с какой-то белой пеной.
– Рикотта, рикотта! – вскрикивает Мариучча.
– Снег, снег! – передразнивает её Томмазино.
Я зачерпываю пену ложкой и кладу получившийся шарик в рот. Он безумно холодный, а на вкус – как молоко с сахаром.
– Сладкая рикотта! – настаивает Мариучча.
– А вот и нет, граттатела с молоком! – возражает Томмазино.
Мариучча потихоньку начинает есть, но под конец оставляет немного пены в чашке.
– Неужели мороженое не понравилось? – спрашивает Маддалена.
– Не очень… – шепчет Мариучча, но всем понятно, что это неправда.
– Ладно, давай тогда отдадим остатки Америго и Томмазино…
– Нет! – вопит Мариучча, и по её щекам катятся крупные слёзы. – Я… я на самом деле хотела немного братьям оставить… чтобы дать попробовать, как домой вернусь… Думала в карман платья спрятать…
– Да ведь мороженое нельзя спрятать в карман, оно растает!
– А если растает, какая же это солидарность?
– Держи, вот тебе для солидарности, – и Маддалена достаёт из сумки пригоршню конфет. – Их можешь оставить братьям.
Мариучча берет конфеты и осторожно, будто бриллианты, кладёт в карман. А потом доедает последнюю ложку мороженого.
11
Потом девушки-коммунистки, усадив нас в ряд на длинной скамье, ходят взад-вперёд с чёрными книжечками в руках: смотрят номера у нас на рукавах, переспрашивают имя с фамилией, что-то записывают.
– Анникьярико Мария? – спрашивает одна у Ма риуччи. Та кивает, и девушка, прицепив ей на грудь красный значок, поворачивается к Томмазино: – Сапорито Томмазо?
– Здесь! – вскакивает тот. Девушка завязывает ему шнурки и, протянув значок, уходит.
– А я Сперанца, – кричу я вслед.
Она оборачивается, находит в списке мой номер и что-то помечает.
– А значок? – спрашиваю я, видя, что она уходит.
– У меня больше нет, но не волнуйся, товарищ сейчас принесёт ещё.
Я жду-жду, жду-жду, но больше никто не приходит, и я потихоньку начинаю беспокоиться.
Тут в зал заходит множество семей из Северной Италии. «Детей не выбирают», – вечно вздыхает моя мама Антониетта, когда я её достаю. Но здесь всё иначе. Одни явились вместе с сыновьями или дочерьми, другие, как мужчины, так и женщины – поодиночке. Бездетные кажутся более взволнованными: наверное, считают, что сейчас собственного ребёнка заведут.
В Северной Италии народ повыше и потолще, чем у нас, и лица такие бледно-розовые – похоже, слишком много ветчины с пятнами едят. Может, я тоже со временем таким стану и, когда меня вернут домой, вытянувшегося, раскормленного, моя мама Антониетта непременно скажет: «Дурная трава быстро растёт!» Потому что в похвалах она не особенно сильна.
Та девушка с чёрной книжечкой наконец возвращается вместе с какой-то парой с Севера и останавливается возле малышки за три человека от меня. Волосы у девочки длинные, глаза голубые, так что забирают её сразу. А ко мне до сих пор никто и не подошёл – наверное, потому что я почти лысый, как дыня. Пара с Севера берёт блондинку за обе руки и уходит. Потом девушка приводит рыжую толстушку. Она всё ходит и ходит туда-сюда, пока не останавливается совсем рядом со мной, у двух девчонок с тёмными косами – скорее всего это сёстры, учитывая, как они похожи. И действительно, рыжая уводит обеих: одну за одну руку, другую – за другую.
Я ёрзаю, прижимаясь поближе к Мариучче и Томмазино:
– А давайте притворимся, будто мы братья и сестра, чтобы нас всех троих забрали?
– Ты чего, Амери? Они, конечно, северяне, но ведь не слепые! Или, думаешь, не разглядят, что ты рыжий, я тёмный, а у Мариуччи волосы хоть и стрижены коротко, но всё равно светлые, как солома? Ну скажи, как мы можем быть ей братьями?
Томмазино прав, это у меня что-то голова кругом идёт. Просто другие дети расходятся по домам со своими новыми родителями, а мы всё ещё здесь. Никому мы не нужны: угольно-чёрный, зловредный рыжий и остриженная под горшок девчонка.
Чем быстрее пустеет зал, тем он кажется громаднее и холоднее. Малейший шорох, даже самый тихий, отдаётся раскатами грома и гулким эхом. При каждом моём движении лавка трещит пулемётной очередью, хоть со стыда сгори. На болтовню у нас с Мариуччей и Томмазино просто не хватает духу, приходится объясняться знаками. Томмазино вытягивает указательный палец, поднимает большой, будто из пистолета стреляет, и крутит вправо-влево запястьем: «Похоже, нам места не найдётся». Мариучча покачивает ладошкой, будто лодочка плывёт: «И что нам теперь делать?» Я пожимаю плечами: «А я знаю?» Томмазино, вскинув брови, протягивает мне раскрытую ладонь: «Кто у нас тут Нобель?» «Ну да, в нашем переулке я был Нобелем, но здесь-то я никто», – хочется мне сказать, но таких жестов нет, и я просто втягиваю воздух носом, а потом шумно выдыхаю через рот, как Долдон – сигаретный дым.
Маддалена, поглядев на нас издали, тоже начинает разговаривать жестами – вскидывает вверх открытую ладонь: «Подождите, подождите, и до вас дело дойдёт!» А я уже думаю, как посмотрю в глаза моей маме Антониетте, когда никто меня не возьмёт и придётся вернуться назад. «Ещё и на всю Северную Италию ославился!» – вот что она скажет. Потому что в утешениях тоже не особенно сильна.
Наконец в сопровождении одной из девушек подходит парочка, останавливаются. Волосы у женщины повязаны платком, но видно, что они чернющие, как у мамы. Сама она не высокая и не толстая, кожа смуглая. Стоят втроём, нас разглядывают. Я выпрямляю спину, приглаживаю волосы на голове. Пальто на женщине распахнуто, под ним платье в красный цветочек.
– У моей мамы платье точь-в-точь такое, только она его летом носит, – пытаюсь подластиться я.
То ли не поняв, то ли не расслышав, та оборачивается к девушке – будто курица, которую держала когда-то Тюха.
– Платье… – повторяю я, но уже не так уверенно.
Девушка берет её под руку, что-то шепчет и уводит к другой группе детей.
Томмазино с Мариуччей на меня косятся, а я от шнурков своих коричневых взгляда не отрываю. До отъезда считал, что в новых ботинках чего хочешь добьюсь. А вместо этого сижу тут, никому не нужный, да и ботинки тесные, неудобные.
Маддалена поглядывает на нас с другого конца зала, потом подходит к двум девушкам, пальцем тычет. Те кивают и отходят – то с одними поговорят, то с другими. Но вот наконец останавливается совсем рядом молоденькая пара, муж с женой, а за ними синьор с густыми седыми усами. Супруги улыбаются. Жена – светловолосая, совсем ещё девчонка – протягивает руку, гладит Мариуччу по голове и огорчённо поджимает губы, будто та виновата, что острижена под мальчишку. Потом смотрит на мужа, приседает перед Мариуччей на корточки.
– Хочешь пойти с нами?
А Мариучча и не знает, что сказать. Я пихаю её в бок: если и дальше будет молчать, примут за глухую или, того хуже, за дурочку, и тогда уже никто не возьмёт. Смотрю: кивает.
– А как тебя зовут? – спрашивает жена, положив руки Мариучче на плечи.
– Мария, – отвечает та, чтобы больше походить на итальянку, а сама руки за спину прячет.
– Мария! Какое очаровательное имя! Вот, Мария, держи, – и достаёт жемчужный браслет, а за ним – жестянку с печеньем и карамельками.
Мариучча молчит, руки за спиной держит.
– Не любишь конфеты, Мария? – разочарованно спрашивает синьора. – Бери, это тебе…
Тогда Мариучча всё-таки собирается с духом.
– Не могу, синьора, – говорит. – Мне сказали, тут стоит только руки протянуть, мне их вмиг отрежут. И как я тогда помогу своему отцу-башмачнику?
Синьора переглядывается с мужем, потом берёт Мариуччины ладошки и стискивает в своих.
– Не бойся, доченька, твои чудесные маленькие ручки в безопасности.
Услышав это «доченька», Мариучча наконец-то берёт жестянку.
– Спасибо, – бормочет она. – Но только… с чего все эти подарки? Неужто из-за имени?
Те двое прищуриваются, вскидывают брови: похоже, не понимают. К счастью, подоспевшая Маддалена объясняет, что до сих пор девочка получала подарки только на именины.
Смущённая Мариучча снова берёт молодую синьору за руку – боится, что та откажется и оставит её с нами. Но синьора и не думает отказываться – наоборот, себя от радости не помнит:
– Вот увидишь, столько всего я тебе ещё подарю! Забудешь и думать об именинах, доченька!
Забыть об именинах – такого я понять не могу, да и Мариучча, кажется, тоже. Но в руку доброй синьоры вцепляется мёртвой хваткой, чтобы та уж точно её не бросила. Мне кажется, она напоминает Мариучче покойную мать, царствие ей небесное, – хотя кто его знает. Ясно одно: Мариучча машет нам и уходит. А мы остаёмся вдвоём в огромном зале.
Но тут к Томмазино подходит тот синьор с густыми седыми усами, протягивает руку.
– Приятно познакомиться, я Рад! – говорит он с хитринкой в глазах, будто дразнится.
– Я тоже рад… – отвечает Томмазино и, вытерев руку об штаны, здоровается как взрослый. Усач не понимает шутки, но продолжает:
– Ну-с, загорелый молодой человек, хочешь пойти со мной?
– Небось, и попотеть придётся? – по-деловому интересуется Томмазино, прикидывая, в поле или в доме придётся работать.
– Что ты, автомобиль буквально за дверью. Какие-то полчасика – и на месте.
– Автомобиль? Вы что, извозчик?
– Неужели похож? О, я понял! Этот юноша любит пошутить! У него есть чувство юмора! Пойдём-ка со мной, Джина ждёт, ужин уже на столе, всё горячее!
При словах «ужин», «стол» и «горячее» Томмазино не задумываясь подсекает эту крупную рыбу.
– До свидания, Амери, удачи тебе!
– И тебе всего хорошего, Томмазино! До скорого…
12
Томмазино тоже уходит, и я остаюсь на деревянной лавке совершенно один, в тесных ботинках и с тяжестью в животе.
Зажимаю пальцами глаза, чтобы остановить слёзы. Сидя в поезде вместе с остальными детьми – смеющимися, плачущими, носящимися взад-вперёд, – я чувствовал себя таким же сильным, как мой отец-американец. Пока Мариучча с Томмазино умирали от страха, я строил из себя взрослого, болтал, шутил… Я всё ещё был Нобелем. Но сейчас мне так же плохо, как в тот день, когда я откусил в Мерджеллине солёную сушку и, вдруг почувствовав острую боль во рту, обнаружил на ладони зуб. Побежал скорее к моей маме Антониетте, но она заперлась с Долдоном и ничего не слышала. Так что я пошёл к Хабалде, и та усадила меня на стул, развела в стакане воды «Гидролитин»[15]15
«Гидролитин» – смесь для приготовления домашней газировки.
[Закрыть] с лимоном, чтобы обеззаразить ранку, и объяснила, что в один прекрасный день зубы у человека начинают выпадать один за другим, в том же порядке, в каком появлялись, и на их месте вырастают новые.
А сейчас я сам – будто выпавший зуб: на том месте, где я был раньше, зияет дырка, а новый на замену ещё даже не виден. Ищу глазами ту синьору в платье с красными цветами: может, уже передумала и хочет за мной вернуться? Или решила сперва посмотреть всех детей, а потом уж выбирать? Как всегда говорила Хабалда, отправляясь за фруктами: «Не останавливайся у первой попавшейся таверны!» И действительно, мы с ней обходили всех окрестных торговцев, чтобы узнать, у кого товар лучше. Хабалда совала нос в каждую корзину с дынями, глядела, нюхала, потом двумя пальцами нажимала на кожуру – проверяла, созрела ли, а то вдруг зелёная? Может, и с детьми так можно: пощупаешь – и поймёшь, хорошие мы внутри или плохие.
Синьора в платье с красными цветами и её муж тем временем всё кружат по залу вместе с девушкой, не выпускающей из рук чёрную книжечку, словно кого-то ищут. Я старательно держу спину прямо, но на этот раз ни слова не говорю, даже не дышу. Только приглядываюсь: нет, на маму не похожа. Это мне почудилось, потому что я скучаю по её улыбке. А те двое к выходу направляются – наверное, всё-таки передумали. Или просто достаточно зрелой дыни не нашли. Но нет, девушка с чёрной книжечкой зовёт их в дальний угол, где сидит щербатый: я и не заметил, что он тоже ещё здесь – думал, я один остался. Девушка подходит ближе, чтобы прочесть номер у него на рукаве, а он, смотрю, даже глаз не поднимает – знай себе чистит ногти, снова ставшие такими же чёрными, какими были, пока мы душ не приняли. Муж темноволосой синьоры с ним говорит, а тот не отвечает, только лениво кивает, вверх-вниз, вверх-вниз, будто одолжение делает. Потом встаёт и, прежде чем направиться за ними к выходу, в мою сторону оборачивается, рожу корчит, словно говорит: меня всё равно взяли, хотя я даже имени своего не сказал, а вот тебя – нет.
Да уж, выгодная сделка! Была бы здесь Хабалда, уж она бы им показала дыню получше… Но в одном щербатый действительно прав: я единственный, кого не забрал никто.
В другом конце зала Маддалена разговаривает о чём-то с синьорой в серой юбке, белой блузке и пальто нараспашку – должно быть, той, что увозит обратно детей, от которых все отказались: вон и значок с коммунистическим флагом на груди, и лицо строгое. Волосы у неё светлые – не такие, как у Хабалды, а более нежного, золотистого оттенка. Маддалена всё время трогает её за плечо и что-то шепчет. Синьора слушает, но не двигается и не оборачивается, даже когда Маддалена указывает на меня. Потом несколько раз кивает, словно говоря «да-да, хорошо, я этим займусь», и подходит ближе. Я встаю, одёргиваю куртку.
– Меня зовут Дерна, – говорит синьора.
– Америго Сперанца, – отвечаю я и протягиваю ладонь, как Томмазино тому седому усачу. Она пожимает, но как-то вяло. И неразговорчива – видно, хочет только поскорее меня домой отправить.
Маддалена на прощание целует меня в лоб:
– До свидания, Амери. Ты в хороших руках.
– Пойдём, сынок, не то опоздаем: время к ночи, – говорит синьора и тянет за собой. Мы спешим, она и я: как два вора, которые торопятся сбежать, пока их не накрыла полиция. Идём вместе, рядом, с одинаковой скоростью – ни быстро, ни медленно, – и вскоре выходим с вокзала на большую площадь, мощённую красным кирпичом и усаженную деревьями.
– Где это мы? – растерянно спрашиваю я.
– Болонья. Красивый город, но сейчас нам домой надо.
– А вы, синьора, значит, прямо домой меня и отвезёте?
– Точно, сынок.
– Но не на поезде?
– Давай-ка начнём с автобуса.
– Давайте, – киваю я.
Дойдя до автостанции, я уже весь дрожу.
– Замёрз? – спрашивает она. Я чувствую, как по телу бегут мурашки, но не понимаю, от холода это или от страха. Синьора расстёгивает пальто, распахивает его пошире и укрывает меня полой. – Боже правый, по такому морозу и такой сырости ребёнка без верхней одежды отправить…
Я ничего ей не говорю: ни о новых пальто, выброшенных из окон, ни о матерях, укутавших в них других детей. Думаю только о том, как поморщится моя мама Антониетта, увидев, что меня вернули назад, словно бракованный товар на рынке. Потом сую руку в карман куртки и только теперь понимаю, что там до сих пор лежит яблоко, которое она мне дала, когда поезд тронулся. Вынимаю, но есть не могу – живот по-прежнему тянет.
– Взрослый и детский, – говорит синьора кондуктору, когда подъезжает автобус. Мы входим, садимся рядом. Новые ботинки меня совсем измучили: кажется, я ношу их уже целый год, а не один день. Автобус трогается, становится темно, и глаза сами собой закрываются от усталости. Но прежде чем заснуть, я тихонько снимаю ботинки и ногой задвигаю под сиденье. На кой они мне? Как ходил босиком до отъезда, так босиком и вернусь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































