Текст книги "Детский поезд"
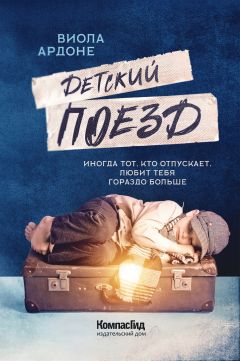
Автор книги: Виола Ардоне
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
24
С наступлением каникул мы потеряли Россану из виду. А в первый день нового года, когда пошли в большой зал муниципалитета послушать оркестр, мэр рассказал, что за пару дней до Рождества отец приехал её забрать. Россана была права: она вовсе не такая, как я. Нам на память осталась только открытка с поздравлениями, которую Люцио, правда, читать не стал. Уехала – и пусть, тем хуже для неё, думал я: пропустила организованный Дерной партизанский праздник Бефаны[18]18
Бефана – в итальянском фольклоре добрая ведьма, разносящая детям подарки.
[Закрыть].
На главную площадь с высоченной колокольней, всю в огнях и гирляндах, стекаются бывшие партизанки, переодетые ведьмами: у них длинные крючковатые носы и дырявые башмаки. Риво и Люцио хохочут, а я – нет, поскольку и сам в таких ходил: ничего в этом хорошего нет, и смеяться тут не над чем. Каждый из нас, детей, что с Севера, что с Юга, получает по кульку конфет и по деревянной кукле-марионетке. Альчиде с Розой пьют вино, танцуют, Риво и Люцио играют с одноклассниками, а Нери, наевшись, спит в своей коляске, не обращая внимания на крики и музыку. Когда начинается эстафета, мы втроём попадаем в одну команду и в итоге выигрываем три апельсина и вымпел. Я ещё никогда в жизни ничего не выигрывал, даже в лотерею, которую устроила в прошлом году Тюха, потому что у мамы не было денег на билет.
Потом наступает время песен, и, когда нас выстраивают рядами, моим соседом оказывается темноволосый мальчик с зачёсанными назад набриолиненными локонами. Сперва мы даже друг друга не узнаём.
– Амери, ты? Выглядишь как кинозвезда!
– Хорош дразниться, Томмази! Сколько же салями ты съел? У тебя пузо, как у Тюхи!
На другом конце площади я замечаю синьора с усами, что его увёз: стоит с женой, крупной женщиной с сильными руками и пышной грудью, рядом двое детей постарше, очень похожих на отца – даже усики отрастили. Пока мы поём, тот машет Томмазино рукой, и мне кажется, что у них с моим другом теперь тоже есть что-то общее.
Люцио, стоящий двумя шеренгами дальше, время от времени с любопытством оборачивается: обычно это он знает каждого в лицо, а я – никого. Но на сей раз всё наоборот: я замечаю щербатого с чернявым шкетом, которые тоже изрядно отъелись за это время, и многих других, приехавших вместе со мной. Только теперь все они красивые, нарядные, и уже не скажешь, кто из детей с Юга, а кто с Севера. Поняв, что Мариучча тоже должна быть здесь, мы с Томмазино ищем тощую светловолосую девчонку, стриженную под мальчика, но её нигде нет. Потом, усевшись рядом на скамейке, с бутербродами и свежевыжатым апельсиновым соком, который наливает нам партизанка-Бефана, смотрим, как играют в догонялки. Подходит Люцио, и вскоре Томмазино уже взахлёб рассказывает ему историю о наших перекрашенных крысах. К счастью, в этот момент я вижу Мариуччу в сопровождении той самой пары, что забрала её в день приезда: отросшие волосы, завитые, как у синьор на киноафишах, обрамляют округлившееся лицо, а щеки – словно розы, в тон платью с плетённым из цветов пояском, и венок из тех же цветов на голове. Ну и красавицей она стала!
Мы с Томмазино молчим: не можем набраться смелости её окликнуть и в свою очередь быть узнанными. Но тут она сама бросается вперёд, крепко сжимает нас в объятиях. И хотя это всего лишь объятия Мариуччи, мне почему-то чуточку неловко, да и Томмазино, видно, тоже.
– Ну же! Как вы тут? Мам, пап, это мои друзья с Юга, – говорит она светловолосой синьоре с мужем, и я столбенею, вдруг осознав, что Мариучча не поедет с нами домой, потому что уже нашла себе семью.
А вот я очень хочу вернуться к своей маме Антониетте. Только сперва нужно закончить дела, что меня здесь ждут: соорудить вместе с Риво и Люцио шалаш за хлевом, наше тайное убежище, выдрессировать новорождённого телёнка, научиться играть на скрипке у маэстро Серафини… Сказать по правде, поначалу я решил было, что не особенно в этом силён: пальцы болели, а вместо музыки получался один только визг, будто две кошки ночью сцепились. Из окна мастерской Альчиде я с тоской глядел, как другие дети играют в снежки, пока учитель часами заставлял меня выводить одно и то же «до-о-о-о». Но как-то вечером, во время очередного занятия, скрипка наконец перестала визжать и мяукать. Я услышал музыку и ещё долго не мог поверить, что сотворил её своими руками.
И потом, прежде чем уехать, я должен помочь Дерне построить коммунизм, а то сама она очень устаёт: целыми днями пропадает на работе и возвращается забрать меня от Розы только поздно вечером. Тогда мы вместе идём домой, она ложится ненадолго со мной в постель и рассказывает, как прошёл день, или читает какую-нибудь историю из книги, где полно всяких зверей, добрых и злых: лиса, волк, лягушка, ворона… И через каждые две-три страницы – цветная картинка. А иногда ещё ткнёт пальцем в слово и говорит: «Теперь ты читай». Или, если уж совсем устала, поёт мне на ночь песню. А поскольку мы давно поняли, что колыбельных Дерна не знает, то она поёт другие песни – те, что знает. Например, про «нас знамя красное вперёд ведёт», где я в самом конце кричу: «Нас Дерна, Роза и сво-бо-да ждёт![19]19
Стихи из итальянской народной песни Bandiera rossa («Красное знамя»).
[Закрыть]»
Когда Дерна затеяла партизанский праздник Бефаны, мы все вечера просиживали за кухонным столом, и она спрашивала у меня совета: как украсить носки для подарков, какие устроить конкурсы, какие песни играть оркестру. Однако с последнего собрания Дерна пришла к Розе мрачная. Мы с Риво и Люцио играли с деревянным конструктором, который Альчиде для нас сделал. Обычно она немного задерживалась поболтать и выпить стакан вина, но в тот вечер даже пальто не сняла, а просто забрала меня и до самого дома молчала. Я думал, причина во мне: может, совет был неправильный, и теперь она злится? Но когда она сняла пальто, я увидел, что щека у неё красная, будто обожжённая или обмороженная. А как сели ужинать, она вдруг расплакалась. Раньше я не видел, чтобы она плакала, поэтому тоже разревелся – сидим, как два дурака, за кухонным столом и рыдаем над бульоном с лапшой. Объяснять она мне ничего не стала: мол, пустяки. И сразу пошла спать, без всяких песен и историй про зверей.
А на следующий день, в субботу, когда мы с Люцио играли в прятки, я случайно услышал, как Дерна рассказывает Розе, что вчера на собрании был один товарищ, большая шишка. К организации праздника он придраться не смог, поскольку Дерна с другими товарищами всё очень хорошо подготовили. Но потом этот человек, большая шишка, решил переговорить с ней наедине. Дерна попыталась объяснить ему, чтó делает для профсоюза и для избирательной кампании, а он дал понять, что лучше бы она занималась только детскими праздниками и помощью бедным (в этот момент я тихонько пробрался на кухню, чтобы лучше слышать, и спрятался между плитой и буфетом). Дерна сказала большой шишке, что среди её товарищей есть женщины, которые сражались в партизанских отрядах, стреляли из автомата и даже были награждены медалями (тут я сразу вспомнил медаль Маддалены Крискуоло и мост в районе Санита, который не взорвали только благодаря ей). А он спросил: «Что, тоже медаль хочешь?» – и Дерна ответила, что многим женщинам стоило бы вручить медаль уже за то, что они до сих пор в партии. Тогда он её ударил, со всей силы. Но она не заплакала – так она сказала Розе. Я в своём укрытии подумал, что, ударь он мою маму Антониетту, уж она бы не сдержалась и парой оплеух дело бы не кончилось. Но Дерна просто запела, как Маддалена на вокзале: «Пусть мы – всего лишь женщины, но страха мы не знаем…» А поскольку это одна из тех колыбельных, что она поёт мне перед сном, я выбрался из-за плиты и стал подпевать, но Дерна и Роза, увидев меня, в ужасе вскрикнули, дружно схватились за сердце и замолчали. И с тех пор я о той большой шишке не слышал.
А Бефаны-партизанки тем временем уже выстраивают нас в ряд и по очереди завязывают платком глаза: нужно длинной-длинной палкой сбить подвешенный к шесту глиняный горшок. Кто справится, получит спрятанные внутри сладости.
– Это называется пиньята, – объясняет Люцио. – Играл когда-нибудь?
– И да, и нет, – отвечает Томмазино.
– В каком смысле?
– Мешок много раз сбивал, а вот горшок – не пробовал.
Когда очередь доходит до меня, я обеими руками вцепляюсь в палку. Дерна завязывает мне глаза, и, пока я готовлюсь бить, вспоминаю день приезда: как сидел в огромном зале один-одинёшенек, пока она за мной не пришла. Тогда она показалась мне взрослой и сильной, а теперь будто съёжилась. Конечно, она много всего умеет и даже латынь немного знает, но как доходит до реальной жизни – тут она совсем беспомощна: хуже ребёнка. И кто её защитит, если не я?
Так что я представляю себе физиономию той большой шишки и что есть силы луплю по ней палкой. Горшок со звоном раскалывается, дети вопят от восторга, а я стою, задрав голову, под настоящим конфетным дождём.
25
Прошли рождественские праздники, за ними Крещение, а яблоко, которое дала мне мама в день отъезда, так и лежало на столе. Я хотел сохранить его на память, но оно с каждым днём всё больше сохло и темнело, пока не стало выглядеть совсем несъедобным.
– Роза, – спрашиваю я как-то раз, вернувшись из школы, – а мне уезжать не пора?
Роза бросает лущить фасоль и ненадолго задумывается.
– С чего такой вопрос? Разве тебе плохо здесь, с нами? Или ты по маме скучаешь?
– Нет… То есть да, немного… – бормочу я. – И боюсь, что скоро совсем её забуду.
Роза протягивает мне пару стручков:
– Знаешь, сколько в каждом из них фасолин? Для всех места хватит. Как и в твоём сердце, – потом раскрывает стручок, показывает мне. – Ну-ка, сосчитай!
Я пересчитываю фасолинки пальцем:
– Семь.
– Видишь? – смеётся она и щекочет мне нос пустым стручком. – Полный сбор: мы с Альчиде, Дерна, мальчики и твоя мама. Можешь обнять нас всех разом.
Мне нравится ей помогать: вскрывать плотную, влажную кожицу, по одному доставать белые шарики, поддевая их кончиком пальца… А ещё нравится звук, с которым они падают в фарфоровую супницу, и гора пустых стручков, сваленных на углу стола.
– Как поля пожелтеют, а пшеница выше твоей головы вырастет, тогда и уедешь, – отвернувшись к окну, говорит Роза.
Я тут же выглядываю на улицу, чтобы проверить, не пожелтели ли ещё поля, но пока всё по-прежнему: холод и серость до самого горизонта.
Через неделю появляется солнце, и Дерна, вернувшись с работы, сообщает:
– Завтра все вместе поедем на автобусе в Болонью.
Я смотрю в окно, но пшеницей там и не пахнет.
– Вы что, меня домой отсылаете? Так рано? Мы же шалаш не достроили…
– А это чтобы уши не затыкать, пока ты на скрипке пиликаешь! – дразнится Люцио.
Я уже собираюсь ответить, что это неправда: я многому научился и вообще очень способный, даже маэстро Серафини говорит, – но потом понимаю, что он мне соврал и на самом деле отпускать меня не хочет. Однако Дерна нас успокаивает: мол, времени ещё много, а в Болонью нужно съездить, потому что меня там ждёт сюрприз.
На следующий день мы, празднично одетые, выходим из автобуса и направляемся к зданию, откуда нас разбирали по новым семьям. У входа опять оркестр, накрытые столы, и я вцепляюсь в Дерну: боюсь, что меня у неё заберут, потому что выглядит всё так, будто мы снова в тот день вернулись.
Когда музыканты начинают играть, Дерна поднимается на дощатую сцену, и я остаюсь один. Мне хочется закричать, чтобы она спускалась и ни в коем случае не пела, потому что, хоть я в этом никогда и не признавался, она чуточку фальшивит. К счастью, ей просто нужно сделать объявление. Она говорит, что у нас важный гость: умная, непредвзятая женщина, которую пригласили, чтобы она лично проинспектировала состояние детей, прибывших на поезде, и которая проделала долгий утомительный путь, чтобы привезти нам всем послание от матерей своего города. Звучит барабанная дробь, и на сцену вплывает невысокая, но очень полная синьора с пучком на голове и трёхцветным бантом на груди.
Я не верю своим глазам, а заметив в толпе Томмазино – прямо в первом ряду, рядом с усачом-отцом, – протискиваюсь к нему и шепчу:
– Это Тюха! Она нас нашла! Бежим!
Но Томмазино не слышит, потому что Тюха берёт микрофон и начинает кричать, что очень рада приглашению и что поначалу у неё действительно были некоторые сомнения относительно поезда, но теперь, приехав сюда и увидев всех нас накормленными и хорошо одетыми, она, даже будучи, как и всегда, беззаветно преданной монархии, тоже чувствует себя в некотором роде коммунисткой. А потом улыбается своим беззубым ртом. Раздаются аплодисменты, и Тюха, чуть опустив голову, раскланивается, как певица на празднике Пьедигротта.
Тем временем к нам с Томмазино присоединяется Дерна.
– Как же она нас нашла? – спрашиваю я.
– Мы сами её позвали, чтобы каждый мог убедиться, что у вас по-прежнему есть руки и ноги и что ни в какую Россию никого из вас не отослали.
– Так значит, нас пока обратно не отправляют? – спрашиваю я на всякий случай. А Томмазино смеётся и, подтолкнув меня локтем, прикладывает палец к верхней губе.
– А молодец Тюха, что приехала! Здесь, на Севере, усы в моде!
Тюха тем временем кружит по залу: мэр то и дело предлагает ей попробовать блюда местной кухни, и она непрерывно ест, пьёт и говорит. Насколько я вижу, она к каждому ребёнку подходит: выясняет, из какого он района, кто его мама, кто отец, как он себя чувствует, ходит ли в школу и так далее. Почти все отвечают одно и то же: что в первые дни чуточку тосковали, но потом привыкли и теперь им здесь куда лучше, чем дома. Мы с Томмазино подходим поближе, тянем её за рукав.
– Донна Тюха, донна Тюха!
Она не сразу нас узнает, а потом аж рот от изумления разевает: вон, чёрные дёсны видны.
– Видите, донна Тюха? – спрашиваю я. – Здесь знают, что такое до-сто-ин-ство!
– Мальчик мой, как ты вырос! – кричит она и лезет обниматься. – Да тебя и твоя родная мама Антониетта не узнает, когда вернёшься! Ну же, иди, поцелуй меня, – и я чувствую, как её усы щекочут мне щёку. Томмазино предусмотрительно удаётся сбежать.
А я ещё долго расспрашиваю Тюху о маме, о Хабалде и других наших соседях по переулку. Вот ведь: и чего она только не навыдумывала, чтобы не дать нам уехать! А теперь, глядишь, вернусь домой, – и на стене её спальни вместо короля с усиками обнаружу портрет Ленина!
В конце вечера нас всех фотографируют.
– Улыбочку! – говорит фотограф. Но Тюхе этого мало.
– Погодите! – кричит она и, обернувшись к нам, велит поднять руки. – Это чтобы слух не прошёл, будто вам их отрезали!
И позже, глядя на эту фотографию, выставленную при входе в нашу школу, я вижу одни только широченные улыбки да пальцы врастопырку.
26
Как выдастся по-настоящему солнечный день, непременно поедем, обещала Дерна. И сегодня этот день настал. Просыпаемся мы поздно: воскресенье всё-таки. Открыв глаза, я вижу, как сквозь щели в ставнях пробивается свет: будто лист из тетрадки в линейку. Потом выглядываю в окно: поля желтеют, пшеница тянется вверх, но меня ещё не переросла.
Спустившись в кухню, я нахожу Дерну готовой, даже в красивом лёгком платье, какого я у неё ещё не видел: она ведь всегда, даже по воскресеньям, надевала белую блузку и серую юбку с пиджаком. А раньше надевала чёрную, но потом сказала, что траур окончен и жизнь должна продолжаться. Я видел фотографию, которую Дерна носит в сумочке и никогда никому смотреть не даёт, даже из рук не выпускает. А мне вчера дала. Сказала, он был храбрым. Настоящим товарищем. Сказала, в бою с фашистами погиб. Потом застегнула сумочку и больше ничего не сказала. Но сегодня не стала будничную одежду надевать – достала светлое платье.
Тот парень на фотографии был худощавым, улыбчивым. Роза говорила, я на него похож. Ещё говорила, глаза у него были голубые. Дерна встретила его на каком-то партсобрании: выступала с трибуны, а Роза и Альчиде в зале со всеми сидели, слушали. Тут вдруг входит группа молодых людей, но не садится, а у окошка встаёт. Дерна к ним обернулась – и сразу его увидела. Даже на миг дар речи потеряла, но сразу в себя пришла и продолжила выступление.
Парень тоже в неё влюбился, хотел жениться, как война кончится, но, поскольку был на пару лет её моложе, эти, из партии, не разрешали. Роза сказала, что товарищи иногда хуже деревенских кумушек бывают: послушать, так одна свобода на языке, а как до дела дойдёт, никакой свободы от них не дождёшься. Особенно для женщин. Дерна от всего этого очень страдала. А когда случилось непоправимое, надела чёрное и больше о нём не упоминала: с головой ушла в работу, совсем улыбаться перестала.
– Ну, а потом ты появился, – закончила свой рассказ Роза. И ущипнула меня за щеку, как всегда со своими детьми делает.
Дерна встаёт, одёргивает лёгкое платье – совсем девчонка, вон, даже помадой по губам провела:
– Сегодня едем на море, – и кладёт в корзинку бутерброды с сыром, ветчину, бутылку воды.
Мне она приготовила белую рубашку с короткими рукавами, короткие синие штаны и сандалии – всё с иголочки. Очки за обувь я больше не считаю, потому что здесь, на Севере, все ботинки совсем новые или чуть поношенные – никакого интереса. И потом, даже если дойду до ста, то не знаю, чего пожелать: и так всё есть, что мне нужно. А вот побегать хочется. Я мчусь по кухне, огибая стол – три раза, четыре, – пока наконец не врезаюсь в Дерну и не обнимаю её крепко-крепко. Она, пошатнувшись, теряет равновесие, и мы падаем на диван, но объятий я так и не разжимаю, а только, спустившись чуть ниже, прижимаюсь носом к её животу и вдыхаю её запах. Дерна тоже меня не отпускает, и мы, как два дурака, валяемся, хохоча, на диване прямо в нашей новой весенней одежде.
Когда в дверь стучится Альчиде в компании Риво и Люцио, Дерна подхватывает корзинку и мы вместе с Розой, держащей малыша на руках, идём к автобусу, который увезёт нас к морю. А пока едем, дружно поём: «Нас Дерна, Роза и сво-бо-да ждёт!»
Солнце на пляже жаркое, воздух тёплый, а волны будто гребешком приглаженные. Повсюду бегают дети, многих я помню ещё по поезду. Завидев меня, Томмазино первым делом начинает швыряться песком.
Правда, Мариуччи на пляже нет. Томмазино считает, это потому, что новые родители решили её насовсем оставить – мол, успеет накататься.
– А как же отец-башмачник? – спрашиваю я. Томмазино, который уже успел подвернуть штаны и снять носки, закатывает глаза: мол, отец-башмачник только рад будет дочку с шеи скинуть. Я оглядываюсь на Дерну, Розу и Альчиде: а вдруг они тоже решат меня насовсем оставить?
– Папа – этот, с Севера, – говорит, я могу вернуться, когда захочу, – продолжает Томмазино. – Дверь для меня всегда открыта. А летом они к нам приедут. И потом не забудут, помогать станут.
Я стягиваю штаны и остаюсь в плавках, которые Дерна заставила меня надеть, – белых в синюю поло с к у.
– Ты что творишь? – хохочет Томмазино. – Трусами перед всеми хвастаешь?
– Это, между прочим, плавки. Специально для купания.
– Уж не ты ли говорил, что море – штука бесполезная?
– А вот гляди!
Я проношусь по пляжу, вбегаю в воду. Песок под ногами холодный, вязкий, но я не останавливаюсь, упрямо иду вперёд, пока вода не доходит до колен. Она ледяная, но я не хочу давать Томмазино повод надо мной посмеяться. Я ему докажу, что ничем от северян не отличаюсь.
Дерна в юности прекрасно плавала и всё мне объяснила, так что я уверен: у меня получится.
– Ты куда, Амери? – кричит мне с пляжа Томмазино.
Я оглядываюсь, но не отступаю. Потом, заметив Дерну, которая общается с какими-то женщинами под зонтиком, кричу ей:
– Дерна, смотрите! – и, как только она оборачивается, ныряю. Вода накрывает меня с головой. Я энергично, как она учила, толкаюсь руками и ногами, потом высовываю на поверхность голову, но чувствую только, как рот и нос наполняются чем-то солёным. Мне нечем дышать, я снова погружаюсь и держать глаза открытыми уже не могу.
А ведь я её совсем не так представлял, эту морскую воду. Она только кажется лёгкой, прозрачной, но стоит ей накрыть тебя с головой, становится ужасно тяжёлой, сразу на дно тянет. Погружаясь, я, снова вспомнив слова Дерны, пытаюсь загребать руками и ногами, вот только теперь они почему-то стали безнадёжно слабыми. Когда мне всё-таки удаётся высунуть голову, я вижу, как ревёт, вцепившись обеими руками в столь тщательно уложенные папиным бриллиантином локоны, Томмазино, как бежит по песку Дерна и подол её лёгкого платья обвивается вокруг ног… Лица я не вижу, потому что уже не могу грести и вода заливает мне глаза, но уверен, оно у неё такое же, как в тот вечер, после встречи с большой шишкой. Не могу, тону! Закрываю глаза и чувствую только, как жжётся в горле соль: захочешь – не вдохнёшь.
Но тут что-то стискивает мне запястья: руки Дерны. Они держат меня, не отпускают, они бьются с водой! Давящая на голову тяжесть становится всё меньше, темнота потихоньку отступает, и руки Дерны, которые оказались сильнее моря, вытаскивают меня на поверхность. А потом я ничего не вижу. Только мелькает лицо моей мамы Антониетты, слышится смех Хабалды – и снова темнота.
Когда я снова открываю глаза, Дерна рывками давит мне грудь, и с каждым разом у меня изо рта выплёскивается солёная вода. Потом Роза кутает меня в полотенце, которое взяла, чтобы полежать на солнце, Альчиде суёт под нос бутылку уксуса, и я вижу, как молча подходят Риво и Люцио, а рядом, не в силах успокоиться, надрывается Томмазино.
Волосы у Дерны мокрые, помада с губ куда-то исчезла, а глаза стали серыми, как море.
– Не бросай меня, – говорю я, изо всех сил прижимаясь к ней.
– Не брошу, – отвечает Дерна. – Всегда с тобой буду.
И мы снова сжимаем друг друга в объятиях – уже второй раз за день. Но только теперь ничего смешного в этом нет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































