Текст книги "Детский поезд"
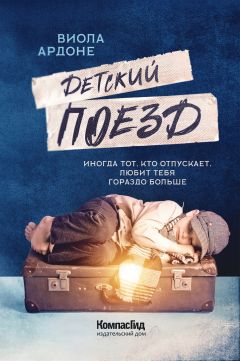
Автор книги: Виола Ардоне
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
45
Она провожает меня до двери. Мальчик, спрятав руки за спину, идёт за нами. Я стараюсь не встречаться с ним взглядом. Потом Маддалена вдруг хлопает себя по лбу, закатывает глаза и, заявив, что чуть не забыла одну очень важную вещь, на пару минут оставляет нас в прихожей наедине. Но я устал, мне хочется обратно в отель, а из головы не идёт украденная у матери дочь.
Мальчик тем временем вынимает руки из-за спины и показывает мне два рисунка. Первый – это портрет Маддалены в молодости, на другом – розовый овал с двумя синими кружочками посередине, рыжеватыми волосами и розовой закорючкой, которая, по идее, должна быть ртом.
– Это ты, – говорит он, протягивая мне рисунок. – Тебя я тоже сделал моложе… ничего?
Я несколько раз подношу листок к глазам, потом отставляю подальше, делая вид, что скрупулёзно разглядываю детали:
– Просто чудесно… но почему у меня на плече попугай?
– Какой ещё попугай? Это же скрипка! Бабушка говорила, она у тебя с самого детства.
Перед глазами мгновенно встаёт картинка: я заглядываю под кровать и обнаруживаю, что там пусто. Мальчик косится на меня – наверное, хочет, чтобы я рассказал ему эту историю: дети вообще любят истории. Но я понимаю, что не смогу, поэтому просто складываю листок и, сказав спасибо, сую в карман. Похоже, он разочарован, будто вручил мне бог весть какой подарок и ничего не получил взамен.
– Я о тебе столько всего знаю! – в его глазах мелькает хитринка. – Мне бабушка рассказывала.
– Бабушка рассказывала тебе обо мне?
– Ага. И вырезки из газет собирала.
– Да ладно, не может быть! Она ведь даже ни разу не слышала, как я играю!
– Мы по телевизору видели, много раз! Она вообще только ради тебя телевизор и купила, – и снова косится: проверяет, какое впечатление произвели его слова. – Так значит, ты знаменитый?
– А тебе хочется, чтобы я был знаменитым?
Он кривит губы, пожимает плечами, но я не могу понять, ответ ли это.
– Может, тогда ты и меня научишь?
– Чему тебя научить?
– Быть знаменитым!
– Ну ладно, как-нибудь… Если время будет…
– И я попаду в телевизор, как ты!
– Маддалена, мне правда пора…
– Вот она! – Маддалена, вернувшись, кладёт на журнальный столик фотографию. – Я же говорила!..
На пожелтевшей карточке, снятой у приюта для бедных, я вижу её саму, других девушек, того светловолосого коммуниста и даже товарища Маурицио, который стал потом мэром. А вокруг – множество детей, кто с мамами, кто без. За прошедшее время лица эти, должно быть, изменились до неузнаваемости. Иссохший палец Маддалены с коротким, тщательно вычищенным ногтем скользит туда-сюда, туда-сюда, будто его хозяйка читает. Дойдя до конца строки, он переходит на следующую, пока не останавливается на стриженном почти под ноль мальчишке и его скуластой, неулыбчивой матери. Та, похоже, от смущения не смогла придумать, куда деть руки, и положила их мальчишке на плечи, а он обернулся, удивлённый внезапностью этого жеста.
Я смотрю на себя, потом на тебя, на нас, на наши смущённые взгляды – последние взгляды перед расставанием.
– Пожалуйста, зайди к Томмазино, – уже в дверях бросает Маддалена, когда мне наконец удаётся выскочить на лестницу. Я, не ответив, оборачиваюсь – в последний раз, поскольку знаю, что больше никогда её не увижу, – и меня вдруг охватывает странная тоска, начавшаяся ещё до разлуки. Из-за спины Маддалены возникает лицо мальчика: он расстроен, словно я оказался мошенником и не сдержал слова. Ну а чего ты ждал? Чем я могу помочь? Деньги, подарки, редкие телефонные звонки? От его взгляда мне неловко: он напоминает мне, как часто я и в самом деле нарушал обещания. Или просто трусливо сбегал, услышав просьбу.
46
Я возвращаюсь тем же путём, каким мы шли сюда. Торговцы уже свернули прилавки, и улица кажется вдвое шире. Жара несколько спала, а когда налетает ветерок, несущий запахи моря, становится ясно, что оно всегда рядом, совсем близко, пускай и невидимо.
Желание идти в отель пропало, но я не голоден и не вполне уверен, что тоскую по тебе, а если да, то чем эта тоска в итоге обернётся. Разлука давно стала для нас привычной, а свидания – чересчур редкими. С тех пор как ты посадила меня в поезд, наши пути разошлись и больше уже не пересекались. Но теперь, когда расстояние между нами непреодолимо и я знаю, что никогда тебя не увижу, меня гложет сомнение: а вдруг мы просто неверно друг друга поняли? Может ли вообще существовать любовь, сотканная из недопонимания?
Над безлюдными улицами висит неестественная тишина, лишь издалека доносится прерывистый вой сирены, потом кто-то взрывает петарду. Торговцы из магазинчиков на виа Толедо опускают ставни и поспешно разбегаются по домам, чтобы успеть к началу матча. Свернув в переулок, я начинаю очередной подъём, но на полпути замечаю справа лавку сапожника. Он единственный не закрывается и никуда не спешит: сидит себе в своей крохотной пещерке, доверху заполненной обувью, которую нужно починить или подогнать по ноге. Вхожу, спрашиваю старика за стойкой, не может ли он что-нибудь сделать и с моей, чтобы перестала натирать. Тот усаживает меня на стул, просит разуться. Я подчиняюсь, оставшись в носках. Он берет ботинки, сперва один, потом другой, осматривает их со всех сторон, переводит взгляд на мои ступни. Я, как дикий зверь в клетке, принимаюсь нервно хрустеть затёкшими пальцами. Старик делает мне знак подождать и, скрывшись в кладовке, возвращается с деревянной штуковиной, напоминающей человеческую ногу с торчащей из неё рукояткой на длинном чёрном винте. Я задерживаю дыхание, словно ожидая чуда. Вложив свой диковинный инструмент в правый ботинок, старик поворачивает рукоятку – раз, два, три, – потом вытаскивает и проделывает ту же операцию с левым. Наконец смахивает пыль, протирает и выставляет на стойку.
– И это всё? – едва не вырывается у меня.
Он не двигается: ждёт, пока я их надену. Стоит мне подняться, боль в пятках как по волшебству проходит. Я делаю шаг, другой – и просто не могу в это поверить. А старик, не сказавший до тех пор ни слова, наконец выдаёт:
– Все ноги разные, у каждой своя форма, каждой нужно угодить… Иначе придётся страдать.
Я благодарю его, тянусь за деньгами, но старик отмахивается:
– Ерунда, не стоит, – и возвращается к работе. А я снова направляюсь к отелю, только шаг мой на сей раз куда легче, быстрее. Взгляни на меня сейчас случайный прохожий, посчитал бы беззаботным, а то и вовсе легкомысленным.
47
Когда я открываю глаза, ещё темно. Я долго ворочаюсь в постели, но заснуть не могу, поэтому встаю, выхожу на балкон и, оглядев горизонт, понимаю, что небо уже начинает светлеть. Впрочем, рассвет мне никогда особенно не нравился: у него привкус бессонных ночей и беспокойных снов, форс-мажора и слишком ранних рейсов в чужие города – а для меня каждый город чужой.
Проведя целую вечность в душе, я одеваюсь: светлая рубашка, лёгкие брюки, никакого пиджака. Потом носки, ботинки – мозольные пластыри мне наконец-то не нужны. Вернувшись в ванную, пялюсь на своё отражение в зеркале, словно впервые вижу. Разве что глаза те же, нисколько не изменившиеся с годами: такие же пронзительно-синие. Бог знает в кого, кстати: может, в загадочного, очарованного Америкой отца, который, сбежав, оставил мне только имя? Твои глаза были такими же чёрными, как волосы и брови – тонкие, ровные, будто углём нарисованные. Я даже ребёнком знал, что ты красавица. И вовсе не потому, что так считает каждый сын: нет, я чувствовал, что ты нравишься всем мужчинам без исключения. Я видел, как они провожают тебя взглядами, слышал их намёки… К моменту моего рождения ты была ещё совсем юной, но уже успела потерять обоих родителей: отца на фронте, мать под бомбёжкой, – а сама спаслась только чудом. Чтобы выжить, начала зарабатывать шитьём: мелкая штопка, крохотные заказы… И всё же ты никогда никого ни о чём не просила. Мужчины, что у тебя были, оставили тебе лишь детей. А ты, что ты оставила мне? Есть ли во мне хоть что-то твоё? Может, взгляд на жизнь – вечно исподлобья, будто ожидая подвоха? Или неразговорчивость? Проболтавший всё детство, теперь, став вдвое старше тебя тогдашней, я словно превратился в твою копию. В разговорах я нынче не силён: открытость прошлых лет сменилась маской безразличия, искренность – привычкой врать.
Завтрак в отеле ещё не подали. Что ж, перекушу по пути – время есть. Направляясь по набережной к пьяцца дель Плебишито, я больше не чувствую себя заезжим туристом, хотя и своим в городе тоже не стал. Наверное, так навсегда и останусь собой: тем, кто отсюда сбежал.
Захожу в кондитерскую на виа Толедо. Здесь всё по-прежнему – так, как я помню: те же бледно-голубые полки за стеклом, та же выпечка, непрерывным потоком возникающая из духовки, тот же одуряющий запах ванили и флёрдоранжа на всю улицу… Именно сюда мы с Томмазино бежали, зажав в кулаке выпрошенную у Тюхи мелочь, а потом делили миниатюрные лакомства, словно невероятные сокровища. Тогда, до отъезда, мне многое казалось невероятным.
Сидя за столиком на самом солнцепёке, я наслаждаюсь сладостями, размышляя, что мог бы сейчас быть кем-то другим: бухгалтером, сапожником, врачом… Потом оплачиваю счёт и иду дальше.
Суд по делам несовершеннолетних оказывается невысоким красным зданием за серыми воротами в холмистой части города. Я спрашиваю дежурного, тщедушного человечка с редкими прядями волос, зачёсанными поперёк головы, где кабинет судьи Сапорито.
– Сапорито? – переспрашивает тот, приглаживая лысину. – Только по предварительной записи. Вам назначено?
– Нет необходимости, – заявляю я, внезапно обретя детское нахальство. – Просто передайте, что к нему Америго.
Человечку хочется послать меня куда подальше, но он боится, что я могу оказаться важной птицей, поэтому на всякий случай набирает внутренний номер, повторяет моё имя и пару секунд ждёт: очевидно, абоненту на том конце тоже нужно время, чтобы извлечь из памяти наши с ним образы – на полметра ниже и без седины в волосах.
– Можете подниматься, третий этаж, – бормочет наконец дежурный и, высунувшись из своей будки, глядит, как я быстрым шагом иду к лифту: всё ещё силится понять, с кем имел дело.
Когда Томмазино открывает дверь, прошлое в один миг проносится у нас перед глазами. Нам нет нужды сверять его с настоящим: кажется, что пролетевшие со времени моего побега годы, наполненные для нас обоих разного рода взлётами и падениями, можно запросто взять в скобки – скобки длиной в целую жизнь, но для нашей дружбы абсолютно несущественные.
Кабинет совсем крохотный, опрятный. Томмазино показывает фотографии жены и двух детей, мальчика и девочки, милых ребят под тридцать: один, получив диплом юриста, понял, что его страсть – кулинария, и открыл ресторанчик на Вомеро; другая работает учительницей, но сейчас в декрете. Именно это, а не другие новости, заставляет меня задуматься и ещё раз оценить, так ли уж недалеко нас разметали годы. Увидев фотографию внучки, я понимаю, что на самом деле между нами пропасть, что наши жизни текли вовсе не так уж синхронно.
Волосы Томмазино, по-прежнему вьющиеся, зачёсаны назад, седых прядей мало. Нам обоим за пятьдесят, но, думаю, я постарел куда сильнее и быстрее.
– Кармине много пережил – не скажу, конечно, что наравне с нами, всё-таки это слишком разные вещи… Эх, вот бы те поезда, наши поезда, ещё ходили…
Похоже, он нисколько не стыдится прошлого, а этой маленькой, полной бумаг комнатушкой даже гордится. Я же, оглядывая свои руки, мозоли на кончиках пальцев, думаю, что вырос совершенно бесполезным.
– Подумай, Амери! Ты ведь единственный родственник, который у него остался!
Молчу, не хочу отвечать. Впрочем, я и вопрос-то не до конца понимаю. Томмазино косится на меня с тем же выражением, что и Кармине: словно я не сдержал слова. Но разве я что-то обещал? Никогда. Всю жизнь один прожил, лишь бы не обещать. Избегая смотреть ему в глаза, обвожу взглядом кабинет: застав ленные книгами полки, стол светлого дерева, стул, спинка которого за долгие годы приняла форму его спины. На столе – фотографии детей, родителей: донны Армиды и дона Джоаккино. А рядом – лица седого северного папы-усача и его жены, сохранившей внушительность несмотря на морщины. Вот он, ответ. Прямо у меня перед глазами.
48
Вечером, вместо того чтобы остаться в отеле, я снова прохожу по улочкам твоего квартала – будто прощаюсь. Ещё позавчера казавшиеся мрачными, гнетущими, теперь они стали немного роднее. И пускай прошлое по-прежнему внушает мне страх, я всё же пытаюсь отыскать его следы.
Сегодня твой переулок молчалив, словно, кроме меня, во всём городе никого нет. Но прежде чем спуститься на площадь, я останавливаюсь у полуподвала, из окон которого льётся голубоватое мерцание работающего телевизора. Ставни распахнуты, у дверей стоят два стула. Это квартирка Хабалды.
Я на пару секунд замираю у входа, будто надеюсь увидеть знакомую улыбчивую фигуру в завязанном за спиной переднике.
– Никак, ищете кого-то? – доносится изнутри мужской голос, и навстречу мне выходит старик с редкими седыми волосами, собранными в куцый хвостик, который спускается ниже воротника рубашки. – К кому пришли?
– Нет, ни к кому… Простите за вторжение, доброй ночи.
Он выползает из своей норы с сигаретой в руке. Брови у него густые, косматые, глаза пронзительно-синие, и, пока он оглядывает меня с головы до ног, одно веко несколько раз дёргается. Я возвращаюсь и только тут понимаю: это давешний старик из церкви.
– Разве здесь не Хабалда жила?
Старик вздыхает, подняв глаза к небу:
– Преставилась, царствие ей небесное… Уж скоро… – он что-то высчитывает в уме, загибая пальцы, – четыре года как, – и выдыхает множество крохотных дымных колечек, медленно растворяющихся в воздухе. – Как Горбачофф помер…
– Но ведь Горбачёв жив!
– Никак нет, синьор, Хабалда мне точно сказала: помер Горбачофф, и коммунизм вместе с ним. И пару дней спустя преставилась…
Я никак не могу понять, смеётся он или нет. А старик, время от времени столь же примечательным образом выдыхая дым, продолжает:
– Сам я вдовец, с дочерью жил, с её, значит, мужем, с детишками: две девчонки и пацанёнок младший… У Хабалды-то сродников никого не осталось, вот после её кончины никто на имущество прав заявлять и не стал. Ну, я подождал несколько месяцев и сам сюда переехал… А вы, случаем, не племянник? – спрашивает он: похоже, боится лишиться крыши над головой.
– Не беспокойтесь, я не по этому делу.
– А, журналист! То-то я смотрю, лицо знакомое…
– Нет, я лосьон после бритья рекламирую, вот и примелькался.
Старик разглядывает меня, периодически моргая: похоже, в этом тике есть какой-то внутренний ритм. Зажигается ещё одна сигарета, в воздухе снова кружат колечки дыма.
– Так вы же Долдон, – вдруг понимаю я.
Он не отвечает. Потом, сделав шаг в сторону, выдавливает:
– Заваливайте… – и за ту пару секунд, что он борется с судорогой, мне окончательно удаётся воскресить в памяти эти глаза, их пронзительную синеву.
Неуверенно потоптавшись на пороге, я наконец просовываю голову в дверь и окидываю взглядом комнату: обои – пожелтевшие по углам, но всё те же; грязно-серый пол; неровные, сколотые плитки вдоль стен. В углу, у входа в ванную я, кажется, даже узнаю свою.
– Пользуясь вашим любезным приглашением, – говорю я, когда он, забившись в угол, снова закуривает, – мне хотелось бы попробовать найти одну вещь, которая когда-то принадлежала мне. Можно?
Старик в свою очередь оглядывает комнату и разводит руками, словно удивляясь: и что здесь может быть интересного? Я снимаю пиджак, вешаю на спинку стула. Потом легко, несмотря на возраст, опускаюсь на колени – с той же уверенностью, с какой дети садятся прямо на мостовую или на пол. («Хватит, поднимайся! Нечего на земле сидеть!» – вечно ворчала ты.) Касаюсь плитки, ощущая под рукой застарелую пыль. Кончиками пальцев обвожу каждый квадратик, исследуя все их неровности. В итоге выбираю тот, что выглядит наиболее потёртым. Тяну – сперва потихоньку, потом всё сильнее, – но раствор держит. Старик наблюдает за мной, время от времени непроизвольно моргая: кажется, он меня изучает, но, возможно, просто беспокоится о сохранности пола. Наконец плитка отрывается, и я падаю на спину с керамическим квадратом в руках. Под ним зияет дыра.
– И откуда же вы меня знаете? – спрашивает старик.
Перед глазами сразу встают мешки с кофе, спрятанные под кроватью. И тряпки, которые я приносил тебе каждый день, – те, что Долдон потом продавал выстиранными и заштопанными. И как потом вы, ты и он, запирались поработать, а меня отсылали прочь.
– У меня в детстве был лоток на рынке.
Он не отвечает: то ли злится из-за оторванной плитки, то ли гадает, не здесь ли спрятаны знаменитые Хабалдины сокровища. А может, как и я, копается в памяти, пытаясь отыскать в моём уже почти старческом лице черты рыжеволосого мальчишки.
Сунув руку в дыру, я достаю жестяную коробку с побитыми ржавчиной уголками. Под слоем пыли ещё видны небесно-голубая эмаль и название марки печенья. Самого печенья я так никогда и не попробовал: жестянку подарил тебе один колбасник с Паллонетто, и ты использовала её как шкатулку, пока однажды Долдон – да, именно он – не подарил тебе профессиональную, деревянную, с двумя симметричными откидными крышками и множеством отделений для катушек разноцветных ниток и иголок самых разных размеров. В новой шкатулке было ещё три полки, которые поднимались на металлических петлях – настоящее чудо! Мне она казалась чем-то вроде космического корабля из фантастических комиксов, которые я видел в газетном киоске на Ретифило.
В общем, коробка из-под печенья досталась мне. А поскольку ты никогда не дарила мне подарков, эта жестянка цвета бумаги, в которую заворачивают сахар, обрела для меня невероятную ценность. Я никому не позволял с ней играть, даже Томмазино. Только одной Хабалде и показал. А потом мы вместе решили сложить в неё, как в сейф, всё, что мне хотелось сохранить: Хабалда говорила, у неё есть тайник. Там мои сокровища пролежали все эти годы, и, если бы Долдон не пригласил меня войти, там бы они и остались, пережив Хабалду, а вслед за ней меня. Так обычно и бывает с тем, что откладывают на завтра, ещё не зная, что никакого завтра не будет. Совсем как с твоей дженовезе.
Мы с Долдоном некоторое время разглядываем жестянку, не торопясь открывать: время для нас, для него и для меня, вдруг словно растянулось, став удобным, вместительным, как мои ботинки. Наконец я выставляю её на пластиковый столик, поддеваю ногтем крышку. Та с металлическим звоном отщёлкивается, и на свет одно за другим появляются мои сокровища. А вместе с ними из глубин памяти всплывают ясные, чёткие воспоминания.
Обмотанный бечёвкой деревянный волчок на стальной ножке… (Амери, хватит уже гонять свою дурацкую вертушку! Пожалей маму!) Крышки от американского пива, которые подарил мне чёрный, как ночь, солдат… (Вуоцциорнем, лидл бои? Вуоцциорнем?[24]24
Вуоцциорнем, лидл бои? Вуоцциорнем? – Как тебя зовут, малыш? Как тебя зовут? (искаж. англ.)
[Закрыть]) Засохшая горбушка, которую мы с Томмазино стащили у Тюхи… (А ну вылезай, паршивец! Ишь чего вздумал – хлеб воровать, крысёныш ты этакий!) Обрывки шпагата, скорлупка грецкого ореха с крошечным парусом, оплывшая свечка, английская булавка, попугаичье перо… Четыре гвоздя, ржавых и уже согнутых к тому времени, как я их подобрал бог знает на каком углу, – вот и все мои игрушки.
А следом – сложенная вчетверо газетная вырезка, пожелтевшая на сгибах, изъеденная сыростью. Осторожно разворачиваю, опасаясь, как бы она не рассыпалась прямо у меня в руках, и вижу почти неразличимую фотографию незнакомого высокого мужчины с вьющимися волосами, которые я воображал рыжими, и крупной подписью: «Giggino ’o ’mericano», «Джиджино-американец», – я сохранил её, поскольку именно таким представлял отца.
Долдон внимательно разглядывает эти возникающие один за другим артефакты, потом опускается рядом со мной на колени. Его костлявый остов – того и гляди переломится – так близко, что кажется, будто он хочет меня обнять. Но вместо этого Долдон запускает руку в дыру, и рука скрывается там целиком, так что его ухо почти касается пола: кряхтит, стонет от натуги, будто надеется отыскать припрятанные Хабалдой деньги, украшения, драгоценные камни, золото… Но тщетно: сокровищница пуста.
– А врал, что лосьон после бритья рекламируешь… – пронзив меня вызывающим взглядом, он переходит на «ты», будто вдруг почувствовав себя хозяином положения. Я встаю и, взяв жестянку под мышку, откланиваюсь. – Заходи как-нибудь ещё, я тебе столько всего расскажу… – доносится до меня уже в переулке.
Дверь захлопывается. Я останавливаюсь в паре шагов от окна и в сумраке вижу, как он, уверенный, что остался один, выпускает к потолку несколько колечек дыма, а потом снова суёт руку в дыру. Я уже хочу вернуться, но тут замечаю над почтовым ящиком белую наклейку: Луиджи Америо. Прозвища в нашем городе дают на всю жизнь и даже после смерти указывают их в объявлениях о похоронах, иначе люди просто не поймут, о ком речь. Вот и я никогда не знал, как зовут Долдона. Луиджи Америо.
Выходит, он носит имена двух твоих детей, Луиджи и Америго. Или, может, это мы, сами того не зная, носим в себе его частичку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































