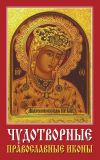Текст книги "Лехаим!"

Автор книги: Виталий Мелик-Карамов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Виталий Мелик-Карамов
Лехаим!

Художественное электронное издание
Художник
Валерий Калныньш
© Виталий Мелик-Карамов, 2022
© «Время», 2022
* * *
Прах сей и в прах обратишься.
Библия. Начало Книги Бытия
Еврею неважно – он там или тут:
И в жарком Крыму, и на дальней Аляске
Евреи, где хочешь, легко создадут
Русский ансамбль песни и пляски.
Игорь Губерман
Как и все другие народы ‹…› еврейский народ – и активный субъект истории, и страдательный объект ее, а нередко выполнял даже и неосознанно крупные задачи, навязанные историей.
Александр Солженицын. «Двести лет вместе»
ЛЕХАИМ![1]1
Будем здоровы! В дословном переводе с древнееврейского – «За жизнь!»
[Закрыть]
ИЛИ
САГА О МОНЕ ЛЕВИНСОНЕ И ФИМЕ ФИНКЕЛЬШТЕЙНЕ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ РОМАНТИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ГЕНИАЛЬНОМ ХИМИКЕ-ЭКОНОМИСТЕ И ТАЛАНТЛИВОМ ХУДОЖНИКЕ-ЧЕКИСТЕ НА ФОНЕ ГОРОДОВ И СРАЖЕНИЙ, СВЕРШЕНИЙ И ПОТЕРЬ, УЖАСНОГО И ПРЕКРАСНОГО XX ВЕКА
Шолом алейхем! Мир вам!
Как правильно указал отечественный классик, евреи как более или менее организованное население на территории Российской империи появились двести лет (теперь уже двести пятьдесят) назад. Евреи в небольшом количестве (торговцы) жили в России давно. Их то выселяли за ее пределы (Указ Екатерины I в 1772 году), то пускали обратно.
Отметим, что в Россию они массово не переезжали. И поодиночке тоже в нее не стремились. Империя сама до них добралась, накрыв их своим крылом, после всех разделов Речи Посполитой, то есть Польши, где они благополучно, а чаще всего не очень, проживали.
И к началу XX века, века немыслимых потрясений, в царской России оказалась самая большая еврейская община – почти две трети от общего числа гонимой нации.
После погромов, революций и Гражданской войны с Россией попрощалось около двух миллионов евреев. Большей частью они перебрались в Америку. Теперь в США почти у каждого музыканта, режиссера, врача и адвоката есть «русские корни».
Несмотря на множество запретов, первые сто лет евреи активно впитывали новую для себя культуру. И уже к началу второго столетия пребывания на новой родине община имела своих миллионеров, заводчиков, банкиров, композиторов, модных адвокатов, но и пылких революционеров, составивших костяк октябрьского переворота…
…Из миллиона судеб, фантастических биографий и незаметно прожитых жизней мы выбрали две истории – Моисея Соломоновича Левинсона и Ефима Абрамовича Финкельштейна.
Как полагается – от рождения и до смерти.
Эпизод 1
Сентябрь 1892 года
Суккот, осенний праздник
Сцена, которая сейчас откроется перед вами, в кино называется экспликация. Проще говоря, место действия. А совсем по-простому – это еврейское местечко Канатеевка неподалеку от Жмеринки.
Местечко как местечко: аптека, шинок, хаты, ничем не отличающиеся от тех, что и в украинских селах. Большей частью дома под соломой, но редкие крыши блестят жестью. Те же плетеные изгороди с горшками, насаженными на торчащие из них жерди. Незаметное различие было, например, в том, что на косяке двери каждого еврейского дома была прибита мезуза (свиток пергамента из кожи кошерного животного), обеспечивающая счастье его жильцам. Конечно, мезуза мало похожа на подкову. Но главным отличием от обычных хуторян (пейсатые хасиды не в счет) все же была внешность людей, населявших местечко. Ну никак невозможно иудея принять за славянина, даже в штаны не заглядывай. На что уж левиты, одно из колен израилевых, блондины и голубоглазые, все равно не похожи, и все тут!
Но окунемся в тихую украинскую осень, когда первые опавшие листья лежат на еще изумрудной траве, яблоки уже собраны и по прозрачному дню летают паутинки, а воздух пахнет дымом. Оглядим сверху пейзаж, где происходят важные события в двух соседних семьях – портного Абрама Финкельштейна и цирюльника Соломона Левинсона. В первый день праздника суккот и у Соломона, и у Абрама родились мальчики. Это важное событие было решено отпраздновать вместе – во дворе у Абрама, поскольку он был больше. Поставили на нем под деревьями столы, подразумевая, что это кущи, принесли лавки и даже гордость обстановки из гостиных двух домов – венские стулья.
А в соседнем дворе у Соломона выстроили полагающийся к празднику шалаш, накрытый речным ивняком в память о блуждании евреев по пустыне. Все описываемые события проходили на восьмой, кульминационный день суккота – Шмини Ацерет, и в этот день ожидалось много гостей.
В шалаше стояли две деревянные люльки. В одной лежал, задумчиво глядя в безбрежное небо, беленький Моисей, в другой, прищурившись на один глаз, хитро смотрел на восхищающихся гостей черненький Ефим. Оба они сосали вымоченные в воде с медом уголки матерчатых сосок. Моисей спокойно, а Ефим чмокая.
– Чистый цыган, – сказала одна из трех дочерей молочника Тевье, Хава. – Ему только коней уводить…
– Вей з мир! Боже мой! – прижав руки к груди, заохала мама Хавы, Голда, подойдя к люльке Моисея. – Ангел, маленький ангел! – А потом у люльки Ефима: – И зачем ты, Хава, говоришь цыган? Это же фэферл, чистый маленький перец!
Ребе Лейзер Вольф следил за тем, как накрывают на стол, не забывая о своей миссии просвещать.
– Цейтл, проверь, здесь должно находиться четыре растения: эторг, лулав, мирт и верба. Эти растения символизируют людей. Есть люди, совершающие благие поступки, они имеют запах. Есть люди, соблюдающие законы Торы, они имеют вкус. У эторга (это ветвь финиковой пальмы) есть и вкус, и запах. У мирта есть запах, но нет вкуса. У лулава есть вкус, но нет запаха. У вербы нет ни запаха, ни вкуса…
– Ребе, а откуда я все это возьму?
– Мы так говорить должны, а положить можно то, что есть, – яблоки, огурчики.
– А законы мы не нарушаем? – спросил зануда-студент Перчик, сын тети Леси, глядя, как женщины расставляют еду.
– Господин Перчик, евреи законы никогда не нарушают, потому что сами их придумывают, – заметил дамский портной Мотл.
В это время Нехама, жена Абрама, считала тарелки: дядя Самуил, дядя Герцель, тетя Леся, Перчик, тетя Двося…
Гуляющий вдоль ворот Тевье крикнул:
– Урядник идет!
– Ну слава богу, – сказала Нехама, – вся мишпуха[2]2
Компания.
[Закрыть] собралась. Давайте садитесь за стол…
Когда все наконец расселись, Лейзер Вольф встал.
– Братья и сестры, неделю назад, восемнадцатого сентября, родились Моисей и Ефим. А число 18 у евреев считается счастливым. Две его цифры соответствуют буквам, составляющим древнееврейское слово «жизнь»! Так пожелаем им долгой и счастливой жизни.
– Аминь! – закончил урядник, перекрестился, крякнул и выпил.
За столом возникло неловкое молчание.
Спасая положение, ребе продолжил:
– Но самое главное, рождены они в суккот, в великий праздник кущей. Сегодня, на восьмой его день, на небе решается наша судьба и судьба наших детей…
– И спать в эту ночь нельзя, – вставил знаток иудейских законов и Торы дамский портной Мотл.
– Можешь спать спокойно, Мотл, – заметил Тевье. – Твоя судьба уже вряд ли изменится.
– Много ешь, Лесечка, – в разгар возникшего теологического спора заметила тетя Двося.
– Не твое ем, Двосечка, – жуя, ответила тетя Леся.
…Ветерок тихо шевелил первые опавшие листья. Бегали вдоль стола всполошенные куры, изображая перед сном в курятнике непонятную занятость, тихо наползал уже прохладный вечер. На столе давно посвистывал самовар.
– А чей родственник этот Мотл? – спросила Цейтл у мамы.
– Нашему забору двоюродный плетень.
Урядник мирно посапывал на стуле с потухшей папиросой, зажатой между пальцами.
– Мы, евреи, чтобы ты знал, Самуил, – избранный народ. Это, кстати, известно во всем мире. Недаром нам все завидуют.
– Вы умный человек, Герцель, – ответил Самуил, – но, может, кто-то так не думает?..
– Ша! – ребе вдруг хлопнул ладонью по столу. Урядник вздрогнул и не проснулся. Лейзер с трудом встал, опираясь на стол. – Там, – он указал пальцем вверх, – сейчас пишется судьба двух маленьких мальчиков. – Ребе достал огромный носовой платок и долго в него сморкался.
Стих ветер, спали в курятнике уставшие куры. Тяжело вздохнул старый пес.
– И мы выпьем за то, чтобы они, евреи, оставались евреями. И пусть Господь Бог даст им здоровье и силы пережить все годы и горести!
Эпизод 2
Май 1905 года
Скрипач на крыше
За тринадцать лет мало что изменилось вокруг дома парикмахера Левинсона. Можно сказать, почти ничего, кроме двух разных вещей – погоды и сарайчика, поставленного на месте праздничного шалаша.
Сказать, что вся Канатеевка в это время года цвела, все равно что ничего не сказать. Но никакими словами не описать то разноцветное облако, которое легло на сады местечка. Оно от хаты до хаты переливалось от нежно-фиолетового до бледно-розового. Наступило время жадной до солнца ранней весны.
В это утро нарушали святую субботнюю тишину только гудящие пчелы, как пули при перестрелке пересекавшие двор Левинсонов, да шептание двух сестер Мони Любочки и Мирочки с кузинами Файбисович. К тому же случилось еще и так, что Финкельштейны с сыном из синагоги зашли в гости к Левинсонам.
Главным экспонатом этого субботнего утра, представляемым гостям, был гордость семьи Левинсонов, их племянник молодой доктор Арон Файбисович. Доктор ходил вдоль грядок в жилетке с цепочкой и в пенсне. За ним катил колесико на специальной палочке с крючком противный малолетка, его сын Самуил.
Моня в гимназической форме и Фима в заляпанной краской блузе сидели на крыльце сарайчика. Файбисович-младший с серьезным видом отъехал от севшего на скамейку отца и теперь нарезал с колесиком круги рядом с ними, явно пытаясь подслушать, о чем говорят взрослые мальчики.
– Пошел отсюда, шлимазл[3]3
Здесь: придурок (идиш).
[Закрыть], – зашипел Фима.
Самуил, не меняя выражения лица, покатил колесико в сторону сплетничающих тетушек.
– Курить охота, – зевнул Фима.
– Семка наябедничает, – ответил Моня.
– Так я на крышу слазаю… – и Фима в три приема оказался на дощатом скате. Свесив вниз голову, он попросил: – Моня, подай скрипку!
Моисей, не глядя вверх, поднял над головой инструмент.
– Сейчас я тебе, фраеру-гимназисту, исполню песнь двух гонимых народов…
– От недоучки-маляра слышу, – отозвался Моня. – Главное, сарай папиросой не подожги.
– Ты, Моня, свои мелкобуржуазные замашки оставь для гимназии.
С крыши по окрестностям разнеслась мелодия «Цыганских напевов» Пабло Сарасате с вплетенными в нее тактами из «Семь сорок».
Маленький Самуил теперь крутился вокруг стульев, на которых сидели мама Левинсон и мама Финкельштейн. Они, как куры на насесте, застыли, закатив глаза и слушая музыку. Мама Левинсон, которая взбивала в большой фарфоровой миске гоголь-моголь, автоматически продолжала его взбивать точно в такт мелодии.
– Когда мы два месяца в Вильно ждали смерти дядюшки Боруха, – прошептала мама Финкельштейн, – Фимка бегал учиться на скрипке к нашему родственнику Рувиму Хейфицу. Ты должна его помнить, он приезжал к нам с Абрамом на свадьбу. Так вот, он говорил, что Фимка даже способнее его родного сына Яши…
Мама Левинсон не могла оставить такое без ответа.
– Моня такой умный, – вдруг сказала она, – что я даже боюсь. Соломон встретил учителя химии, тот ему говорит: «Несмотря на то что мы вашего сына определили в гимназию по цензу, он будет великим химиком». А потом Соломон встретил учителя математики, – при этом она продолжала взбивать гоголь-моголь. – И тот ему говорит…
– …Несмотря на то что мы вашего сына определили в гимназию по цензу, он будет великим математиком, – закончил вместо нее противный малолетка.
– Вот таки и встретил сразу двоих? – не поверила мама Фимы.
– Иди, Самуильчик, к девочкам, они тебе конфет дадут, – прервала неприятное развитие разговора мама Мони. – А если Фима такой талант в музыке, зачем вы его учите малярному делу? – вставила она свою шпильку…
Девушки лежали голова к голове на перине, вынесенной на первое теплое солнце и уложенной на разбросанную солому. Сестры Мони и сестры доктора Файбисовича Белла и Хана.
– Как же хочется из этой дыры уехать! – сказала Хана.
– В Киев? – уточнила Люба.
– Отсюда бежать надо, на юге уже случились погромы. И это, говорит Перчик, только начало…
– В Америку?
– В Америку, в Петербург, в Москву.
– В Москву, в Москву, – мечтательно произнесла Белла.
– Помните Гусманов из Жмеринки? Мельник, у которого семеро сыновей, – деловито заметила Люба. – Мельник, папин двоюродный брат. Он продал мельницу, перебрался в Баку, зовет туда переехать папу. Пишет, что легко завести свое дело, а город, как Одесса, море, порт и много инородцев. Там сейчас большие возможности.
– Там же персы проходу не дадут!
…Тут на самом интересном месте замерший напротив Самуил капризно заявил своим теткам:
– Хана, Белла! Я хочу пи-пи!
– Дуй, хлопчик, до тяти, – замахали руками все четыре…
…Арон Файбисович привычным движением застегнул лямку на штанах сына. Он пересел на стул, уступив лавочку напротив расположившимся на ней Соломону Левинсону, Абраму Финкельштейну и ребе Лейзеру.
– Тяжело одному, Арон, – сказал ребе. – Два года уже прошло, как жена от тебя ушла. Пора новую в дом привести…
– Тут торопиться совсем не обязательно, – тихо высказался Абрам Финкельштейн, скосив глаза туда, где взбивали гоголь-моголь. – Недаром мудрый Соломон говорил, что среди тысячи жен он ни одной путной не нашел…
– Мне сестры помогают, – гордо объявил Арон. – Да и зачем сейчас суетиться, мы в Москву решили перебираться. Очень здесь стало неспокойно для евреев. Наша старшая, Дора, уже в Первопрестольной.
– Каждый должен искать себе ровню, как в Писании сказано: «Каждому по достатку своему…» – Ребе Лейзер был недоволен таким скрытым отпором представителей своей общины.
В это время Фима, свесив голову с крыши сарая, уговаривал Моню:
– Слабо тебе, Моисей.
– Слабо здесь ни при чем.
– Значит, пусть Тараска и дальше тебя пархатым называет, а ты ему еще кланяйся, кланяйся.
– Никому я не кланяюсь. Мне что, на дуэль его вызвать?
– Ты с ума сошел? Какая с Тарасом дуэль? Он же на нее не только с батей-куренным явится, но и со всеми местными православными казаками. Ты только зарядик мне масенький такой сделай… – И Фима, сложив в щепотку пальцы, показал размер бомбы.
– А где я тебе взрывчатку возьму?
– Та нигде, ты же химик. Что, слабо самому сварганить?.. – и Фима, щелкнув пальцами, шикарно пульнул недокуренную папиросу.
Описав замысловатую дугу, шипящий окурок точно попал в миску взбиваемого гоголь-моголя.
Вей з мир, Боже мой, как тиха летом украинская теплая ночь, легко отступающая перед радостным рассветом.
И оглядывая все, что нас окружает, можно только повторить первые слова Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю».
Фиму и Моню окружали лопухи, с которых стекала роса, как после обильного дождя. Холодные капли текли за шиворот, но парочка упорно ползла по холму к стоящему на его вершине плетню, за которым виднелась сколоченная из досок будка сортира.
Оглядевшись вокруг, они притаились перед решающим броском. За ними внизу светлым пятном светилась площадь, от которой расходились пустые улицы, там во дворах иногда брехали мучимые бессонницей собаки.
Впереди, на небольшом взгорке, стоял дом куренного атамана Остапа Грушко, как пикет, отделяющий чистую часть села от нечистой. С другой, невидимой стороны холма уже вступили в перекличку дворняги. Похоже, что они, как и их хозяева, не испытывали никакой симпатии к соседям.
Тут включились, перекрикивая перебранку, петухи. Местечко с одной стороны, а село с другой начали медленно просыпаться.
– Пора, – сам себе приказал Фима.
Он нырнул под плетень, дополз до задней стенки сортира, таща за собой тонкую веревку. Перевернувшись на спину, Фима достал из-за пазухи завернутый в холстину пакет, развернул тряпку. Под ней оказался предмет по размерам приблизительно в полкирпича, обернутый в газету и перемотанный бечевкой. Фима вставил в «кирпич» веревку, которая на самом деле была бикфордовым шнуром. Дальше он подкопал землю и в прорытую щель под нижней доской медленно стал опускать пакет на шнуре в выгребную яму.
В это время на широкое крыльцо, больше напоминающее открытую веранду, вышел сам пан атаман, босой, но в шароварах, на которые ушло не меньше ста саженей (почти двести метров) синего атласа, и в нарядной вышиванке.
Куренной что в высоту, что в ширину был примерно одного размера. На круглом лице выделялись только маленькие хитрые бусинки глаз и нос картошкой. Длинный редкий чуб свисал с бритой головы. Встав лицом в ту сторону, откуда должно было подняться солнце, то есть по направлению к Моне и Фиме, чтобы не сказать к сортиру, атаман широко перекрестился, сладко зевнул, вновь перекрестив, теперь уже мелко, собственный рот. Потом спустился с крыльца, подошел к шесту, стоящему рядом, и поднял флаг с изображением Михаила Архангела – ангела в латах, со щитом и распростертыми крыльями, окруженного венком, который замыкал императорский двуглавый орел.
Поклонившись повисшему стягу и в третий раз за пару минут перекрестившись, атаман стянул с себя вышиванку, потом, прыгая поочередно то на одной, то на другой ноге, стал избавляться от шаровар. Парадную одежду он аккуратно повесил на перила веранды.
Оставшись в исподней рубахе и подштанниках с болтающимися тесемочками, босой куренной направился к сортиру. В это время, по заведенному ритуалу, на веранду-крыльцо круглая атаманша вынесла пыхтящий самовар. Следом за ней выполз, зевая, такой же квадратный парубок.
Фима и Моня вжались в землю так, что почти слились с поверхностью.
Куренной вошел в сортир и ударил по опущенному пакету мощной струей. Бикфордов шнур он не видел, потому что стоял, закатив от удовольствия глаза к потолку.
Фима под грохот этого водопада, извиваясь ужом, добрался до Мони.
– Не размокнет? – спросил он у Мони.
– Не должно, – отозвался друг, сосредоточенно пытаясь получить огонь. – Спички отсырели.
– Моисей, – зашептал Фима, – за тобой глаз да глаз нужен.
В ту же секунду у Мони загорелась спичка, а от нее, зашипев, побежал по траве еле видный огонь.
Именно тогда, когда куренной и его наследник держали каждый в одной руке баранку, в другой – блюдечко с чаем, вытянув к нему губы, грянул взрыв. Деревянная будка взлетела к небу, за ней вырвался темный фонтан…
Петухи, ойкнув, заткнулись. Собаки, выдержав мхатовскую паузу, остервенело взвыли.
– Тикаем! – воскликнул Фима и первым бросился вниз по холму. – Моисей, зачем? Я же хотел его только пугануть, – задыхаясь, прокричал он.
– Не рассчитал, – обреченно отозвался Моня. – Надо было брать меньше бертолетки.
Место взрыва представляло ужасное зрелище. Будки как таковой больше не существовало. Щепки от нее легли ровным кругом на огороде, прикрыв разлетевшееся дерьмо. Но самое страшное, что оно ровным слоем покрыло всю веранду с самоваром, бубликами и замершими с блюдцами в руках куренным и его сыном. Дерьмо не пощадило ни шаровары, ни вышиванку.
Атаманша заголосила, как по покойнику. Тут от страха заткнулись и собаки. Только оставшийся чистым Архангел Михаил с укоризной глядел на открывшуюся картину.
У натыканных на жерди неизменных горшков урядник беседовал с Соломоном, который стоял на своей территории с другой стороны плетня.
– Есть сведения, Соломон, что в теракте принимал участие ваш сын. Никто, кроме него, не мог сделать бомбу…
– Моисей участвовал в теракте? Да никогда! Вы же, Семен Михайлович, его с рождения знаете. И разве это теракт? Муха даже не погибла! Мы же мирные люди.
– Атаман говорит, что все жиды – террористы от рождения! И в первопрестольной вы бузу какую-то затеяли…
– Может быть, может быть, но только не Моисей. У него, чтобы вы знали, столько же динамита, сколько у вас бриллиантов…
– Я вас предупредил, господин Левинсон. Теперь пойду к Финкельштейнам. Есть сведения, что Ефим угрожал сыну атамана…
Соломон смотрел в спину урядника, пока он не скрылся за поворотом.
– Берта, – закричал он, – будем собираться. Хоть в Баку, хоть в Америку. Эта дружба с Фимой доведет Моню до цугундера.
Эпизод 3
Апрель 1909 года
Баку. Промыслы Биби-Эйбат
На дощатой платформе, закрывающей пропитанную нефтью землю, выстроилась небольшая комиссия во главе с владельцем промыслов шведом Нобелем.
Напротив комиссии собрались вымазанные в мазуте рабочие промыслов.
Между двумя группами на небольшом возвышении торчит нефтяная качалка. Вокруг нее суетится в короткой, не по росту, гимназической тужурке худой и высокий Моня, а рядом с ним спокойно настраивает какой-то механизм у основания качалки солидный усатый мастер.
Комиссия скептически наблюдает за приготовлениями этой странной парочки. Уже печет весеннее апшеронское солнце. Кое-кто из инженеров обмахивается платком.
Нобель в черной тройке и котелке недвижим, как скала.
– Таким образом, господа, – объявляет наконец Моня, – после установки изобретенной мною и изготовленной мастером Байбаковым заглушки потери на каждой скважине сокращаются на четверть фунта в неделю, следовательно, четыре пуда в год, а по всем промыслам – около десяти тысяч пудов…
Моня пригласил жестом подойти поближе. Никто не шелохнулся, поскольку хозяин с места не двинулся.
– Экономия в месяц – около десяти тысяч рублей, – грустно сообщает Моня.
Лицо Нобеля остается бесстрастным. Переводчик уже перестал нашептывать ему в ухо.
– А сколько будет стоить производство задвижек, их установка и обслуживание? – спрашивает по-английски один из инженеров.
– Больше тридцати тысяч, – по-английски отвечает Моня.
Комиссия улыбается и переговаривается.
– Но это же только разовое вложение, – отчаянно взывает Моня.
– Кем вы работаете? – по-немецки в полной тишине произносит Нобель, разглядывая Моню бесцветными глазами.
– Помощником инженера в местной конторе, – по-немецки отвечает Моня.
– Образование?
– Девять классов гимназии.
– Компания «Нефтяные промыслы братьев Нобель» отправит вас осенью стипендиатом в Сорбонну. Учите французский.
Не прощаясь, магнат развернулся и зашагал по настилу. Комиссия гуськом потянулась за ним.
Мастер Байбаков пожал Моне руку.
Качалка со скрипом продолжала работать. На ее оси кружился блестящий эксцентрик. Моня его остановил и расцеловал.
Бакинский дворик на улице Кирочной. Уже июль, и значит, на улице с утра стоит страшная бакинская жара. Открытые лестницы и галереи на всех трех этажах. На одной из дверей третьего этажа сверкала начищенная латунная табличка «Салон г-на Левинсона». Входная дверь открыта настежь, как и все остальные двери в квартире-салоне. Это способ создать хоть какой-то сквозняк. С просторного балкона квартиры, увитого виноградом, между широкими листьями видны плоские крыши соседних домов.
На балконе за столом вся семья Левинсонов. Сам Соломон Моисеевич, Моня и две его старшие вполне упитанные сестрички Люба и Мира. Вошла на балкон и мама, Берта Абрамовна, держа сковородку с горячей яичницей и помидорами для папы.
Соломон Моисеевич, не отрываясь от газеты, взялся за яичницу.
– Соломон, – сказала жена, – у меня для тебя плохие новости.
Вилка с куском яичницы замерла в воздухе.
– Соломон, подними глаза от газеты, и ты увидишь, что у тебя уже выросли дети…
Дети привычно занимались своими делами. Моня читал пухлый том «Капитала», сестры готовили себе громадные бутерброды. Масло лежало перед ними в глубокой розетке на тающем льду, на соседней, тоже на льду, возвышался брусок паюсной икры.
– А что с детьми? – поинтересовался глава дома.
– Азохн вей! – всплеснула полными руками Берта Абрамовна. – Он еще спрашивает! Счастье, что Гусманы пристроили Моню к Нобелю, и теперь он уезжает, как вам это нравится, в Париж, не приведя еще в дом ни одного приличного молодого человека…
Сестры замерли.
– У тебя есть хотя бы пара достойных приятелей с сыновьями?
Соломон Моисеевич замычал, делая вид, что у него рот набит едой. Промычал он нейтрально, так что не было понятно, есть у него подходящие приятели или нет.
– Значит, каждый четверг ты играешь в вист с босяками, – сделала единственный правильный вывод Берта Абрамовна.
Тут хозяин дома обрел дар речи.
– Почему с босяками? Доктор Фридман босяк? А скрипач Гершович? И потом, девочки еще учатся на курсах! Не надо торопиться…
– Ты бы в другом деле не торопился, – возмутилась Берта Абрамовна.
Сестры понимающе захихикали.
– Можно хотя бы в воскресенье нормально позавтракать! – Соломон Моисеевич сорвал с себя салфетку.
– Ах тебе мешают? – саркастически поинтересовалась супруга. – Так завтракай с женой Гершовича…
Сестры замерли. Обычная перепалка приобрела интересный поворот.
– При чем здесь жена Гершовича?! – Соломон Моисеевич вскочил и стал метаться по балкону.
– Яичница остынет, – язвительно заметила Берта Абрамовна. – Жена Гершовича, конечно, ни при чем, если бы Фира вас не увидела в синематографе…
Соломон Моисеевич поднял глаза к небу, будто пытаясь там прочесть ответ на этот сложный вопрос.
В это время на улице раздался переливистый свист – так свистеть умеют только голубятники.
Соломон Моисеевич выглянул вниз и радостно вскрикнул, поскольку эта новость освобождала его от продолжения неприятной темы.
– Моня, Фима внизу в пролетке!
Сестры восторженно завизжали. Берта Абрамовна всплеснула руками:
– Откуда взялся этот шмендрик[4]4
Никчемный (идиш).
[Закрыть]? Только его здесь не хватало. Что ни день, то неприятности!
Поскольку последнее слово должно было остаться за ней, Берта Абрамовна язвительно поинтересовалась:
– А Любочку Гершович он с собой не привез?
Моня закричал:
– Фима, поднимайся!
Купальня на Приморском бульваре – это крашенные белилами деревянные мостки от берега к большому коробу, тоже деревянному, стоящему в воде на сваях и не имеющему четвертой стены, той, что со стороны моря. Внутри короб разделен на две части – женскую и мужскую. В каждой есть кабины для переодевания, спуски в воду и скамейки для отдыха. На общей террасе даже имеется буфет с парусиновым полосатым навесом от солнца.
На краю купальни лицом к морю сидели рядом в полосатых купальных костюмах Моня и Фима, болтая ногами над водой. Костюм на Фиме был явно выдан другом детства. Нижняя его часть опускалась чуть ли не до икр, а бретельки наверху Фима завязал бантиком, иначе вырез, рассчитанный под шею, уходил бы ниже груди.
Загорелый худой Моня прыгал в воду прямо с площадки, минуя ступени. А когда он заплывал далеко в море, белотелый и мускулистый Фима спускался по лестнице в воду, поглядывая через сваи на плещущихся по соседству купальщиц…
Меньшая часть посетителей купальни – это спортсмены, которые, как Моня, устраивали длинные заплывы. Большая – солидные господа, так же, как Фима, стоя на неглубоком дне, с интересом рассматривали визави по женской половине.
Наконец друзья устроились в тени под навесом и заказали лимонад.
– Какими судьбами? – спросил Моня, подскакивая и прыгая на одной ноге, наклонив голову: он вытряхивал из ушей воду.
Фима неопределенно пожал плечами и ловким щелчком отправил окурок на женскую сторону. Там взвизгнули.
– А как дядя Абрам и тетя Нехама? – не унимался Моня. – Как они устроились в Аргентине? Пишут?
– Пишут. Родственникам. У меня же нет адреса.
– И что пишут?
– Что, что? Евреи где-нибудь жили не как евреи? Им что Винница, что задница, без разницы…
Официант принес высокие бокалы со звенящим внутри льдом.
– Лехаим! – подняв бокал, объявил Фима.
– Ефим, а ты что здесь делаешь?
– Так я же тут остался.
– Я что, не вижу? В Баку что делаешь?
– Слушай, Моня, у меня к тебе дело…
Моня тоскливо посмотрел на бесцветное от жары небо.
– …Одолжи мне свой паспорт. Мне отсюда исчезнуть надо. Срочно. А я тебе его пришлю обратно. Сразу, по почте. Не сомневайся. Кровью могу расписаться.
– Ты опять что-то взорвал?
– Ну вроде того… Да ладно, шучу! Меня один гад из Ростова ищет. Требует, чтобы я на его дочке женился.
– Еврейка?
– Какая еврейка?
– Девушка эта еврейка?
– Нет, хуже. Грузинка. Рыщут абреки ее папаши по всему Кавказу. Обещают зарезать. Я вообще в этом деле евреек не люблю, они какие-то мокрые. Я половой антисемит! – гордо закончил Фима.
– И куда ты, антисемит, отсюда бежать собрался?
– Сегодня ночью есть пароход в Энзели, оттуда через Тегеран в Палестину. Дальше видно будет. Кстати, у тебя как дела?
– У меня нормально. Работаю у Нобеля. Он меня посылает осенью учиться в Сорбонну.
– Пашешь на капитал!
– Слушай, Фима, сюда, я похож на дурака? Где ты, где грузинка с абреками? Паспорт я тебе дам, но через неделю сообщу, что его украли, по той простой причине, что ни в какую Персию ты не собрался и ни черта ты мне обратно не пришлешь. Я был у Гусманов, там все знают, что ты жил у Шаумяна, а он социалист, агитирует на промыслах…
– Нельзя быть таким умным, Моня! – Фима встал. – В Париж он уезжает! Взорвать бы твоих Нобелей к чертовой матери! Паспорт лучше одолжи товарищу!