Текст книги "Тадзимас"
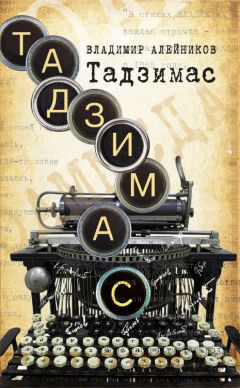
Автор книги: Владимир Алейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
И это – здесь, в Коктебеле, где находится лишь некоторая, хотя и немалая, часть моих бумаг.
А еще ведь сколько их в Кривом Роге, у меня на родине, в родительском доме, где я работал до девяносто первого года, пока не поселился в Крыму, десятилетиями, работал неистово, самозабвенно, и в этом, только в этом, находил спасение от минувших невзгод и бед.
А что творится у меня в Москве, в московской квартире, где я, бывает, живу в холодную пору года! – ты и представить себе, читатель, не можешь, – там, в моей рабочей комнате, с окном уже не на юг, а на север, с видом на окрестные парки и кварталы домов, открывающимся с нашего двенадцатого этажа, – там, в комнате, где на стенах висят любимые мною работы Игоря Ворошилова, великого художника, где есть много хороших книг, там, на площади, вдвое большей, чем площадь коктебельской комнаты, вообще повернуться некуда, – все скапливается, пылится, засовывается куда-то, потом разыскивается, и так все время, – и все нужно, и к этому обилию бумаг я привык, сжился с ними, они – мои.
А сколько бумаг моих находится в разных собраниях, раскидано по всяким городам и странам!
А сколько их утрачено в годы мытарств и бездомиц – и вспоминать неохота об этом, не сыщешь концов теперь, хотя о некоторых местах их концентрации представление я имею и понимаю, что когда-нибудь, в будущем, в силу меркантильных повадок заполучивших обманным путем или похитивших их граждан, они выйдут на свет.
Но погибло – слишком уж много.
На протяжении девяностых годов от сотрудников некоторых музеев стали поступать ко мне предложения – передать им на хранение любые, на мое усмотрение, из моих бумаг. Помню, одна такая сотрудница особенно настаивала на том, что лучше всего, мол, будет, если я отдам им свои черновики, – вот это всегда важно, и процесс работы виден, и тому подобное. Передать на хранение – это, называя вещи своими именами, попросту подарить, потому что никаких средств у музеев давным-давно уже нет и покупать они ничего не могут. Понять их можно. Им надо пополнять свои фонды. И откликнуться на их призыв, наверное, когда-нибудь можно будет. Но не сейчас. Не время еще – чувствую, знаю. Рано. И не до этого: мои бумаги – все в работе.
И никто не имеет даже приблизительного представления, никакого понятия не имеет о том, что это за бумаги, старые и новые тексты, окружающие меня в местах моего обитания, что там, в этих папках, в этих кипах и россыпях, – даже те, кто вроде бы считаются знатоками моих писаний, – даже до них не добрались еще эти тексты, а уж как, по старой памяти, хотели бы они их заполучить, ан нет, не успели, – и все это, подчеркиваю, у меня в работе, и все это мне нужно, приходится возить с собой взад-вперед эту поклажу, набивать рюкзаки, тащить, складывать, раскладывать, – и ничего, привык, так вот и существую, наедине со своим самиздатом.
Эти рукописи и машинописи – часть меня самого. А может быть, я сам, вот такой, как есть, – это они. Кто знает? Потом разберутся. Для меня это все – живое.
Разбрелись мои книги, рассеялись по миру. Ведь у изданных типографским способом текстов своя собственная жизнь, иногда – кабинетная, домашняя, библиотечная, иногда – со странностями, с приключениями, с имеющими изрядный мистический оттенок историями. Вот они и живут сами по себе, путешествуют. Бывают там, где я сроду не бывал. Поди гадай, где они окажутся завтра. И хорошо, что читают их те, кому мои тексты действительно нужны.
В самом начале девяностых, в Москве, профессор Миливое Йованович, знаток русской литературы, и особенно – литературы современной, совсем недавно еще имевшей незавидный статус неофициальной, запретной, подпольной, гонимой, лишь урывками публикуемой на Западе – и вдруг, вопреки всей предыдущей политике, благодаря парадоксальному стечению всяческих, печальных и радостных, плохих и хороших, запутанных и предельно простых, но для всех нас новых обстоятельств, хотелось бы сказать попраздничнее – как по волшебству, но скажем куда прозаичнее – в связи с изменениями, происшедшими в жизни общества, как оно и было на самом деле, несмотря на всю казенность этого газетного выражения и на поразительное умение наших властей изъясняться так обтекаемо и неопределенно, так одновременно обо всем вроде бы и ни о чем, что остается только в очередной раз руками развести, а говоря короче – по причине появившихся нежданно, чуть ли не как снег на голову свалившихся возможностей свободных, бесцензурных изданий, начавшей, все больше и больше, по нарастающей, издаваться и на родине, поначалу в Москве и в Питере, а вскоре и в других местах, литературы, для отечественных читателей новой, впервые по-настоящему открываемой им, желанной и важной, литературы – нашей, кровной, выстоявшей и наконец утверждающейся в виде изданных книг, утверждающейся в сознании читателей, имеющих доступ к этим книгам, что следует особенно подчеркнуть, —
Миливое Йованович, глава целой школы славистов, житель ныне изуродованного натовскими бомбардировками Белграда, седой, высокий, весь как-то хорошо подтянутый, подобранный, с юношеским, постоянно вспыхивающим огнем в умных и грустных глазах, с детским, непрестанным, никогда не покидающим его изумлением перед миром и звучащим в нем словом, удивительно живой, с превосходной интуицией, с присущей ему мгновенной реакцией на все, что происходит вокруг, с настоящими, глубокими знаниями, совершенно естественный в любой обстановке, то вдруг задумывающийся, то порывистый, как в полете, светлый человек, напоминающий сербского древнего воина, – таким штрихом я всегда дорисовываю его портрет в своем воображении, – это созвучно с его именем – милый воин, да он и есть подлинный воин слова, – сказал мне с обескураживающей откровенностью:
– Когда я читаю ваши книги, то ощущаю такой импульс к творчеству и получаю такой заряд светлой энергии, что мне самому сразу же хочется писать стихи.
Он смотрел в корень.
Он чутьем угадал, в чем тут дело, в чем суть моих стихов.
Действительно, есть в них этот импульс, побуждающий и других людей к творчеству, есть этот заряд энергии, знаю твердо – созидательной, требующий верного восприятия, должной настроенности, сконцентрированного внимания, взаимного доверия между текстом и читателем, переклички и взаимовыручки сознания и подсознания, участия души, сердечного отзыва, усвоения, а потом и дальнейшей работы, какого-то неминуемого продолжения, развития, включения в эту общую для всех пишущих людей цепь, в эту систему связи, в это силовое поле, в это звучание жизни, бытия, воспринимаемое мною как космическая музыка, зафиксированное мною в слове, осмысленное как живое биение вселенской гармонии, где все важно и все на своем месте, все в единстве и в сложной своей полифонии, где нет бесполезных пустот, где все в работе, все в действии, все представляет собою единый организм, единый мир, где каждый звук и слог, соединяясь с другими, варьируясь, развиваясь, храня огонь жизни, призывает и других к творческой, – тоже требующей полной отдачи и участия в этом вечном единстве, которое я, насколько мне удается, стараюсь выразить, – деятельности.
Просто – нужен выход на те частоты и волны, на которых я работаю, говоря упрощенно, нужно настроиться на них, уловить их, принять передаваемые мною в окружающее пространство позывные, мои сигналы и токи, звучание моей речи, воспринять их чутко, внимательно, насколько это возможно, осмыслить их, откликнуться на них, – и контакт наладится, связь будет осуществлена.
Дальше начнется индивидуальная, у каждого такого контактера сугубо личная, большая работа по вхождению в мир этой речи. Потом, при подлинном осознании его органичности и закономерности, в нем можно будет даже присутствовать, возможно, и жить, во всяком случае, в той или иной мере сродниться с ним.
Что это вообще – мои стихи? Может быть, угаданный, по-своему выраженный и передаваемый средствами речи подразумеваемой отзывчивой душе искомого друга по времени – земному и совсем иному, существующему по другим законам, душе спутника по путешествию в пространстве – во всех известных и не всем еще известных его измерениях, – общекосмический, универсальный код бытия?
Догадывайтесь лучше сами. Попробуйте. Авось и прозреете.
Далеко не всегда находится такой вот возможный друг, собеседник, – Тот, Кто Поймет. Годами живу я в матером своем одиночестве. Знаю, что настоящий читатель столь же редок, как и настоящий писатель. Смиряю всяческие страсти, надеюсь, жду. И верю. Сызмальства открыт я всему и всем на земле. Возраст мой ныне таков, что могу говорить в полную силу – и далеко не все я еще сказал. Так и живу – отшельничая в повседневной своей жизни и порываясь навстречу людям в том, что пишу все эти долгие годы.
Бывали, и нередко бывали – что там хандрить! – радостные для меня и поэтому бережно хранимые в памяти случаи подлинного понимания того, что я делаю в поэзии.
К сожалению, многих из этих людей уже нет на свете.
Но для меня они так и остались живыми.
И мысленно я продолжаю беседовать с ними.
Игорь Ворошилов, Игореша, духовидец и скиталец, подвижник и мученик, великий художник, поэт, мыслитель, человек, обладавший силой Святогора.
Вадим Борисов, Дима, Димка, один из лучших людей России, умница, чистая душа, щедрое сердце, рыцарь чести, хранитель духа.
Леонид Губанов, Леня, Ленечка, Лека, Губаныч, гениально одаренный московский мальчишка, мятежник, буян, безумец, страдалец, скорбный очевидец и пророчествующий летописец эпохи в зрелые свои годы.
Александр Величанский, Саша, человек принципиальный и честный, поэт резкий, трезвый и пристрастный, оставивший потомкам уникальные поэтические свидетельства своего времени.
Леонард Данильцев, просто Леонард, наш – для всей богемной братии, умный и благородный человек, подлинный поэт и яркий прозаик, художник, знаток искусств.
Николай Шатров, Коля, великий поэт, отшельник, мистик, человек глубоко верующий и наделенный разными необычайными способностями, пророк и мыслитель, чье огромное поэтическое наследие до сих пор толком не издано.
Владимир Михайличенко, Володя, мой земляк, замечательный украинский поэт, чьи стихи тоже, слишком уж долго, никак не осмыслят и не издадут на родине, человек трагический и светлый.
Анатолий Зверев, Толя, Анатоль, Тимофеич, блестящий художник, фантастический человек, чья чудовищная и небывалая по меркам не только минувших, советских, но и вообще любых земных лет, ярчайшая жизнь достойна изучения и описания, как и его творчество.
Владимир Яковлев, Володя, гениальный полуслепой художник, прозревавший суть вещей и явлений, сущий ребенок в быту, несчастный человек, большую часть жизни проведший, а потом и сознательно проживший в дурдомах.
Владимир Пятницкий, Володя, художник поразительный, проникавший далеко за пределы видимого, человек добрейший, светлейший.
Петр Беленок, Петя, Петро, художник, предвидевший Чернобыль, человек тонкий и сложный, спасавшийся от безвыходности жизни украинским своим юмором, тосковавший по гармонии мира и все вокруг хорошо понимавший.
Василий Яковлевич Ситников, Вася, Вася-фонарщик, художник особого, цепкого дара, учитель многих современных живописцев, прирожденный педагог, ерник, надевавший маску юродивого, потому что это старинное средство самозащиты на Руси, выдающийся гипнотизер, автор уникальных текстов – писем, поучений, воспоминаний.
Михаил Шварцман, Миша, художник серьезный, мощный, создавший мир со своими знаками и символами, человек, для немногих друзей – открытый, сберегающий свет духовности – вопреки нездоровому времени.
Венедикт Ерофеев, Веня, Веничка, талантливый русский человек, сделавший алкоголь ключевой темой своей жизни, выразивший себя в этом как писатель, но не сумевший сказать всего, что мог бы.
Сергей Довлатов, Сережа, чудный парень, любимый, как выяснилось с годами, буквально всеми, грустный и талантливый человек.
Георгий Фенерли, Жорж, киевский загадочный человек, поэт, философ, художник, сделать успевший многое.
Владимир Мотрич, Володя, харьковский поэт, местная звезда шестидесятых, красивый человек с небывало бурной жизнью и драматической судьбой, – где теперь его тексты?
Игорь Сергеевич Холин, Игорь, – вот совсем недавно, в июне девяносто девятого, ушедший, человек достойный, прямой, твердых правил, совершенно особый, со своим миром и языком, поэт и прозаик.
Генрих Сапгир, – ах, Генрих! – человек, с которым многое меня в жизни связывало, особенно в молодости, когда мы дружили и постоянно общались, человек талантливый, любивший жизнь, живший широко, щедро, с размахом, поэт, прозаик, драматург, один из лучших авторов в детской литературе, – тридцать пять лет я знал его, и казалось, так будет всегда, но и он ушел в октябре девяносто девятого, – и теперь, среди прочих ушедших, говорю я уже и о нем.
И так далее. И так далее.
Слишком велик этот перечень.
…И за то, что суждено мне было изведать всю редкостную красоту некоторых, земных, но определенных, полагаю, небесами, дружб – и суждено было услышать от некоторых, чрезвычайно дорогих для меня людей, важнейшие для меня слова о том, как воспринимают они написанное мною, – я несказанно благодарен судьбе, время от времени укреплявшей мой дух такими дарами.
Лучше всех, пожалуй, и, как это всегда у нее получалось, кратко и точно, в форме своеобразного изречения, определила суть моих стихов незабвенная Мария Николаевна Изергина:
– Стихи Владимира Алейникова я очень люблю, и для меня они лучшее, что сейчас пишется. Что меня больше всего привлекает в его стихах, это – свет.
Сформулировано ею это было в восьмидесятых, многажды высказано прилюдно, при большом, как тогда еще довольно часто бывало, скоплении народа, в ее коктебельском доме, на знаменитой веранде, перевидавшей все и всех, потом – записано.
Однако о том, что она постоянно ощущает исходящий из моих стихов свет, стала говорить она еще со времени нашего знакомства, вскоре переросшего в долголетнюю прочную дружбу, то есть еще со знаменательного для меня лета шестьдесят пятого.
Особенный этот свет, который она так верно ощущала всем своим существом, помогал ей жить – так она говорила.
А прожила она девяносто три с половиной года, и вдосталь было в ее жизни и сложностей, и трагедий.
Поразительно стойкий человек!
А какое чутье – на слово, на звучание его, на каждую новую краску, на тон, на ритм, на дыхание, на тот синтез, который так определяет вообще все и столь важен в искусстве, на интонации, на все те откровения и открытия, которых она так всегда ждала от речи!
Я знаю, что понять мои стихи помогло ей – отчасти, конечно, и все-таки, это важно, то, что она прекрасно знала музыку, сама была очень хорошей певицей и музыкантшей.
Но и не только это. Помогало и другое.
Важна была, так сказать, закваска. Воспитание. Образованность. Реакция на хорошее и плохое. Мгновенная отзывчивость на подлинное искусство.
А еще важна была ее неудержимая тяга к свету, сквозь все невзгоды собственной, сложной, рано изуродованной революцией, гражданской войной, сталинщиной и минувшим режимом, но все равно, несмотря на пережитые драмы и трагедии, чистой, возвышенной, насыщенной событиями, полноценной, плодотворной, в прямом смысле этого слова – творческой, прекрасной жизни.
Мария Николаевна, сколько ее помню, никогда никому ни на что не жаловалась, всеми силами стремилась никогда никому не быть в тягость, никогда никого не поучала, не учила жить.
Она сама была дивным примером жизнелюбия и жизнетворчества, она всегда шла по своему собственному, когда-то избранному ею, пути, и это был – именно Путь.
Она была человеком волошинского круга.
В коктебельском мире она была – Мусей, так звал ее Волошин, и волошинские акварели, именно с таким обращением к ней в дарственных надписях, висели на стенах в ее доме, – тогда как ее старинная подруга, вдова Волошина, Мария Степановна, была – Марусей.
Были у Марии Николаевны и еще две давних подруги – Надежда Януарьевна Рыкова, поэтесса и переводчица, и Анастасия Ивановна Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой.
Постоянно окружали ее и другие, довольно многие, достаточно близкие ей люди.
Она дружила с Григорием Николаевичем Петниковым, жившим в Старом Крыму и наведывавшимся в Коктебель, настоящим и тонким, с ведическим мироощущением, почему-то недооцененным, как это у нас в стране сплошь и рядом бывает, поэтом, другом Хлебникова, человеком образованным, деликатным, ясным, особенным и для меня самого человеком, о котором я обязательно еще скажу.
Мы, коктебельцы, когда-то сами еще молодые, в прежние годы ходили, бывало, в Старый Крым пешком.
Это был один из своеобразных коктебельских ритуалов.
Полагалось тогда, будучи в Коктебеле, хотя бы разок сходить в Старый Крым.
Надо сказать, пешие эти прогулки многого стоили. И все они – в памяти.
Мы собирались небольшой группой – и отправлялись в путь, по горам, среди киммерийской природы.
И Мария Николаевна всегда передавала привет Петникову.
И я заходил к Григорию Николаевичу – и обязательно передавал ему этот привет.
И Петников – мгновенно, прямо на глазах, – весь расцветал. Действительно, расцветал. Глаза его начинали вдруг лучиться, лицо преображалось, черты лица становились мягче.
Он оживал, молодел. Голос его теплел, в нем проскальзывали нотки волнения.
Он улыбался по-юношески, даже по-детски, наивно, смущенно, радостно, искренне, распахнуто как-то, светло.
Он ликовал – так мне казалось.
Он, старокрымский затворник, явно дорожил этими приветами.
Он дорожил дружбой с Марией Николаевной. Более того, он гордился этой дружбой.
Сама же Мария Николаевна говорила о Петникове с неизменным пиететом, всегда выделяя его из числа остальных своих знакомых – тех, из старшего поколения.
Говорила она о Петникове – всегда с особым теплом, и даже с любовью, – ну конечно, с нею – дружеской, человеческой любовью.
Все, как обычно это бывало у нее, сводилось к сжатой, четкой формуле:
– Григорий Николаевич – настоящий поэт. Образованный человек. Талантливый. Воспитан. Учтив с дамами. Внимателен. Мы с ним очень дружим. Давно дружим.
Порой вспоминала слова Петникова:
– Писать – легко. Вычеркивать трудно!
Я замечал, что, говоря о Петникове, Мария Николаевна и сама всегда преображалась.
И она вдруг хорошела, молодела, словно озарялась вспыхнувшим негаданно ясным светом.
В голосе ее звучали не просто теплые интонации, но – мелодия, мелодия нежности.
А глаза – многое говорили они без слов, эти ее выразительнейшие, сияющие глаза.
Возможно, это была не просто дружба двух людей старшего поколения, а более глубокая, более крепкая, более важная связь двух душ, двух сердец.
Вспоминаю забавные рассказы Марии Николаевны о том, как, в начале двадцатых годов, живя в доме у Волошина, они с Надеждой Януарьевной Рыковой, две подруги, обе задорные, острые на язык, донимали Брюсова своими, вроде бы и наивными, невинными, но на поверку не просто колкими, острыми, а скорее жалящими придирками, всяческими вопросами, довольно жесткими суждениями – и доводили его буквально до бешенства, причем объединенному и целенаправленному напору их сам Брюсов, как это ни удивительно, при его-то всегдашней готовности к полемике, и противопоставить-то ничего толком не мог, – а только, слушая их, терялся, тушевался, раздражался и в итоге пасовал, сдавался.
Молодое поколение, в лице двух юных дам, обезоруживало его и побеждало.
Хотя и сам ведь Брюсов был далеко еще не старик. Ну сколько ему было тогда – лет пятьдесят? А вот выдохся, видно, в прежних дебатах и боях. Состарился преждевременно. Внутренне. Душевно. И пороха, нужного для полемики запала – уже не хватало у него.
Может быть, он действительно был уже дряхлым, опустошенным, уставшим от всего и всех человеком.
Стоит вспомнить здесь его попытки приспособиться, подладиться к советской власти. Стоит вспомнить чрезмерно бурную его деятельность на культурном фронте, о которой так хорошо написал Ходасевич, а еще лучше – Марина Цветаева.
Ну и, конечно, пристрастие Брюсова к наркотикам, к морфию, сказалось на общем состоянии его организма.
Вскоре после поездки в Коктебель Брюсов умер.
Мария Николаевна, вспоминая молодые свои, на пару с Рыковой, перепалки с ним, подзуживания, выпады, розыгрыши, даже сожалела, бывало, – уж не послужили ли их коктебельские атаки на служащего советской власти вождя символистов хотя бы одной из причин, хотя бы косвенной причиной смерти его, неожиданной для всех?
Нет, конечно, – успокаивала она сама себя. Причина была в другом. В том, что Брюсов был уже весь разрушен – и физически, и духовно разрушен. Что поделаешь? Как ведет себя человек в жизни – очень важно. Это прямым образом сказывается и на творчестве его, если это человек творческий, и на судьбе.
Острый же язычок Марии Николаевны проявлялся порою и жалил кого полагается и в последующие годы.
Некоторые выпады ее, тирады и характеристики различных, попавшихся к ней на язык, как говорится, персонажей бывали блестящими, собранно-меткими, били в точку, несколькими характерными, обдуманными штрихами давали такой портрет конкретного человека, что это надолго запоминалось.
Никогда Мария Николаевна этим не злоупотребляла. Но было это – оружие. И все ее знакомые прекрасно об этом знали.
Помню Анастасию Ивановну Цветаеву – худенькую, светящуюся грустным и ясным светом памяти своей и судьбы, с развевающимися на коктебельском ветерке белыми волосами, – и эти прикосновения приморского ветерка, бриза, молодили ее, и в лице ее, худом, живом, словно пульсирующем от избытка силой воли сдерживаемых чувств и эмоций, угадывались порою и черты лица старшей ее сестры.
Помню лежащие грудами в комнате Марии Николаевны, и на рояле, и вокруг него, письма и открытки Анастасии Ивановны, ее дарственные надписи на журнальных публикациях и книгах, – довольно крупный, неровный, корявый, валкий, но – упорный, весь в движении, устремленный вперед, несгибаемый почерк.
Переписку они поддерживали довольно интенсивно. Она была продолжением их бесед, с годами – все более редких, но это и понятно, почему так получалось.
В письмах Анастасии Ивановны были рассказы о своем житье-бытье, просьбы, рекомендации для собиравшихся приехать к Марии Николаевне знакомых, сообщения о своих литературных делах, о том, чем занята, что она пишет, а главным был тон, из которого следовало, что жизнь – замечательная штука, и надо в этой жизни и по-настоящему дружить, и много работать.
Некоторые кусочки из цветаевских писем, под настроение, Мария Николаевна, случалось, зачитывала мне вслух.
В голосе ее звучала тогда – любовь.
Она любила Цветаевых, обеих. Любила вообще все, что связано было с обеими сестрами. Любила поэзию Марины Цветаевой. Иногда, редко, после чтения цветаевских стихов, ворчала:
– Кликуша!
Ворчала – любя.
И тут же все ставила на свои места:
– Но какой поэт!..
Она любила и Ахматову. Очень любила. И – в разговорах со мною – иногда вроде бы и отдавала ей предпочтение. Но именно – вроде бы.
Любила она стихи обеих – и Цветаевой, и Ахматовой.
С Ахматовой была она знакома. В комнате Марии Николаевны всегда висела ее фотография.
Между прочим, рассказывала мне Мария Николаевна, что приходилось ей стоять, в тридцатых годах, в Ленинграде, вместе с Анной Андреевной, – в очередях, тех самых, тюремных, из ахматовского «Реквиема» – помните?
«Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, Царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, – как трехсотая, с передачею, под Крестами будешь стоять и своею слезой горячею новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и ни звука – а сколько там неповинных жизней кончается…»
Это там, именно в этих очередях, – было то, о чем Ахматова пишет в предисловии к «Реквиему»:
«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то „опознал“ меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
– А это вы можете описать?
И я сказала:
– Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».
И с Павлом Николаевичем Лукницким, человеком, создавшим летопись жизни и творчества Николая Гумилева, а потом собиравшим и систематизировавшим материалы о жизни и творчестве Анны Ахматовой, в молодости дружила Мария Николаевна.
Помню старую фотографию: вместе с широко улыбающимся красавцем, Павлом Лукницким, плывут в лодочке две красавицы – сестры Изергины.
Мария Николаевна иногда Лукницкого вспоминала.
Говорила о нем:
– Прекрасный человек. Из культурной семьи. Дворянин.
Или, с явным, гордым одобрением в голосе:
– В Александровском корпусе учился. В Пажеском корпусе учился. Красив был невообразимо!..
И, словно резюмируя:
– Молодец! Многое для русской культуры сделал!..
Ее общение с людьми было вообще очень широким.
В этом, с годами все расширяющемся, означенном светом высокой духовности круге находились и прекрасно уживались представители сразу нескольких поколений, от стариков до зеленой молодежи.
Помню на веранде у Марии Николаевны скульптора Анатолия Ивановича Григорьева – скульптора очень серьезного, очень крупного и, как это ни досадно, все еще должным образом не оцененного, хотя многообразное и сложное творчество его давно говорит само за себя.
Надо – смотреть и видеть. Но еще и – увидеть. И понять.
Искусство – может подождать, конечно. Может – ждать. Годами. Десятилетиями. И даже веками.
Если оно настоящее, то – увидят наконец. И поймут, даст Бог. Так и будет – потом, в грядущем.
Но – насколько же лучше стали бы люди, если бы они многое увидели и поняли – вовремя!
Григорьев довольно долго пробыл в сталинских лагерях.
Огромное количество его работ погибло.
Его пасынок, Юра Арендт, рассказывал мне, что одиннадцать грузовиков работ григорьевских были в свое время вывезены из мастерской его и оставлены где-то на хранение, да там и сгинули.
Григорьев был женат на Ариадне Александровне Арендт, представительнице знаменитой династии врачей, когда-то выходцев из Швеции, давно обрусевших, – и один из Арендтов лечил Пушкина.
Ариадна Александровна сама была великолепным скульптором.
А еще она была – старинной, близкой подругой Марии Николаевны Изергиной.
Григорьев и Арендт построили себе дом в Коктебеле, дом с двумя небольшими мастерскими. Они жили здесь подолгу – и оба много работали.
В период СМОГа, весной шестьдесят пятого года, скульптор Геннадий Бессарабский познакомил меня с Григорьевым.
Анатолий Иванович звал меня к себе в Коктебель:
– Приезжайте, Володя! Будете жить у нас.
Я был изгнан из Московского университета. Многие мне сочувствовали. Известность моя в Москве была тогда велика.
Григорьеву очень нравились мои стихи. Он слушал, как я их читал, в мастерской Гены Бессарабского, при свечах, где Гена сидел в своем инвалидном кресле чуть в стороне от всех, а за длинным деревянным столом сидели Генина жена, Маша, поразительной доброты и внутреннего света женщина, и Григорьев, живо реагировавший на каждое слово стихов, небольшой, но такой уж ладный, что хотелось сказать – крепенький, в очках, поблескивающих отсветами мерцающих свечей, с несколько всклокоченной бородкой, и слушал стихи, и всплескивал руками, и все звал меня к себе:
– Приезжайте к нам! У нас вам будет хорошо, Володя!..
Но я уехал тогда на Тамань, в археологическую экспедицию. Меня вела – судьба!
Беспокоить своим присутствием в доме двух пожилых людей – Анатолия Ивановича и Ариадну Александровну – я стеснялся.
В Коктебеле – заходил к ним. Тогда, когда удавалось вырваться из экспедиции, ненадолго, – в Крым, в том же шестьдесят пятом. Да и позже навещал двух этих замечательных скульпторов.
Так получилось, что с Григорьевым был я знаком даже немного раньше, чем с Марией Николаевной Изергиной. Но – все в том же, столь значимом для меня, шестьдесят пятом году.
Вспоминаю Ариадну Александровну Арендт, сидящую в инвалидном кресле, в своем коктебельском доме, тихую, светлую, поднимающую к людям, к солнцу свое открытое миру и свету, судьбе и творчеству, прекрасное, исполненное благородства и внимания, чистое лицо, ее чуткий, полный участия ко всему происходящему в доме и бесконечного терпения, очень ясный, все запоминающий взгляд, выражение глаз ее – горестное и радостное, ее седые, убранные назад, волосы, ее крепкие, крупные, сильные руки – рабочие руки, руки мастера, ее прямой, как у Гете, нос, ее густые брови и высокий, чуть загорелый лоб, вспоминаю исходящую от нее, от всей ее фигуры, от этой породистой головы, от этих творческих рук, этих творческих глаз, силу, силу воли, силу духа, силу верности избранному Пути, – и снова, как и больше тридцати лет назад, восхищаюсь красотою ее, да и красотой всех этих коктебельских людей – и мужа Ариадны Александровны, Анатолия Ивановича Григорьева, тоже красивого ведь человека, и подруги Арендтов – Марии Николаевны Изергиной, и Надежды Януарьевны Рыковой, и Анастасии Ивановны Цветаевой, и Марии Степановны Волошиной, – красотою – людей волошинского круга, красотою – словно сотворенной и благословленной самим Волошиным.
Григорьев захаживал к Марии Николаевне на веранду. Они были почти ровесниками. Анатолий Иванович был на год старше. Он мог ходить – потому и приходил порой сюда, один.
А вот Ариадну Александровну надо было навещать. Что и делала Мария Николаевна с большой охотой, навещая свою подругу Алю на протяжении долгих лет.
Дружба Арендтов – так все называли эту супружескую пару – с Марией Николаевной – целая эпопея. Или, скорее, летопись. Во всяком случае – это одна из важных страниц в истории русской культуры.
И чрезвычайно важно было бы, если бы сын Ариадны Александровны, Юрий Арендт, сам обо всем этом рассказал.
В моем коктебельском доме есть каталог произведений Ариадны Александровны, каталог ее выставки.
На титульном листе – надпись:
«Дорогому Владимиру Алейникову, одареннейшему поэту, сердечно, А. Арендт, Ю. Арендт. 23. IX. 1991».
Две подписи. Григорьева тогда уже не было в живых.
Ариадна Александровна написала воспоминания о некоторых близких ей людях, начиная с Волошина.
Пора и Юре писать свои воспоминания. Ей-богу, пора!..
По складу ума своего была Мария Николаевна Изергина независимой в суждениях, сдержанной в выражении собственных чувств, но была и удивительно внимательной к окружающим ее людям, даже порой гото вой к самопожертвованию, способной на все одним махом решающие поступки.
Нередко она первой делала шаг навстречу новому для нее человеку, угадав в нем то, что считала подлинным.









































