Текст книги "Тадзимас"
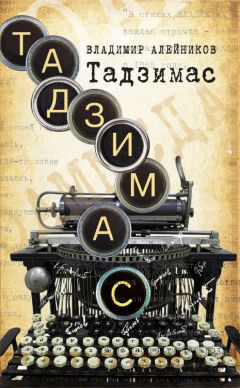
Автор книги: Владимир Алейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Но вдобавок ко всему этому был он еще и тонким, редкостным знатоком поэзии, действительно знал литературу, прекрасно разбирался в живописи, в музыке, вообще был всесторонне, широко, очень хорошо образован.
В Киеве был он, как мне всегда казалось, очень даже на месте: любимый город, обширный круг друзей, нормальная работа, приличные заработки, премии, какие-то, может и скромные, и наверняка не такие, которых это стоило, но все-таки деньги за рационализаторские предложения и за изобретения, светлая голова, которой он никогда не терял, трезвый ум, разнообразные, очевидные таланты и способности, чувство собственного достоинства, очень у него развитое, умение держать себя в любом обществе, всегда естественно, умение поставить себя на должную высоту в любых обстоятельствах, умение постоять за себя, настоять на своем, умение быть самим собой, отзывчивость и доброта, широта натуры и скромность, воспитанность и тактичность, присущая ему рыцарственность в поведении, в отношении к окружающим, к друзьям, к дамам, замечательная способность реализовывать свои творческие замыслы, определенная гарантия того, что он, с его талантами, бедствовать не будет никогда, пусть и недорогая – но все-таки появившаяся у него машина, кооперативная квартира, в которой есть прекрасная библиотека, живопись и музыка, реальная возможность путешествий, которые он всегда так любил, и все прочее, нужное для жизни, было, для сердца, для души, для духа – было, все это было – его, для него, при нем.
И я, видевший, как с годами жизнь его все упорядочивается, все улучшается, искренне радовавшийся тому, что образ его становится для меня все значительнее, тому, что с возрастом высветляются лучшие свойства его души, не мог себе представить Киев – без него.
В сентябре восемьдесят девятого – Эдуард Рубин – обо мне:
– К встрече Нового года каждый из нас, кто умел писать-рисовать, серьезно или шутя что-нибудь готовил. Вернее всех обычая этого держался Леонид Коныхов, в новогоднюю ночь непременно читал новый рассказ. Ну а над тем рассказом, о котором речь впереди, он работал долго. Рассказ тот был о Владимире Алейникове, о поре его юности, бездомности, о трудной его поре, ну и главное – это была попытка напрямую связать поэзию с событиями жизни поэта.
И вот – вдруг – под самый Новый год, на его встречу, к нам в Киев приехал сам Володя, и смущенный Леня решил при Володе рассказ не читать. Оно и понятно – герой рассказа, по сути своей, трагедийного, сидит тут же: не читать же ему про него самого.
Однако все сложилось удачно. После того, как все новогоднее питье было неожиданно быстро выпито, кто-то вспомнил, что дома у него есть пятнадцатилитровая бутыль домашнего вина. Поехали и привезли. В дверях бутыль была встречена Володей, он обнял ее нежно, бережно отнес на кухню и почал… Через час он благополучно заснул в углу комнаты, он так уютно спал среди музыки и шумного веселья. И сообразили, что рассказ об Алейникове можно читать, ибо Алейникова здесь уже как бы и нет – герой рассказа спит надежно. И Леня вынул из стола листы, и стал читать, сперва с некоторым смущением (хоть Алейникова вроде нет, но однако вот он, с нами), но потом пошло, тем более, что рассказ своим напряжением затягивал, увлекал. Леня закончил чтение. Все молчали. И вдруг лежащий на боку Володя заговорил. Не открывая глаз, не изменяя выражения спящего лица. Он говорил медленно и, помнится мне, немного торжественно.
«Леня, – начал Володя своим прекрасным голосом, – ты написал очень интересный рассказ (тут хочется сказать, что Володя искренне хвалил все, что читалось и показывалось при нем авторами – такая душевная щедрость и благодарность). Но, – продолжал Володя, – видишь ли, Леня, дело в том, что я – мистический поэт». И далее, все так же, с закрытыми глазами, лежа на боку, он рассказал Лене и нам, в чем сила и слабость этого рассказа. Он рассказывал о поэзии и как о ней следует писать. Это был потрясающий анализ слышанного рассказа, слышанного до мелочей. Сказав все, все так же лежа на боку, Володя снова заснул. Впрочем, может быть, он и не просыпался?
И вспомнилось вот что. Как-то при мне к Володе пришел Генрих Сапгир. Он вынул листы со стихами и сказал приблизительно следующее: «Володя, я хотел бы, чтобы ты послушал это. Я ведь знаю, что у тебя за этим ухом есть еще одно ухо – вот интересно, как оно это воспримет».
Сапгир – умница. Может быть, он-то и назвал тот незримый слуховой орган Алейникова?
Но вот Эдик уехал. Вместе со своей женой Олей, художницей, славной художницей, оформлявшей книги для детей, своей верной спутницей и задушевной собеседницей, замечательной, умной женщиной, в повседневной жизни вроде и сдержанной, но и порывистой, впечатлительной, восприимчивой к проявлениям красоты до мгновенных слез, печальницей, мечтательницей, скромницей, светлым Ангелом его, доброй феей. Вместе с мамой, тетей, тещей – так говорили. Вместе со своей библиотекой и своим архивом – то есть с говорящими ему о многом крупицами, частицами его киевской жизни, его быта и его духа, его здешнего бытия.
И с тех пор ничего я о нем толком не знаю. Ни единой весточки не было от него за восемь долгих лет, ни полслова. Что стряслось?
Кто-то из общих наших знакомых слышал от кого-то когда-то, что вроде бы Эдик серьезно болел. Кто-то рассказывал – впрочем, не вполне уверенно и с полным отсутствием всяких подробностей, в общих чертах, слишком обтекаемо и с явным отсутствием достоверности, так, что я и не знал, верить ему или не верить, и не очень-то поверил, хотя, поразмыслив, понял потом, что такое быть все же могло, и это ведь не кто-нибудь чужой, незнакомый, а Эдик, мой киевский друг, и я его так давно и вроде бы достаточно хорошо знаю, он Эдик, и он для меня особенный, он вообще, сам по себе, как человек, как личность, особенный, не такой, как все, – вот и моя мама, которой я очень верю, точно так же, как и я, считает: Эдик – человек особенный, и ни капли нет в нем заурядности, никакой в нем нет привычки сливаться с массами, с толпой, обезличиваться, не выделяться, не высовываться, быть как все, этим себя ущемляя и принимая, наоборот, он ярок, он сверхиндивидуален, он неповторим, – что он с трудом приспосабливался – да нет, вовсе не приспосабливался, а приноравливался, с немалым трудом привыкал к новой для него жизни, к новой реальности.
Все могло быть. Все очень даже могло быть.
Но его молчание резануло меня по живому.
Я не понимаю, до меня не доходит, почему это так – столькое вместе пережить, дружить так вдохновенно, будто на дворе не конец двадцатого века, а первая треть девятнадцатого столетия, с ее пушкинским пониманием дружбы, – и вдруг разом все оборвать.
Нет, что-то здесь не то. Так не бывает. Так просто быть не могло.
Верный давнему своему принципу – никому никогда не навязываться, – все эти годы я просто жду: пусть напишет. Сам.
При желании несложно, наверное, мне узнать его адрес. Но он-то мой адрес – знает!
И однажды – ах, это «однажды»! – общий наш с Эдиком киевский друг, а именно – Марк Бирбраер, довольно сжато, но так, что все это я почувствовал, рассказал мне в письме своем вот о чем.
Там, вдали от меня и от Киева, в своей теплой, очень уютной, с высоченными пальмами, чудными пляжами, с бесконечно и праздно цветущими пышнотелыми розами, с разморенными, вьющимися, кудреватыми лозами, с небесами лазурными, с зеленью пряною, с небывалыми звездами прямо над самой твоей головой, как при входе в Эдем, и удобной для жизни, с коттеджами, с непременным домашним комфортом, с магазинами, полными яств, с чистотой на ухоженных улицах и порядком везде и во всем, обретенной не так уж давно, благодатной стране, Эдик шел, духовной жаждою томим, что случается порой не только с ним, пусть он с виду и солидный господин, – и зашел в знакомый книжный магазин – и увидел там – стоявшую на полке, столь знакомую ему, сокровенную мою, одинокую «Звезду островитян».
В этой книге, вернее – в восьми книгах, образующих этот том стихов, есть немало обращенных к нему и посвященных ему стихотворений. В частности, посвященная им обоим, Эдику и Оле, довольно большая композиция – «Плач по музыке».
Помню, девятнадцать лет назад я спросил Эдика, что он думает об этой вещи. На что Эдик, порывисто и вдохновенно подняв свое узкое, со светлыми, полными неугасающего света, глазами, обрамленное седеющими волосами и небольшой, аккуратной, тоже с заметной сединой, бородкой, бледное, но уже чуть затронутое легким загаром, лицо, сказал:
– Это не просто выдающаяся, это – эпохальная вещь!
И, хотя категоричность его суждения меня, как всегда, немножко смутила, но услышать такое именно от него было мне и приятно, и важно.
Все составившие «Звезду островитян» тексты, с семьдесят девятого по восемьдесят восьмой год, он получал, по мере их написания, читал и хранил в самиздатовском своем собрании. Позже, когда книга была издана, я сразу же подарил ее – с дружеской, разумеется, надписью – ему, своему другу.
Из Киева, как уже говорилось, он увез все бумаги и книги с собой. А я, его друг, – остался. И – надо же – такая вот встреча. Да это ведь все равно что меня самого увидеть, так я считаю.
Что всколыхнулось в его душе? Он незамедлительно купил книгу.
– Чтобы не скучала! – пояснил он своим спутникам.
И принес ее домой, – не знаю уж, где, в каком именно городе он живет, и в каких условиях – в квартире или в собственном доме, – но, думаю, что если в квартире, то и квартира эта хороша, уютна и не буднична, а если это дом, и мне хочется думать, что у него именно дом, потому что это Эдик, и свой дом ему как-то идет, как-то солиднее все выглядит, серьезнее дело обстоит, ежели у него есть дом, и дом этот наверняка праздничен, оригинален и светел, это творческий дом, потому что это Эдиков, изобретательский, а не приобретательский, по Хлебникову, дом, и в нем он счастлив, – и книгу мою, частицу былого, принес он туда, вернул он туда, где жив его дух, его свет, – и поставил рядышком с той «Звездой островитян», ее двойняшкой, с дружеской надписью, за которой вставала четверть века общения нашего, наших надежд, наших серьезных, с глазу на глаз, разговоров, чтений стихов, обоюдного ощущения: покуда живы, будем дружить всегда, писем, поездок, открытий, его визитов в Москву, моих – в Киев, коктебельских, исполненных радости, летних, просветляющих думы, сердца укрепляющих дней, всего разбередившего душу, подспудного, незабываемого звучания всех минувших лет – шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых, – звучания, которое не вытравить ничем, – оно срослось с душой, пронизало ее тысячами звенящих, поющих, кличущих мелодий, дождевых струй, снежных завихрений, соленых морских брызг, солнечных лучей.
Что побудило его поступить так? Да просто он тоже был – здесь, у нас, на покинутой им родине, – человеком самиздата. Огромная полоса его жизни теснейшим образом была связана с самиздатовской деятельностью. Забыть такое – невозможно. Метаморфозы, происходящие с бывшими самиздатовскими материалами, которые имелись у всех нас, так сказать, для внутреннего, внутри нашего круга, огражденного, по возможности, от вторжений извне, от всяких нежелательных историй, способных нарушить выработанные ритмы и привычки, элитарного, одновременно и личного и общекомпанейского чтения, само это запоздалое, но все равно чудесное превращение самиздатовской, машинописной, читаной-перечитаной, затверженной наизусть, домашней книги – в изданную типографским способом, наверное, никогда не перестанет изумлять всех нас, ветеранов этого движения, всех нас, прошедших суровую школу самиздата, славно потрудившихся в свое время – на поприще – на поле – самиздата.
(Летное поле. Магнитное поле. Силовое поле. Поле тяготения.)
И Эдик просто не мог удержаться. Душа встрепенулась – так я это объясняю себе. Ему позарез надо было подержать в руках – определить бы это поточнее, подоходчивее – вещественное воплощение, вещественное доказательство, непреложное свидетельство наших былых деяний. Более того, ему важно было, очень важно, чтобы это материализовавшееся веяние дорогого для него минувшего оказалось именно у него, только у него, вновь у него, а не у кого-нибудь другого, пусть и распрекрасного, пусть и любящего, даже очень любящего поэзию человека, но – чужого, не нашего, не из нашего круга, не бывавшего в те, минувшие, годы там, с нами, не прошедшего – школу, не знававшего – поля, поприща, небывалого взлета, магнетизма, силового воздействия, тяготения, торжества самиздата, словом, оказалась у него – и немедленно. И я очень хорошо его понимаю.
Это все самиздат, его штуки. Его зов. Его свет.
Откликнись, Эдик! Второго августа тебе шестьдесят. Говорят: круглая дата.
И тут опять что-то со мной произошло, – прямо как в случае с Марией Николаевной Изергиной, о чем я уже говорил. Вдруг я понял, обостренно, отчетливо, ясно, ясней не бывает, понял – сердцем, понял – чутьем, что сегодня – именно второе августа. Второе августа девяносто девятого года – и никакое другое. Я поднялся из-за стола и для пущей убедительности посмотрел на часы. На круглом, старом, но продолжающем упрямо тикать, продолжающем работать будильнике стрелки показывали ровно половину второго ночи. Ну конечно, писал-то я весь день, и вечером, и за полночь, и было это первое число, самое начало августа. А теперь – ну точно, второе августа началось. И ум за разум у меня вовсе не заходит. Просто, когда я интенсивно работаю, время идет по-другому, оно раздвигается, давая возможность мне двигаться в нем по-свободнеее.
Это все самиздат. Это все Коктебель. Их мистика.
Нет, братцы мои, не случайны, далеко не случайны – такие вот, одно за другим набегающие, совпадения.
Ну еще бы! Второе августа. День Перуна – у предков моих. Помните? – в Киеве дело было: топили повергнутых идолов – так выражались гонители старой веры, – идолов, а не богов, а те, потому что – боги, все не хотели тонуть, все выплывали из глубины на поверхность, вставали торчком в днепровской воде, – в рост, как всегда, вставали, и сочувствующие им, переживающие за них, чтящие их, все еще молящиеся им – и потом, через годы и через века, не забывавшие их киевляне, а теперь – очевидцы, свидетели надругательства над святынями, потрясенные, жаждущие возвращения древних богов, так призывно и так вдохновенно все кричали, кричали им с берега: «Выдыбай! Выдыбай, Боже!..»
Выдыбали. Как самиздатовские тексты – из бездны советской, минувшей, но памятной жизни, жизни-реки, жизни-речи, жизни-дружбы, жизни, неопровержимо доказывающей, что мы – есть!
Выдыбаем. Батюшки-светы! Выдыбающие – мы живы. Мы, конечно же, – выдыбающие. Выживающие. Восстающие из пучины. Выживающие. Высевающие – семена. Только где же? В поле. Самиздатовские семена. Вызревающие. Для кого? Для тех, кто в грядущем. Ну а мы-то сами – где? В поле. Силовом. Чего? Речи. Воспевающие – что? Суть. Выбирающие – что? Путь. На котором – что? Две руки. А за ними – что? Две реки. Две реки земных, две реки, две небесных – Доля и Воля.
Дорогой, дорогой мой друже, дорогой и давний к тому же! Поздравляю тебя с днем рожденья. В нем – души твоей утвержденье о грядущем, в котором встрече – быть, хоть сам ты сейчас далече. С днем рождения, с юбилеем. Выдыбаем, Лев с Водолеем!
Помню тебя молодым, худощавым, поджарым, тонким – струнка, а не хребет, голова закинута, узкие лопатки оттопыриваются сквозь рубашку, лицо поднято к солнцу, смотришь не щурясь, и глаза широко раскрыты навстречу дню, – помню тебя идущим по Кругло-Университетской, выходящим из странной ее загогулины, из улиточьего ее завитка, шагающим свободно, идущим снизу вверх, все вперед, выше и выше, – а вокруг, ну куда ни посмотришь, везде, вешний киевский гул, нарастающий, брезжущий, шалый, желтизна с синевой на припеке, ветерок в стороне, в холодке, мельтешенье теней, топот ног по асфальту, крупноглазые почки на веселых ветвях, вавилонское скопище крыш, крутизна в двух шагах, на вершок от плеча высота, вдоль по спуску и дальше, к Днепру, все – весна, все – начало чего-то, от чего ожидаешь незнамо чего, лишь бы жить, только б так вот шагать, напрямую, куда-то вперед, улыбаться тому, что грядет, что придет – и придет не напрасно, – помню, помню: шуршанье бумаг, твой портрет, нарисованный мною, на столе, сигаретный дымок, вкус вина, запах буйной сирени в Ботаническом, там, на горах, где простор возникает заречный, и, конечно же, там, где ведет неизвестно кого и куда хлопотливая улица, – ветер, забежавший с разгону сюда, оглядевшийся, вскинувший прядь непокорных волос, и весенний, вновь расплеснутый всюду, где только возможно, птичий щебет вокруг, нарастающий, тающий вдруг, – что сказать тебе, друг? – поздравляю тебя с юбилеем – поброди за меня по аллеям у приморских сквозных берегов, где не слышно поодаль шагов наших лет молодых, – но осталось то, что странным когда-то казалось: в сердце боль, седина на виске, да раскрытая книга в руке, – до свидания! – вспомни о друге, – как-нибудь напиши на досуге, или, впрочем, как хочешь, – держись, будь здоров! – из души: отзовись!
От Марка. Не Евангелие, но письмо. Давнее, полученное то ли в самом начале, то ли в середине восьмидесятых. Вдруг вспомнилось: было такое. В нем – слова о моих стихах, очень серьезные и хорошие, как и вообще все, исходившее от него:
– Стихи твои, я уверен в том, прорвутся к нам сквозь все препоны и преграды. Стихи – будут!
И – пронизанное абсолютной убежденностью восклицание:
– Книги – будут!
Марк Бирбраер. Старинный мой друг. По созвездию – Лев. Киевлянин. Никуда не уехал. Живет на ничтожную пенсию. Время открывает ему иногда то, что скрыто от прочих. Порою говорит он о том, что грядет, все, как есть, наперед прозревая.
Марк – немного волшебник. А может, и настоящий волшебник. Волшебник Маркус.
У меня, признаюсь вам со всей откровенностью, которая сейчас просто-таки выплескивается из сердца, давно уже есть все основания именно так думать. Не раз, и не два, и не три, а столько раз, что и счет им потерян, убеждался я в этом. Все, что задумает он, все, что очень захочет увидеть осуществленным, воплощенным в том или ином качестве, – сбывается.
У него легкая рука, об этом все его знакомые знают. Легкая рука – да не просто легкая. Волшебная.
Во время войны, той, Великой Отечественной, когда они с матерью, его обожаемой мамой, всеми нежно любимой мамой Розой его друзей, дивной, надо сказать, и светлейшей женщиной, которую знал и я, были в эвакуации, в Средней Азии, – рыночные торговки, вначале только прослышав, а потом уже твердо зная об этом, часто брали его с собой – на счастье! – чтобы просто постоял рядом.
Рынок, а точней и сочнее сказать – базар, был тогда – как и теперь, в наши дни, почему-то – средоточием жизни, местом, откуда начиналось выживание.
Продав какую-то вещь, порой и дорогую, иногда и бесценную, но такую, которую как-то бессмысленно было держать при себе, в такое-то сложное, суровое, смутное, страшное время, покупали продукты, а это уже означало – продлевали свое тяжелое, полуголодное существование в условиях тыловой, эвакуационной жизни, и это значило, что был день и была пища, а потом, даст Бог, снова будет день и будет пища, и так далее, – механика рыночного уклада, экономического, конечно, пусть и примитивного, вроде бы примитивного, якобы элементарного, это для кого-то там несведущего – простейшего, а на самом-то деле неведомо когда еще миллионами башковитых землян разработанного, давным-давно еще, в незапамятные времена, образцово налаженного, выверенного до мелочей, и самого рыночного мира, древнейшего, неизвестно сколько тысячелетий насчитывающего, стягивающего к себе отовсюду, со всех четырех сторон света, все тропы и дороги, все товары и кошельки, все страсти и зрелища, очень уж странного, как ни посмотри на него, куда его ни присобачивай, когда его ни постигай, где там его ни осмысливай, не совсем реального все-таки, а скорее восточно-сказочного, иррационального, несмотря на всю его трезвость и рациональность, фантастического, потому что зачастую происходило в нем такое, что действительно ни в сказке сказать, ни пером описать, вроде бы и зависимого, от чего-то или от кого-то, а на деле совершенно независимого от всего и всех, что бы это ни было и кто бы это ни был, где бы, в каком там столетии, ни происходили какие-нибудь, неважно какие, события, представлявшего собою некое отдельное, самостоятельное, сильное, властное, разбойное, обманное, хитрое, подлое, вампирическое, грозное, процветающее государство в государстве, с ослепительным, всемогущим Базаром в центре этого непостижимого, никем из прочих держав официально не признанного, но на них очень даже влияющего, но все-таки благополучно существующего, даже преуспевающего в своем развитии, вопреки всему и всем, да что там – с целым космическим, из тысяч и тысяч звезд состоящим, сияющим астральным Базаром в центре вселенной! – чудовищного, гротескового, уродливого, абсурдного мира, – механика рыночного функционирования – штука нехитрая, и все ее прекрасно знали.
Торговки раскладывали свой немудреный товар и – внешне спокойные, вроде бы уверенные в себе, а внутри – с изрядным волнением, которое скрыть им все равно не удавалось, – ждали покупателей.
Голодный маленький Марк послушно и терпеливо стоял рядом.
Когда ему до чертиков надоедала базарная толчея, он очень даже просто, незаметно, как бы между прочим, взмахивал своей слабенькой, худенькой, маленькой ручкой, – вот так: раз – и взмахнул, – и все, и хватит, – и начиналось.
Ах, что тут сразу же – начиналось!
Покупатели, которых еще секунду назад за полверсты не было видно, появлялись возле прилавков, как из-под земли. Покупатели нервничали, становились в очередь, а некоторые, как всегда, норовили пролезть без очереди. Покупатели торопились, переругивались, толкались, хватали все подряд. Они действительно не ведали, что творили. Они были как завороженные. Ими словно кто-то управлял.
Маленький, большеглазый Марк одиноко и скромно стоял в сторонке. И никто из покупателей не замечал, что в карих глазах мальчика – горел повелительный, ливневый, Львиный огонь.
Торговки – взвешивали, обвешивали, считали, обсчитывали, что-то заворачивали, что-то кому-то протягивали, за что-то кого-то отчитывали, кому-то зачем-то уступали, с кем-то почему-то спорили, с чем-то неожиданно соглашались. Они – ликовали. Они – продавали. Товар отрывали – с руками.
– Эй, граждане, руки-то оставьте!
– И откуда такие взялись? Ишь, крысы тыловые!
– А я вот тебя – по рукам!
– Руки убери, не лапай, все не укупишь!
– Ох, мама родная, как устала, – ну прямо руки отваливаются!
– Ну что, берешь? Значит, по рукам.
– Под руку не говори, не мешай.
– А ты чего сомневаешься? Бери. На руках – зато свежее. Не магазинное, а свое, домашнее.
– Возьми себя в руки, не распадайся. Решай.
– Рука руку моет.
– Рука руку греет!
– Вот, бери. Видишь, и так в хорошие руки отдаем.
– Деньги-то сами в руки идут, чудеса просто!
– Если так и дальше пойдет, то мы здесь всю торговлю к рукам приберем!..
Бледный, весь просвечивающий от недоедания, но – воспитанный, умеющий ждать, привыкший себя сдерживать, а чтобы не расплакаться – обаятельно улыбающийся, никем, из-за всеобщего ажиотажа, не замечаемый, уже утомившийся от шума и гвалта, временно позабытый взявшими его сюда с собой крупными, горластыми женщинами, предоставленный самому себе, маленький Марк молча, сиротливо стоял в сторонке. Своей тоненькой детской рукой он задумчиво теребил верхнюю пуговицу на аккуратно заштопанной курточке.
Несколько минут – и все, подчистую, распродано.
Покупатели, из числа тех, кому ничего уже не досталось, расходятся неохотно – и за ними незримым шлейфом тянется их несмолкающий, их недовольный, обиженный ропот.
Ну а торговки – счастливы. Все их былое волнение впрямь как рукой сняло. Поскольку победа одержана, вдруг вспоминают о Марке:
– Где же он, где?
– А вот он, рядышком.
– Ах ты, наш маленький!
– Ах ты, наш бедненький, миленький!
– Ну, спасибо, спасибо!
Руку бы им целовать у ребенка!
А Марку полагалось – да, полагалось, по договоренности, по чести, по совести – полагалось вознаграждение, – ну разумеется, скромное, может и символическое, понятное дело – какое дадут, сердобольное, да и только, подаяния вроде, но все-таки – слышите, люди? – справедливое вознаграждение, небольшое, – но вот оно, – видишь, мама? – оно уже наше, – прозаичное, скупое, но, как хлеб, насущное вознаграждение – за его волшебные труды. При их с матерью полунищенском существовании – оно оказывалось для них существенным подспорьем.
Но это – так, эпизод, из далекого прошлого, хотя мне, например, уже о многом говорящий. Больше, чем – говорящий: открывающий на многое – глаза.
Фотография: Марк. Маленький. В шлеме-буденновке. Что было, то и носил. Время такое было. Улыбается. Смотрит из детства. Из своего – детства. Из своего – волшебства. Лицо. Ну такое – словно прямо сейчас он скажет всем нам слова из фильма о Золушке, послевоенного, виданного-перевиданного, знакомого нам наизусть: «Я не волшебник, я только учусь!» Глаза. Большие. Печальные. Сразу же видно, что – карие. И в них – навеки – пленительный, целительный, Львиный огонь.
В нашем же с ним настоящем, в нашей дружбе, которой уже тридцать три года, Маркова легкая рука не единожды совершала свои волшебные взмахи, – после чего непременно происходило что-нибудь очень хорошее. Это хорошее было всегда конкретным, было, рожденное волшебством, – совершенно реальным – и всегда благотворно сказывалось на чьей-нибудь жизни, даже судьбе.
Он, к примеру, обладал поистине сказочным даром знакомить между собою нравящихся ему самому людей, да так, что эти знакомства немедленно переходили в долгие и прочные дружбы. Он всегда был сказочно щедр. Не просто любил, а обожал делать подарки. Долгие годы, с трудом, по частям, собиравший свою библиотеку, содержавший ее в образцовом порядке, прочитавший, нет, проштудировавший, основательно изучивший все ее содержимое, а это внушительное книжное собрание, с книгами не только хорошими, или очень хорошими, или каждому грамотному человеку позарез необходимыми, но и с книжными редкостями, в один прекрасный день, в какой-то вдохновенный момент, под настроение, вот потому что так захотелось, порыв такой был, взял да и раздарил большую часть ее тем же, неизменно окружающим его, просто нравящимся ему людям. То-то праздник был у них, можно себе представить! А Марк – улыбался, сияя карими своими глазами, – и радовался этому празднику, радовался чистосердечно, радовался по-детски, и выглядел он тогда – ну точь-в-точь как на той своей, из детства своего, из волшебства, фотографии.
Как-то в разговоре с ним посетовал я на то, что не сумел достать «Избранное» Арсения Александровича Тарковского, стихи которого давно и по-настоящему я любил.
Был Тарковский мне и по-человечески дорог. В середине шестидесятых, в период нашумевшего и гонимого нашего СМОГа, он решительно, очень смело поддержал меня. Он способствовал моему восстановлению в университет. Никогда не любивший общаться с писательским начальством, предпочитавший жить замкнуто и независимо, поодаль от всей этой пишущей не только стихи и прозу, но и доносы, и жалобы, продажной и грязной публики, он, тем не менее, в нужный момент, для того, чтобы помочь попавшему в беду молодому поэту, забыл о своей брезгливости по отношению к официальной писательской публике и о своих принципах, пересилил себя, проявил характер, нажал на какие-то там нужные рычаги, задействовал кое-каких порядочных людей, поговорил, с кем полагалось, – и, благодаря этим хлопотам, а также и хлопотам других, тоже принимавших в этой истории участие, людей, – да той же Лидии Борисовны Либединской, по рождению – графини, но еще и вдовы советского классика, что давало ей возможность независимо и смело себя вести, хотя, впрочем, и своего характера у нее хватало, да и всегда внимательна бывала она к людям, – был я восстановлен в МГУ.
Чуть позже, после этих событий, окончившихся победой, Тарковский, известный затворник, сознательно согласился «работать с молодыми» – так это тогда называлось.
Наш знаменитый СМОГ взорвал изнутри всю московскую литературную жизнь. Так просто, без наказания кому полагается, без бдительного надзора над всеми, ни власти, ни кагэбешники оставить все это уже не могли. С молодыми надо было что-то делать, иначе – иначе мало ли чего можно от них еще ожидать? И так на Западе сколько о них пишут и говорят. Вся молодежь тянется к этим смогистам. Значит, прежде всего, надо взять всю пишущую молодежь под свой контроль. Для этого срочно учредили разные литературные секции при союзе писателей, непосредственно для молодых. Постановили – сделали. Но не назначать ведь руководить этими секциями кондовых своих литературных функционеров. Да к ним и на пушечный выстрел никто из молодежи не подойдет! Нужны – серьезные, уважаемые молодежью люди. Для такого дела даже известные своей принципиальностью и определенной позицией но отношению к режиму поэты годятся. А что? К ним и пойдут. Ну вот например – к Тарковскому. Предложило ему писательское начальство вести одну из секций. Тарковский взял да и согласился. И пишущая молодежь к нему не просто пришла – валом повалила. И плевать всем было на контроль и надзор. Поэзия – вот что было прежде всего и выше всего.
Арсений Александрович очень высоко ценил мои стихи. Это было – его, собственное, мнение. Это было – его суждение. Так он считал. Так и говорил.
Еще тогда, в шестидесятых, мне самые разные люди, с разных сторон, имеющие хоть какое-то отношение к литературе, сами пишущие или просто любители, всегда присутствующие на поэтических сборищах, то по отдельности, то порой и сразу в несколько голосов, говорили – со значением, с придыханием, с закатыванием кверху глаз и прочими, подчеркивающими, видимо, по их понятиям, передаваемые ими слова ужимками, гримасами и речевыми эффектами, все твердили, твердили, кто – полушепотом, кто – нарочито громко, чтобы все вокруг услышали, – что вот, мол, Арсений Александрович Тарковский уж так ко мне серьезно относится, уж так обо мне хорошо всегда говорит, что это прямо сверхсобытие, да и только.
Всем известно было, что Тарковский, человек вообще сдержанный в проявлении своих эмоций, да к тому же и чрезвычайно скупой на похвалы, если не сказать больше, так вот просто, для красного словца, говорить, а тем паче хвалить кого-нибудь, никогда и ни за что не станет. Значит, есть, действительно есть что-то этакое в этом Алейникове, если Тарковский и тот расщедрился вдруг, перешел даже на всякие там высокие слова.









































