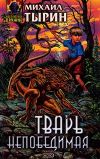Текст книги "Тварь размером с колесо обозрения"

Автор книги: Владимир Данихнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава вторая
Яна созвонилась с тетей Ирой. На самом деле она никакая не тетя, она ее подруга еще с тех времен, когда Яна работала учительницей в частной школе «Эврика» на Северном. Тетей Ирой ее звал Влад, когда был маленький. И как-то так получилось, что мы тоже стали звать ее тетей Ирой. Потом тетя Ира стала крестной матерью Майи. И Майя теперь тоже зовет ее тетей Ирой. Вернее так: тетей Вирой. Майе было три, она не все слова выговаривала правильно, и у нее смешно это получалось: тетя Вира. Мы все теперь зовем ее тетей Вирой. Тетя Вира – хороший человек. Дети ее обожают. Есть такие люди, которые находят общий язык с детьми с полуслова. Как-то у них получается. Тетя Вира – из таких.
Тетя Вира сказала, что надо идти прямо к профессору Светицкому в отделение опухолей головы и шеи ростовского онкоинститута. Так совпало, что у Светицкого лечилась ее мама. И мама ее мужа. У ее мамы на лице была меланома: опухоль стала расти в нос. Опухоль вырезали, и вот уже несколько лет рецидива нет. Каждые полгода мама тети Виры и муж тети Виры ходят на прием к Светицкому, проверяют, все ли нормально. И все действительно нормально. А у мамы мужа тети Виры был рак щитовидной железы: опухоль вырезали в ростовском онкоинституте, и четыре года все было хорошо. А потом у нее что-то очень плохое произошло в жизни. На фоне всех этих нервов случился сердечный приступ, и она умерла. Поэтому перестань нервничать, сказала мне Яна. Просто не смей нервничать, ясно? Тут главное – отношение к лечению. Если ты будешь верить, что вылечишься, ты вылечишься. Я тебе рассказывала историю про мою бывшую коллегу, про которую все думали, что она умрет, а она вылечилась и до сих пор жива? Восемь лет прошло. Я вижу ее страничку вконтакте, она постоянно выкладывает новые фотографии. Цветущая женщина.
– Ты рассказывала, – сказал я.
– Вот и хорошо. Поэтому не смей волноваться, понял?
– Понял.
Мы погуглили профессора Светицкого. Оказывается, это заслуженный врач России. В 1973 году он был заведующим отделением опухолей головы и шеи Ташкентского городского онкологического диспансера. Потом уехал в Ростов, стал заведующим отделения опухолей головы и шеи в ростовском онкоинституте. Исследовал влияние локальной гипертермии в лечении опухолей. Много научных работ. Врач с именем. Мы нашли фотографию: крепкий пожилой мужчина. Есть такие врачи, лица которых вызывают недоверие. Или по крайней мере настороженность, потому что сразу такое чувство, что ты для него статистика, не более. С профессором Светицким, к счастью, все было наоборот. Наверно, хороший врач, сказала Яна. У нас появилась надежда. Мы были в таком состоянии, что цеплялись за любую мелочь: фото врача, истории выживших с похожим диагнозом, церковь. Яна сказала: надо обязательно поставить свечки в храме за твое здоровье. И знакомых попросить, чтоб поставили. Надо обязательно. Мы хватали все это и держали перед собой как защиту.
Мы с Яной сидели рядышком возле компьютера. Мы погуглили, что такое гипертермия: это перегревание организма человека, вызванное внешними факторами; в нашем случае вызванное искусственно. Мы узнали, что шансы разрушения некоторых опухолей химией с одновременной гипертермией гораздо выше: проводились клинические испытания. Мы стали гуглить все подряд. Какие-то экспериментальные виды лечения. Проценты, шансы, прогнозы. Прогноз в моем случае, даже если стадия развития опухоли невысока, был нехорош. Когда в гугле попадалась страница с таблицей, заполненной числами с шансами выживаемости, Яна старалась ее проматывать. А я притворялся, что не вижу. Там, например, написано: пятилетняя выживаемость. И процент людей, который на каждой конкретной стадии рака при данной локализации выживает в течение пяти лет. Процент небольшой. Яна проматывает все это и говорит: у тебя вторая стадия. Максимум – третья. Так что шансы хороши, главное – не опускать руки. Я говорю: да, так и есть. И Яна говорит: а эта врачиха из областной – просто дура. Ты серьезно поверил, что тебе год остался? Никуда ты от меня не денешься.
И я говорю: ага.
Помню, я во всем с ней соглашался. Я помогал ей проматывать неприятные сайты. Я читал с ней о новых методах лечения. Мы вышли на сайт какой-то Израильской онкологической клиники. На главной странице приятная картинка: среди пышной зелени по каменной тропинке прогуливаются прилично одетые старички. Просто в парке гуляют, ни намека на онкологию: как будто они приехали сюда отдохнуть, развеяться, услышать приятные слова, найти человеческое понимание, полюбоваться цветущей природой. Можно выслать на мейл свои документы, снимки КТ или МРТ, результаты гистологии. На сайте примут решение и быстро ответят. Русский язык поддерживается.
– Израиль мы не потянем, – сказала Яна. – Все это слишком дорого.
Мы зашли на сайт ростовского онкоинститута. Потом на страницу с прайсом. Цены, необходимые анализы.
– Мы и онкоинститут не потянем, – сказал я.
Яна сама недавно из больницы. У нее проблемы с ногой: правая нога на три сантиметра короче левой. Правая рука плохо ее слушается. Позвоночник искривлен. Яне бывает очень больно ходить. Ей бывает больно стоять и даже лежать. Если ее спросить, она ответит, что все хорошо, но ясно, что нехорошо. Этой зимой у нее случилось обострение. Болела спина, нога, раскалывалась голова. Врач сказал, что нужна операция. Мы собрали деньги на ее лечение: помогли друзья и знакомые. Яна легла в больницу. Ее кололи, делали снимки. Другой врач сказал, что операция – это рискованно. Можно ухудшить положение. Что есть улучшение после медикаментозного лечения и пока можно обойтись без операции. Главное – подобрать хорошую ортопедическую обувь. А через год прийти снова: тогда посмотрим. У нас осталось больше ста тысяч из собранных денег. Мы отложили их на будущую операцию Яне.
И тут – мой рак.
Да и этого не хватит, сказала Яна, тем более ты какое-то время не сможешь работать.
Честно сказать, было подозрение, что меня попросту уволят. Или вежливо попросят уйти. Или предприятие развалится. На работе год назад начались проблемы. Мы теряли заказы. Случались постоянные проверки. Что-то не ладилось.
– Можно тогда в онкодиспансер, – сказал я.
– Иди к черту, – сказала Яна.
В 2015 году умер ее отец. Его лечили в онкодиспансере. Вернее, должны были лечить, но толком не смогли даже описать снимки МРТ. Гоняли из кабинета в кабинет. Ему становилось хуже. Он почти не мог двигаться. Родственникам сообщили: рак, липосаркома, четвертая стадия. В общем, без шансов, можно не рыпаться. Что-то, конечно, делалось, решалось, но решиться не могло. Создавалась иллюзия действия: это когда вроде бы все понято, человек скоро умрет, и действовать бессмысленно, однако не действовать – стыдно. В феврале он умер. Помню, нам позвонили ночью. Я сидел за компьютером. Яна зашла в комнату вся в слезах: Вова, папа умер. Я обнял ее. Мы вызвали такси и поехали на Северный. Открыла Янина мама – она что-то делала, суетилась. Тесть лежал на диване, неподвижный как кукла. Было очень обидно: ведь что-то делалось. Что-то постоянно делалось: и все равно – конец. Все это было иллюзией. Яна обняла маму, говорила самые обычные в таких случаях вещи: теперь ему лучше. Теперь ему спокойно. Он в месте, где нет боли. Что-то такое, обычное. Они обе плакали. Я смотрел на тестя. Это было чертовски обидно. Потому что все, что делалось, оказалось фикцией. Его толком не лечили. Ему не давали химию. На операцию не пошли – диабет, слабое сердце. Но ведь можно было рискнуть. Он все равно умер. А так был шанс, хоть какой-то. Помню, приехала тетя Жанна, младшая сестра умершего. Серьезная, деловая женщина. Она сразу навела порядок; позвонила в полицию. Тут же примчался гробовщик с предложением услуг. Вероятно, ему передали в полиции. Все очень недорого: обмоем, сделаем, обеспечим. Решался гроб. Совершались действия: и это как будто успокаивало. Как будто оглушало. Яна вела себя спокойно. Потом плакала. Потом снова успокаивалась. Много говорила: иногда совершенно нелепые вещи. Она говорила, чтоб не думать. Иногда думать – это страшно. Я молча выполнял указания тети Жанны. Надо перенести тело. Вот так, сюда. Хорошо. Тут жидкость вышла. Это понятно, но давайте аккуратнее. Мы отошли от тела. Тетя Жанна наклонилась и сказала, глядя в лицо брату: вот ты и успокоился, Сашечка. Помню, эта особенная нежность к мертвому человеку поразила меня; нечасто ее видишь по отношению к живым. Может, мы стесняемся этой нежности или боимся, что человек ее не оценит, ответит грубо, унизит в ответ. А мертвец не ответит, он будет нежен к нам в ответ той особенной тихой нежностью, что таится в наших представлениях о нем.
Через какое-то время после смерти Яниного отца пришли результаты вскрытия. Причина смерти – липома, доброкачественная опухоль. Никакой липосаркомы. Яна после этого и думать не могла об онкодиспансере. Злилась на себя: почему не участвовала в болезни отца больше. Может, она спасла бы его. Может, уговорила бы его рискнуть и провести операцию. Винила себя: надо было сделать больше. Винила меня: я не позволил ей сделать больше. Это были трудные времена. Ее болезнь обострилась. Она легла в больницу. Потом мой нос: я почти не мог дышать носом. Из левой ноздри иногда подсачивалась кровь. Слишком мало, чтоб сильно беспокоиться, но тревожно. Левый глаз слезился: как во время сезонной аллергии в августе и сентябре, когда в Ростовской области цветет амброзия. Это становилось невыносимо. Я не мог спать по ночам, боялся, что задохнусь. В поликлинике предположили гайморит. Прописали антибиотик, собирались сделать прокол. Но осмотрели все внимательно и от прокола отказались. В ЦГБ мне сделали КТ. Описали снимки довольно туманно. Помню, работница на аппарате, отдавая мне диск со снимками, сказала: у вас там что-то нехорошее. Надо ложиться на операцию; скорее всего, полипы. В конце описания рекомендация: консультация с ЛОР-онкологом. Тогда впервые появилось смутное опасение: вдруг рак. Но мы быстро успокоили себя: не может быть. А онкологи, они ведь и доброкачественными опухолями занимаются. Теми же полипами. Рак казался чем-то невозможным.
Жара в Ростове нарастала. Яна переживала смерть отца, мучилась от боли в спине. Я лежал в областной больнице на западном, ожидая операции по удалению полипов. Помню, сразу после операции (я только-только очнулся от наркоза) доктор позвала Яну в ординаторскую: намекала, что у меня все не очень, скажем так, хорошо. А что именно? – спрашивала Яна. Доктор прямо не отвечала: ну вы же понимаете. Все было смутно и туманно. Мы с Яной снова уговорили себя, что это не про рак. Конечно, не про рак. Мы совершенно не ожидали этого. Помню, та госпитализация в ЛОР-отделении на западном воспринималась как отпуск. Я читал книги. По возможности договаривался с дежурными медсестрами и уезжал ночевать домой. В моей палате лежали в основном молодые крепкие мужчины. У большинства – искривленная перегородка. Подрались в юности, получили по носу, а сейчас настала пора поставить перегородку на место. В общем, ерунда. Они заигрывали с девушками из других палат, тайком курили в туалете, иногда проносили в больницу пиво. Как-то и меня позвали перекинуться в картишки в соседнюю женскую палату. Я не пошел. Читал в коридоре какой-то хоррор: книга приятно щекотала нервы. Мне нравится низкопробный хоррор: выдуманные ужасы примиряют с ужасами бытовыми. Из женской палаты доносился смех. Молодые голоса рассказывали бородатые анекдоты. Девушки смущенно хихикали. Все это походило на советский санаторий, как его показывают в старых фильмах. Время текло медленно, ничего не должно было произойти. У Яны после лечения наступило улучшение. Но все-таки мы рассматривали разные варианты: операция может ей понадобиться. Москва, Питер. Варианты есть. Все эти маленькие жизненные движения отвлекали ее от смерти отца. Что-то делалось, что-то происходило, и было время смириться. Была надежда на скорый штиль.
Когда я позвонил Яне, чтоб сообщить ей, что у меня рак, я не думал о ней. Это все происходило механически. Я был в чужом страшном мире. Помню, я сразу подумал обо всех этих пяти стадиях принятия неизбежного, и мне стало смешно. Что там первое? Отрицание? Отрицания не было. Я поверил сразу. Рак мгновенно выдернул меня из привычности. Одиночество обрушилось на меня, выбив цветные искры из глаз. На какое-то время, пусть и небольшое, для меня не осталось в мире никого, кроме меня: все остальные были слишком далеки, слишком чужие. Я чувствовал себя инопланетянином на враждебной планете. Когда я говорил с Яной, я не думал о ней. Для меня это была всего лишь нитка, связывающая меня с моим старым миром, но нитка слишком тонкая, чтоб по-настоящему поверить, что с ее помощью можно спастись. Я захлебывался. Страх накрыл меня с головой, и я совсем не подумал, что мой диагноз может добить ее.
Но, к счастью, этого не случилось. Наоборот: она словно проснулась. Ее кошмар развеялся: она не смогла спасти отца; не может такого быть, что она не спасет меня. Это был ее шанс. Ее надежда на искупление – хотя она ни в чем не была виновата.
Мы были нужны друг другу.
В тот вечер, когда ни она, ни я не знали еще, какой путь нам предстоит пройти, когда мы сидели возле компьютера и пялились в монитор, узнавая о раке немного больше и понимая, как далеки были наши представления от реальности, Яна сказала: мы не знаем, что придется делать. Но в онкоинституте все дорого. Тетя Вира сказала, что им пришлось вбухать немаленькую сумму. Мы не потянем. Надо открыть сбор в интернете.
Это было стыдно, потому что недавно мы уже собирали деньги на ее лечение.
Знаешь, сказала Яна, пусть будет стыдно. Пусть кто-то про нас напишет что-то плохое. Это не важно. Я не буду даже отвечать. Главное – пусть ты будешь живой.
Она сказала: собственно, я связалась уже с Эриком Брегисом. Поговорила с ним. Мы откроем сбор.
Глава третья
Самым нелепым моим страхом в детстве был страх ковров. Тех самых, что в советское время (некоторые делают это и поныне) вешали на стену – для сохранения в стенах тепла. Не знаю, откуда возник этот страх. Может, я боялся чего-то, что за ними скрывается. Помню жуткий сон: черная жидкость вытекает из-под ковра. Ползет по стене совсем рядом. Я лежу на кровати, не могу пошевелиться, смотрю на нее. Слабый ночной свет падает на стену. Жидкость разделяется на ручейки и застывает. Превращается в подобие человеческой пятерни. Я понимаю, что эта жидкость – живая. Под ковром скрывается огромное черное существо; и оно вот-вот до меня доберется. Мне страшно. Я просыпаюсь. Я стараюсь подвинуться на самый край кровати, подальше от ковра. Я отворачиваюсь и укрываюсь одеялом с головой. Одеяло – верный мой защитник. Главное, чтоб ни один участок кожи не выглядывал наружу. Главное, лежать тихо-тихо, и тогда то, что скрывается за ковром, не почует меня. Я мог лежать без сна несколько часов, отчаянно прислушиваясь к каждому шороху в комнате. Иногда мне казалось, что кто-то мягко касается меня. Но я не решался откинуть одеяло, чтоб посмотреть. Конечно, я был уверен, что никого рядом нет. Однако смелости проверить не хватало. Мне было всего три года. Днем все эти страхи казались глупостью. Я носился во дворе с ребятами. Хорошенько раскачавшись, прыгал с качелей в мягкий песок. Лазал по деревьям, собирал тютину, стрелял из лука. Помню, мы мастерили луки из подходящих веток и резинок, добытых из старых семейных трусов. Но самым шиком считалась бинт-резина. Лук с тетивой из бинт-резины – это действительно круто. Правда, никто из нас не знал, где ее добывают: даже те счастливчики, у кого она оказывалась. Это было такое волшебство: бинт-резина. Днем я совсем не думал о ночных страхах. Мама кричала в окно: Вова, мультики! – и я бежал домой смотреть мультики. Хорошо, если рисованные. Но кукольные тоже смотрел – что делать. Но вот мультики закончились, и борщ под мультики съеден. Можно снова бежать во двор. Прежде чем бежать, я подходил к ковру на стене. Трогал его. Это было совсем не страшно. Днем здесь никто не жил. День – время для игр, днем нет страха.
Впрочем, днем можно спуститься в подвал.
Вход в подвал расположен в глубине двора. В подвал ведут сырые бетонные ступени. Из чрева подвала даже в самый жаркий день несет холодом. Жители двора хранят там в огороженных клетушках заготовки на зиму и хозинвентарь. В подвале темно и пахнет плесенью. Чтоб включить там свет, надо спуститься по ступеням в самый низ, а потом сунуть руку в темноту и нашарить на стене выключатель. Мы так играли: самые смелые медленно спускались в черное подвальное нутро и, трясясь от страха перед темнотой, искали выключатель. Те, у кого запас смелости иссякал раньше времени, бросали это дело и под улюлюканье оставшихся снаружи кидались наверх, к теплу и солнцу. Ребята посмелее включали свет и какое-то время рассматривали внутреннее убранство подвала: все эти загадочные деревянные помещения с амбарными замками, паутину на белых неровных стенах, трубы таинственного происхождения. Но даже у самых смелых не хватало отваги находиться там долго. Казалось, в углах подвала что-то шевелится: какие-то страшные твари. Мой друг Руслан (в девяностых он подсядет на иглу и умрет от передозировки), объясняет: это огромные злые крысы. Они такие большие, что могут откусить ногу. Он рассказывает это в залитом солнцем дворе, и это совсем не страшно: только приятная щекотная жуть. К нам подходят ребята постарше. Они посмеиваются над нами, глупой малышней. Один из них говорит: вы что, дурачки, спускались в подвал? А вы разве не знаете, что там живет Фантомас? Мы поражены. Никто из нас не знает, кто такой Фантомас. Имя само по себе звучит чудовищно. Мы представляем что-то бесформенное, запредельно страшное, какую-то высокую черную тень с кривыми ногами и длинными когтями на узловатых пальцах. Старшие ребята хохочут над нами. Они прогоняют нас с качелей, садятся сами. Они очень взрослые: самому младшему уже девять. Он выше меня на две головы. Все они давно ходят в школу. У них огромные взрослые велосипеды «Школьник» и «Орленок». А мы гоняем по двору на старых трехколесных и ничего не знаем про страшного Фантомаса. Старшие ребята подмигивают друг другу: ничего, скоро вы про него услышите. И действительно, через несколько дней на стене подвала появляется надпись черной краской: ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ФАНТОМАС. Я уже умею читать, поэтому, вернувшись из подвала, делюсь страшным открытием с Русланом.
– Значит, они не врали, – веско произносит Руслан.
– А кто это, как ты думаешь? – спрашиваю я.
Руслан не хочет выглядеть невеждой в моих глазах.
– Это человек, – говорит он. – Большой черный человек.
– А что он делает? – спрашиваю я.
– Не знаю, – говорит Руслан. – Наверно, крадет детей.
Это очень страшно. Однако я восхищен знаниями Руслана. Ведь не просто так он это сказал: наверняка знает правду. Я даже хочу поделиться с ним своими ночными страхами. Может, он знает, что за черное существо прячется на стене за ковром. Может, это тоже Фантомас? Но мне стыдно расспрашивать его: вдруг он посмеется надо мной. Это очень нехорошо, если друг посмеется над тобой. Из-за этого можно подраться, а потом и перестать дружить. Не навсегда, конечно, потом все равно помиримся. Но мириться всегда тяжело. Это всегда отнимает время, которое можно потратить на игры и приключения, на войну с несносными девчонками и поджигание спичек возле котельной подальше от окон, чтоб никто из взрослых не увидел. Поэтому я ничего не спрашиваю.
А страх перед коврами, висящими на стене (или перед тем, что за ними скрывается), постепенно проходит. Я забываю о черной жидкости под ковром. О черной твари, в которую она превращается. Вместо этого мне начинает сниться один и тот же сон: как будто что-то происходит. Даже не понять – что. Это именно что ощущение. Страх обволакивает меня. Как будто что-то вокруг меня рушится. Я что-то делаю, пытаюсь это предотвратить. Ужас нарастает. Почти нет сил сдерживать накатывающую лавину страха. В самый последний момент я просыпаюсь. Я не помню сна: никаких картинок, никаких звуков или голосов. Только ощущения. Я что-то делаю, но это бесполезно: и все вокруг рушится. Это не остановить. Иногда, проснувшись, я кричу. Ко мне подходит мама. Щупает лоб: температуры нет. Толком еще не проснувшись, я что-то бессвязно бормочу. Обнимаю ее за шею и говорю: мне приснилось… приснилось…
– Ну что, что тебе снилось? – спрашивает она.
Я не могу объяснить. Когда я внутри сна – я все понимаю. Когда выныриваю – остаются только ощущения. Когда я стал постарше, я однажды попытался объяснить маме (или скорее себе) этот сон. Я как будто стою возле каменной стены, сказал я. Стена очень старая, она вот-вот обрушится. От этой стены не спрятаться, не убежать. Земля трясется. Из стены выпадают камни. Я поднимаю камни и вставляю их на место. Но камни выпадают все быстрее и быстрее. Я бегаю вдоль стены, пытаясь успеть вставить камни на место, но это невозможно. Я с самого начала понимаю, что это невозможно. Можно просто стоять и ждать: стена все равно упадет на меня, просто чуть быстрее. Когда она падает, я просыпаюсь.
– Всего лишь страшный сон, – говорит мама.
Но это был не всего лишь страшный сон. Он повторялся снова и снова. Я боялся засыпать. Я оттягивал время сна как умел: смотрел телевизор, читал книгу, все, что угодно, лишь бы не идти спать. В конце концов сон стал сниться реже. Когда мне было тринадцать, он приснился в последний раз. Стена продолжала рушиться. Я не успевал. Но, кажется, я с этим смирился: сон растворился, стал ничтожным, и я больше его не видел. Однако ощущение – запомнил.
Самым последним моим детским страхом стал человек за дверью. Страх появился позже других: отец уже умер, мы с мамой переехали из крошечной однокомнатной квартирки в бараке в двухкомнатную квартиру в новом девятиэтажном доме. Нам ее дали бесплатно в конце восьмидесятых, до того, как развалилась страна. Мама потом говорила: едва успели. Она очень гордилась тем, что мы успели бесплатно получить квартиру. Мне исполнилось восемь, я ходил во второй класс. В новом дворе у меня не было друзей. Как-то не срослось. Была школа, она находилась достаточно далеко от моего нового дома, а в остальное время я сидел дома и читал книги. Тогда и появился человек за дверью. Это когда подходишь к двери вечером и выглядываешь в глазок: на темной площадке никого нет. Но это ничего не значит. Ты знаешь, что он там. Человек мог присесть на корточки, чтоб его не было видно. Мог спуститься по лестнице на пару ступенек. Ты чувствуешь: он тут, совсем рядом. Ты даже слышишь его больное дыхание. Он старается дышать тише, чтоб ты его не услышал. Но твои чувства так обострены, что ты способен различить любой звук. Ты знаешь: это большой черный человек. Может, тот самый Фантомас из подвала в старом дворе. Конечно, я уже знал, откуда взялся Фантомас – это главный злодей из фильмов с Луи де Фюнесом. В Советском Союзе фильмы про него любили. Но этот, который за дверью, был другой. Он был соткан из теплых советских вечеров моего детства и самых клейких моих страхов. Иногда, набравшись смелости, я поворачивал ключ в замке и резко распахивал дверь: конечно, на площадке никого не было. Я заглядывал за дверь: пусто. В тапках я выскакивал на лестницу: никого. Эта черная тварь, лишь похожая на человека, успевала сбежать. Хотя на самом деле никакой твари не было.
Я повторял себе: никакой твари не было и нет.
Проснувшись среди ночи, я видел его в окне. Он стоял за стеклом на лоджии, смотрел на меня. Высокий тонкий силуэт. Я не мог отвести взгляд. Меня парализовало; я испытывал настоящий ужас. А он чего-то ждал. Но паралич постепенно отступал. Вот я уже могу пошевелить пальцами. Вот я могу закрыть и снова открыть глаза. Никакого темного человека на лоджии, конечно же, нет. Я осторожно поворачиваюсь на бок: в комнате сумрак, но тоже пусто. Видны очертания секретера, кресла и шкафа. Снова гляжу на окно: никого. Фантомас – лишь преступник из комедии с Луи де Фюнесом. А то, что я принял за силуэт на лоджии, – качающиеся верхушки тополей, достающих до седьмого этажа; всего лишь тени, падающие на стекло. Если приглядеться, они даже издалека не напоминают человеческий силуэт. Я натягиваю одеяло до подбородка, закрываю глаза и считаю. Если считать долго и упрямо, то рано или поздно устанешь считать и уснешь. Это всегда помогает. Я начинаю считать: один, два, три, четыре. Я вспоминаю, что надо представлять овец, перепрыгивающих через ограду. Я считаю: тридцать, тридцать один, тридцать два и вижу овец, прыгающих через невысокий деревянный заборчик. Овечки похожи на пушистые облачка. Я считаю: сто двадцать шесть, сто двадцать семь и вдруг отчетливо понимаю, что Фантомас все-таки стоит там, на лоджии. Просто в какой-то момент его можно разглядеть, а в какой-то – нельзя. Может, он становится виден, когда ты почти уснул; или почти проснулся. Но я слишком устал, чтоб открыть глаза и проверить. Я считаю: триста сорок четыре, триста сорок четыре пять, три сорок… Я не помню последнее число, потому что засыпаю. Надо выспаться – завтра в школу.
Фантомас – вернее его зыбкая тень – еще долго являлся мне. Но я взрослел, страх уходил. С возрастом я боялся его все меньше и меньше. Может, мой мозг огрубел и разучился высматривать в темноте призрачные силуэты. Может, все это было лишь мое детское воображение. Дети не могут обходиться без выдуманных страхов. Все прошло – или казалось, что прошло.