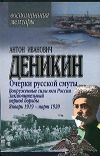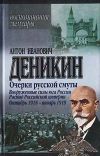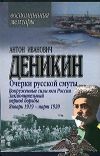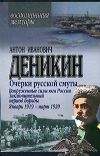Автор книги: Владимир Хазан
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Что такое Троцкий?.. Сильный, дьявольской энергии человек, но Троцкий и 24-х часов не просуществовал бы, если бы он не был нужен тем, подходя к которым я <…> ставлю твердую точку. В любой момент и в любом направлении мы можем бросить два-три, даже четыре миллиона этой серой скотинки, как называл ее знаменитый Драгомиров, только несколько под другим углом, чем называем мы; Драгомиров ее жалел, – нам ее ничуть не жалко! Перефразируя слова Бисмарка, мы можем сказать, что русский народ – это навоз для удобрения посева еврейской мощи, еврейского величия. Красная армия – это пугало, которым мы шантажируем одряхлевшую, страдающую старческим маразмом тела и воли Европу. Красная армия – наше пушечное мясо. Россия наш плацдарм. Европа больше боится этой вшивой, голодной, одичавшей пустыни с ее армией, идущей под красною звездою, чем боялась России императорской, на знаменах которой было написано «Бог, Царь и Отечество» (Брешко-Брешковский 1923: 115).
В фамилии Вайсберга и иноязычно-производных от нее мог содержаться еще один ассоциативный пласт: Белогоров перекликался с Красногоровым-Рутенбергом. Эта лингвистическая игра не наше изобретение. Рутенберга действительно так называли современники, например, X. Вейцман, см. в его письме жене от 29 декабря 1914 г. (Weizmann 1977-79, VII: 134).
Ассоциативная связь героя Брешко-Брешковского с Рутенбергом могла возникнуть и по другому, уже нелингвистическому поводу. После отплытия из Одессы в апреле 1919 г. Рутенберг, как известно, в Россию больше никогда не возвращался. Однако в разные периоды и при разных обстоятельствах его жизни возникали весьма странные, а порой и просто занятные сюжеты, основной темой которых был его приезд в Россию. Едва ли не первым об этом заговорил Г. Бостунич, среди многочисленных нелепостей книги которого «Масонство и русская революция» есть и такая: «посвятив» и попа Гапона, и Рутенберга в масоны, он пишет, что первый был
убит за попытку изменить, по приговору своих же, масоном инженером Рутенбергом, благополучно здравствующим и мечтающим осчастливить своим приездом будущую Россию (Бостунич 1922: 121-22).
Иными словами, Рутенберг начала 20-х гг., по предположению автора исследования о мировом жидомасонском заговоре, являлся одним из главных проектировщиков международного плана еврейской экспансии России. Его приезд в образе нового царя Иудейского будет означать окончательное ее падение.
Палестина эпохи британского мандата расценивалась в антисемитском дискурсе как «обходной маневр» еврейства, якобы не достигшего задуманного в первой русской революции.
Она якобы понадобилась евреям как плацдарм для установления мирового господства и, в более частном плане, сведения счетов с ненавистной Россией. Выражая этот достаточно распространенный взгляд, некто Я. Демченко писал, что,
несмотря на успешную революцию в России и весьма удачливое начало ее, произошел большой затор в ходе ее, обусловленный малограмотностью и здравым смыслом русского мужика и мещанина, недостаточно вошедших во вкус еврейской публицистики, и потому евреям пришлось совершить обходное движение на Персию и Турцию с целью вызвать гигантскую катастрофу: немецко-славянско-русскую войну или даже общеевропейскую войну с целью все-таки повалить Россию (цит. по: Вершинин 1933: 84).
Таким образом, в этом крайне негативном и опасном для русского народа персонаже Брешко-Брешковского, в котором сосредоточилась тяга к мировому владычеству, преломились не столько индивидуальные, сколько общие искаженно-антисемитские представления об антирусском и антироссийском еврейском духе. Роман в своей «еврейской» части по существу представлял беллетризованную аналогию того примитивного клеветнического доноса на Рутенберга, что родился в недрах добровольческой контрразведки и имел целью политически оболгать и унизить его. Цель писателя была примерно та же, пусть и при отсутствии персонального объекта и конкретного повода.
Возвращаясь к Жаботинскому, содержавшемуся в Аккской тюрьме, следует сказать, что протест против английского не-правосудия, который поначалу был столь мощным, вскоре начал терять силу: в первую очередь это было связано с тем, что 25 апреля международная конференция в Сан-Ремо утвердила мандат Великобритании на Палестину12, а Франции – на Сирию и Ливан. Эта новость, восторженно встреченная в Эрец-Исраэль, приглушила и оттеснила на задний план вопиющий по своей несправедливости и антидемократизму суд над Жаботинским и борцами хаганы. Их обида была тем более острой, что ни в одном из решений конференции данная беззаконная акция даже не упоминалась, как будто ни арабского насилия, ни английского неправедного суда, буквально несколько недель назад потрясших мир, не было вовсе. Еще более острым было сознание того, что снижение протестующего накала санкционировал возглавлявшийся М. Усышкиным Ва’ад-Гацирим. Сионистские вожди полагали, и, возможно, не без причины, что в обстановке принятых исторических сан-ремских решений евреям разумнее не поднимать большого шума и держать «народное волнение» в узде. Этот тактический шаг вступал, однако, в явное противоречие с тем, что решение о создании национальной еврейской обороны было принято Жаботинским не единолично и не в частном порядке, а отражало мнение всех палестинских лидеров, собравшихся в конце 1919 г. на специальное заседание по данному вопросу. В этом отношении ключевой смысл приобретает фраза Рутенберга из публикуемого ниже его письма осужденному Жаботинскому:
Юридически и морально я ответственен за инициативу организованной самообороны, даже за Ваш арест и каторжную тюрьму. Ибо я заставил Вас согласиться заняться организацией Иерусалимской самообороны, несмотря на Ваш упорный отказ во время знаменитого совещания.
Несмотря на то что в начале мая приговор был смягчен, 6 мая группа Жаботинского обратилась с коллективным письмом к еврейским общинным организациям и политическим партиям. В письме содержался законный упрек, что они забыты теми, чьи распоряжения выполняли и во имя кого жертвовали своими жизнями. «Мы найдем иные методы, если за нас не поведут борьбу», – говорилось в письме. В нем содержался откровенный призыв игнорировать Ва’ад-Гацирим и адресовать свой протест правительствам Европы и Америки, включая, разумеется, британское.
После этого письма узников Аккской тюрьмы посетил давний друг Жаботинского Л. Яффе (см. о нем прим. 33 к III: 1) и передал, что в стране среди евреев готовятся демонстрации протеста против английского произвола.
7 июля, после назначения Верховным комиссаром Палестины Г. Самюэля13, была объявлена всеобщая амнистия для осужденных, и «дело Жаботинского» и его товарищей было закрыто – они вышли на свободу14. Однако сам этот эпизод носил достаточно драматический характер, и приводимое ниже письмо Рутенберга, адресованное в Аккскую тюрьму, лишний раз об этом напоминает. Дата на нем отсутствует, но из контекста вполне ясно, что оно относится к июню 1920 г. (упоминаемую в нем голодовку заключенные объявили 6 июня15).
Письмо проникнуто открытым и откровенным политическим позитивизмом. В нем Рутенберг – при всем разумеющемся несходстве ситуаций – достаточно инверсивен по отношению к собственной роли, которую он когда-то играл в злополучной истории о непризнании эсеровским ЦК замешанности в убийстве Гапона. Ныне Жаботинский как бы занял его место оставленного без поддержки «одинокого героя», а возмужавший и поднаторевший в политической науке Рутенберг пытается убедить своего товарища в «несвоевременности» протеста. Спасает ситуацию, однако, отсутствие у автора письма холодной партийной чопорности и «олимпийского» безразличия, жертвой которых он когда-то сам побывал. Рутенберг хотя и суров, но не бесчувствен – и понять попавшего в беду товарища способен, и пожертвовать своими амбициями, чтобы ему помочь, готов. Это резко отличает данную ситуацию от памятного инцидента с эсеровским ЦК.
Вместе с тем осуждающий тон в письме присутствует, и, как бы его ни оценивать, он является прямой функцией развившегося сознания «объективного вреда», который может нанести общему делу «субъективная польза». Продвинутость Рутенберга по диалектическому курсу признания демагогической максимы «коллектив – все, единица – ничто» вроде бы налицо. Его аргументы выглядят трезво и весомо, хотя сквозь призму минувшего основная мысль автора письма о том, что протест Жаботинского «со товарищи» объективно наносит урон сионизму, выглядит в особенности небесспорной. Впрочем, ответ на вопрос, прав ли был Рутенберг или нет, принадлежит скорее моральной, нежели исторической стороне затронутой темы. Одно несомненно: любивший и высоко ценивший Жаботинского, относившийся к нему, еще со времен Легиона, не просто по-приятельски корректно, но истинно дружески, Рутенберг, однако, избирает для письма тон холодно-деловитый, даже жесткий. Но именно этот тон сильнее любых слов сочувствия обнажал его действенную заботу об узниках британской Фемиды. Речь Рутенберга (а текст послания в известном смысле носит характер публичной речи, форму «открытого письма» – не случайно в заключении автор говорит о необходимости его опубликовать) рассчитана не столько на обвинительный или менторский эффект, сколько проникнута мыслью о слабости предпринятых Жаботинским политических шагов. Рутенберговская интонация, не лишенная осуждающей прямоты, в точности соответствовала основной задаче послания – разрядить излишнюю нервную атмосферу, возникшую не только вокруг ареста Жаботинского и его группы, но и в их собственных душах (недаром сквозным лейтмотивом через текст проходит повторенное несколько раз слово «истеричный»). Повторяем, мы не стремимся выяснить в данном случае правоту каждой стороны, а скорее подчеркиваем умно-холодный расчет Рутенберга, прекрасно понимавшего, с кем он имел дело. Жаботинский относился к той категории деятетелей, кому не нужно было дважды напоминать, что политическая борьба требует железной выдержки. Отсюда безусловная уверенность Рутенберга, что он будет правильно понят. Судя по всему, так оно и вышло: его письмо – урок практической политики, который он преподал одному из самых ярких деятелей сионистского движения, будущему лидеру ревизионизма, – было воспринято без обиды и в рамках общественных, а не личных «отношений»16.
Дорогой Владимир Евгеньевич!
Уезжаю. Видеть Вас перед отъездом не смогу.
Жаль. Но помочь нельзя. Каждый день дорог. Оставаться нельзя.
Хотелось бы видеть Вас, просто и хорошо попрощаться с Вами. Хотелось говорить с Вами о деле, о Вашем письме к еврейскому народу и других, дошедших до меня о Вас сведениях.
Отношусь к ним определенно отрицательно. Говорить с Вами лично о них не могу. Поэтому пишу.
Вы знаете, что я во многом, очень многом не согласен ни с ваад-Гациримом, ни с Вейцманом, ни с другими нашими лидерами. Знаете давно уже. И внешнюю и внутреннюю политику их считал и считаю неправильной. Часто очень вредной и губительной для нас.
Но положение наше исключительно тяжелое. Трагическое. Одной критикой его не изменить. Единственное наше спасение в организации существующих у нас сил для практической, реальной работы. Покуда такой снизу сорганизованной, реальной силы не будет, у нас не будет других лидеров, других учреждений. И быть не может.
В нормальное время можно (и надо) позволить себе откровенность о далеко не совершенных достоинствах лидеров наших. В теперешнее военное время, перед лицом опасности, перед лицом могущественных, разброженных и озлобленных против нас врагов этого делать нельзя. Нельзя компрометировать даже плохих наших лидеров, даже плохие учреждения. Покуда не собраны силы, покуда нет практической возможности старое заменить новым, более или менее лучшим и работоспособным, нельзя деморализовать массы. Вносить в них разврат, анархию, отчаяние или самое худшее – самообман.
Выдавать в такое время такие тайны – значит себя ослаблять и врагов наших укреплять. Самое страшное преступление военного времени.
Преступление это Вы совершаете.
Импонентное начальство наше не имеет сил и мужества не только Вас наказать, но даже Вам это сказать.
Вы это знаете.
И тем меньше права Вы имеете пользоваться его импотентностью. Тем больше обязанность на Вас лежит использовать Ваш авторитет и влияние на молодежь, чтоб сделать ее спокойной, а не истерической, работающей, а не митингующей, дееспособной, а не словоизвергающей. Делать это тихо, упорно, без лишних слов, без привлекающих внимание врага эффектов, отвлекающих внимание и разряжающих энергию собственных сил.
Это Ваш долг, обязанность. А поступаете Вы как раз наоборот. Истерические митинговые речи небольшой истерической группы, взвинченной Вашими письмами молодежи, посылка митингом к Вам делегации с заявлением верноподданности, «нахождения в Вашем распоряжении» – полнейший абсурд, митинги и забастовка школьников, «требующих» Вашего освобождения, – нелепая суета импотентных «общественных деятелей», перепуганных Вашими ультиматумами, скандалом объявленной голодовки, и торжественная телеграмма «делегатов» в печать, что Вы голодовку отменили и т. д. – все это опошляет, разменивает на мелочи исключительно важный политический факт существования наших собственных первых политических «каторжан» в нашей «собственной» стране. Независимо от того, заслужили ли они действительно эту каторгу или нет. По-моему, не заслужили. Ибо ничего серьезного для защиты населения самооборона сделать не сумела, хотя и хотела.
Если б ишув самостоятельно протестовал, в какой угодно форме сорганизовался для борьбы за собственное достоинство, конкретно выражающейся в Вашем освобождении, такое движение имело бы политический смысл и ценность. Когда же все делается под <В>ашей угрозой, под опасением Вашей голодовки – это движение дешевое, унизительное, бессловное, бесцельное. И бесполезное. Не движение это, а гримаса, конвульсия, истерика группы истеричных, легко возбудимых импотентных людей.
И я считаю это политически вредным.
Чувствительных интеллигентов <В>ы смутите, испугаете, терроризируете. И будут сыпаться суетливые успокоительные телеграммы. По существу унизительные и вредные. Но толку, практического дела от них не получится.
Разве это Вам нужно <?>.
Конечно, Вы правы, что Ваше сидение в тюрьме – живой символ, оскорбление, издевательства английской администрации над еврейским народом. Конечно, Вы правы, что ишув забыл Вас. Поволновался и забыл. И зашелся обыденной маленькой жизнью своею. Маленькой политикой, маленькой спекуляцией и торговлей, маленькими интересами своими.
Безусловно правы.
Но это не значит, что Вы имеете основание и право поносить и оскорблять его.
Если у нас с Вами имеются силы, знание, умение быть полезными массе, если мы претендуем на руководство ею и имеем высокую цель быть в передовых рядах ее, не может быть речи о требовании признания, компенсации и пр.
Если масса неправильно поступает, мы должны указать ей ее ошибки, направлять тем или другим способом, даже заставлять ее идти желательным путем, но неуспех наш доказывает только нашу собственную вину, наше неумение, а не вину и неумение народа.
Вы можете быть самого отвратительного мнения о каждом еврее в отдельности. Но все евреи вместе составляют Его Величество Еврейский народ17, горем и кровью своими оплачивающими <sic> величайшие ценности, им созданные и создаваемые, великую роль им в мировой истории выполняемую.
Перед этим «ценным» каждый из нас, как бы велик или мал он ни был, обязан стоять руки по швам. Иначе теряется пропорция. Оскорбления к массам не пристают. Оскорбляя народ, Вы только себя оскорбляете. Никто нас с Вами не просил спасать <sic> еврейский народ. Много веков он обходился без нас с Вами и дальше обойдется, и ни о каких требованиях к нему не может быть и речи. Плох он или хорош – его надо брать таким, каков он есть. Если Вы сердитесь, значит не годитесь на претендующую Вами роль18.
Знаю Вас достаточно хорошо. Знаю, что все эти истины для Вас известны. Поэтому тон и содержание Ваших писем и поступков объясняю только недоразумением, неудачной, несчастной формой проявления чувств и мыслей, заслуживающих лучшего и большего внимания и уважения, чем они фактически встретили.
Это не комплимент. Вы прекрасно знаете, что Вы талантливый и ценный человек, поэтому Вы больше других ответственны за свои слова и поступки и больше других обязаны быть самостоятельным в своих словах и поступках.
Единственное лицо, к которому Вы имеете право и основание предъявлять претензии, обвинения, требования, – это я.
Если за самооборону сидеть в тюрьме надо, то больше чем кому бы то ни было другому надо было сидеть мне. Юридически и морально я ответственен за инициативу организованной самообороны, даже за Ваш арест и каторжную тюрьму. Ибо я заставил Вас согласиться заняться организацией Иерусалимской самообороны, несмотря на Ваш упорный отказ во время знаменитого совещания. Вместе с Вами несу ответственность за каждый шаг самообороны до Вашего ареста и единоличную ответственность за все время после этого ареста. И если я остался на свободе, то обязан был сделать все возможное для вашего всех освобождения или для политического использования вашего сидения. Чего я с определенного времени не делаю. Ибо занят, сильно занят своей работой. Правильно или неправильно, но я считаю эту работу, доведение ее до практического конца самым важным в нашей теперешней жизни. Совместить с этой работой что бы то ни было другое я физически не в состоянии. И отступить от этого решения не смог бы, даже если бы Вам угрожала большая опасность, чем тюрьма.
Возможно, что я не прав и поступаю нехорошо, но иначе поступать не считаю себя вправе. Знаю, что больше кого бы то ни было другого я мог бы помочь Вам и политически удовлетворить Вас. Поэтому все Ваши обвинения Вы могли бы направить только против меня. Даже против Ва’ад Гацирим, сделавшим в меру его сил и понимания все, что мог. Я это знаю. И подхлестывать его, оскорблять, вызывать молодежь на публичные оскорбления единственно существующего, плохого, очень слабого, мало авторитетного, но единственного покуда представляющего еврейство учреждения, поступать так, значит приносить делу, которому Вы искренне служите, вред.
Еду в Лондон. При настоящих условиях невозможно сказать, когда доеду. Одно ясно и само собой разумеется, что как только доеду, сделаю все возможное, чтобы ликвидировать Ваше сидение. Если к тому времени Вы не будете уже все освобождены. В чем почти уверен. Во всяком случае немедленно извещу Вас о действительном положении дела. Политики «Гатиква» я ведь не придерживаюсь19. И точно извещу, если придется сидеть – будете сидеть. А делать будете только то, что по холодному и спокойному расчету целесообразно и полезно. Даже кипятиться будете по холодному расчету. Так надо.
Содержание этого письма в том или другом виде я должен бы опубликовать. Сделать это до моего отъезда не смогу. Сделайте это сами.
А теперь желаю Вам и всем Аккским товарищам от души спокойствия и бодрости в вашей исключительно ответственной роли.
Крепко обнимаю. Сердечно люблю и глубоко уважаю
Ваш П. Рутенберг20
Наряду с уже отмеченным эпитетом «истеричный», в письме несколько раз использован образ «импотентов»:
Импонентное начальство наше не имеет сил и мужества не только Вас наказать, но даже Вам это сказать.
Вы это знаете.
И тем меньше права Вы имеете пользоваться его импотентностью.
…нелепая суета импотентных «общественных деятелей»…
…гримаса, конвульсия, истерика группы истеричных, легко возбудимых импотентных людей.
Для физически и физиологически сильного и полноценного Рутенберга слабосилие, отсутствие мужской потенции ^мужественного начала) в любой области – любви, творчестве, политике и пр. – было наиболее унизительной характеристикой, в особенности в отношении не оправдавшего доверия лидерства. Наверное, здесь уместно вести речь о его персональной стилистике, вообще об образно-психологических моделях, одна из которых – мужская сексуальная потенция (vs импотенция) – служила метафорическим эквивалентом и формой описания «смежных» индивидуально-человеческих или коллективно-социальных качеств, см. в его статье «Хватит болтовни – пора за работу» в газете «Di varhayt» (1916. 30 сентября):
Существующий Исполком конгресса импотентен, дискредитирован.
То же в его докладе Клемансо, который цитировался в III: 2:
Местное население занятых добровольцами областей не сочувствовало им и не откликалось на объявленную ими мобилизацию. Добров<ольческая> армия оставалась численно импотентной.
Или в письме к А.М. Беркенгейму от 30 октября 1922 г., где, говоря о каких-то недоброжелателях, он едко пишет, что все можно было бы устроить,
если бы наши «друзья» не были так мизерабельно мелочны и импотентны (RA).
Обращает на себя внимание образ из «армейско-строевой» поэтики Рутенберга: «руки по швам» («Перед этим "ценным” каждый из нас, как бы велик или мал он ни был, обязан стоять руки по швам»). В большом письме, написанном когда-то Савинкову (19 февраля 1908 г.), в котором он пытался объяснить характер и мотивы своего поведения в деле Гапона, Рутенберг рассказывал о том, как, приехав к Азефу советоваться, он застал того в мрачном настроении. «У него не ладились дела в П<етербурге>, – писал Рутенберг, – и он нашел возможным по-чему-то в самой грубой форме сорвать на мне злобу». И далее не без иронии замечал:
С точки зрения безупречной дисциплины, я должен был, конечно, с руками по швам, молча выслушать гневавшееся начальство и продолжать «советоваться».
В письме Жаботинскому образ «солдата революции», подчиненного букве и духу «безупречной дисциплины», окрашен иной ценностной семантикой – место разоблаченных и исчезнувших кумиров занял «Его Величество Еврейский народ». Трансформация эта знаменательна, как вообще знаменательно наполнение устойчивых стилистических форм в речи Рутенберга новым содержанием и смыслом.
Но особенно интересна в его письме Жаботинскому, если говорить об автонарративной стороне, упругая мысль о долге, своеобразный акафист «так надо». Ср. в приводившемся в И: 5 письме тому же Жаботинскому (от 5 февраля 1916):
Горы работы. Это доставляет мне много. Бьюсь как рыба о лед. Но выбьюсь все-таки. Падать душой не приходится. И <В>ас подбадривать тоже нечего. Надо.
Или в письме к А.М. Беркенгейму от 30 сентября 1922 г., которое полностью будет приведено ниже:
Sacher действует как мой представитель. Никаких сношений по этому поводу с Сион<истской> орган<изацией> ни в Пал<естине>, ни в Лондоне, никаких частных писем по этому поводу с Вейцм<аном> или наш<ими> он иметь не может. Это очень важно и является моим категорическим требованиям. Почему? – долго ему сейчас объяснять. Но так нужно.
Этот изоблюбленный рутенберговский оборот, к которому он зачастую прибегал в эпистолярной риторике (надо полагать, что то же случалось и в обычном речевом обиходе), появляется даже в тех ситуациях, которые вроде бы мало для этого подходят, типа письма бывшей жене от 27 февраля 1921 г., где он предлагает ей оформить, легализовать развод, поскольку
при советском режиме это сделать легче. Сделай. Так надо (см. II: 4).
«Так надо» имеет здесь странную смысловую семантику как будто бы кем-то заповедованного свыше долга, хотя понятно, что если кто и устанавливает в данном случае строгую обязательность между супругами, то это сам Рутенберг, превыше всего чтящий железное подчинение человека великому закону необходимости. Ср. еще в приводившемся выше (II: 3) его письме Горькому от 3 апреля 1925 г.:
Как ни стараюсь, а глупому слову «должен» до сих пор не разучился.
Закавыченность слова «должен» поддается здесь довольно простой грамматической экспликации, но вот в письме к дочери от 22 июня 1929 г. наличие кавычек грамматически не объяснить. Создается впечатление, что кавычки означают своего рода навьюченную на слово провербиальную вековую ношу (RA):
Последнее время все хвораю. А работы много, т. е. не успеваю справиться с нею. Поэтому чувствую себя постоянно плохо и удрученным, и в голове и на душе у меня пусто и ничего мне не хочется и ничего не надо. А «должен» делать много.
В приведенном письме Жаботинскому бессердечно-требовательное должествование преодолевало все рубежи ригоризма:
А делать будете только то, что по холодному и спокойному расчету целесообразно и полезно. Даже кипятиться будете по холодному расчету. Так надо.
Риторическое заострение – «кипятиться будете по холодному расчету» – было чрезмерным, как кажется, даже для эсеровского дисциплинарного устава. Впрочем, для самого адресата подобная риторика отнюдь не звучала чуждо или раздражающе – партнеры говорили на одном языке. Именно понимание этого обстоятельства, подчеркнем еще раз, водило рукой Рутенберга. В письме он беседовал с единомышленником, втолковывал ему то, что, сложись ситуация иначе, Жаботинский сам не преминул бы объяснить кому-то третьему – поэтому любые директивные перегибы и увлечения были здесь и извинительны, и, так сказать, корректны.
Пожалуй, ни с кем другим из того круга, который принято называть соратниками, единомышленниками и друзьями, Рутенберг не позволял себе такой доверительной откровенности, как с Жаботинским. Их переписка, хорошо представленная в RA и в Jabotinsky Archives (Jl), свидетельствует об этом достаточно красноречиво. Душевно-человеческая близость усиливалась пусть не полным, но все-таки ощутимым сходством политических позиций и ключевых концепций строительства еврейского государства, не идентичыми опять же, но во многом сотрудничающими формами и способами решения проблемы межнациональной арабо-еврейской распри, вообще – близкими по духу подходами к многообразному спектру происходящих в Палестине событий.
При всем том, что Рутенберг был «центрист» и в Эрец-Исраэль за ним закрепилась репутация человека надпартийного (a man above party), стремившегося занять место в стороне от борьбы, «над схваткой», знавшие его люди подчеркивали преобладание в нем ориентации Жаботинского («правых», ревизионистов), нежели противоположного ему по взглядам лидера рабочей партии, «левых» («мапайников») Бен-Гуриона (Dikovskii 1986: 68-9). В 1934 г. Рутенберг предпринял попытку их, Жаботинского и Бен-Гуриона, примирить (см., напр.: Schechtman 1961, И: 247-51), – не его вина, что достигнутое соглашение не было одобрено референдумом Гистадрута (профсоюза).
Позднее, в 1939 г., Рутенберг поддержал деятельность подпольной вооруженной организации ЭЦЕЛ (Irgun tzvai leumi – Национальная военная организация; создана весной 1931 г.), давал на нее деньги (Shaltiel 1990, И: 518). 19 мая 1939 г. он должен был встретиться в Хайфе с руководителем ЭЦЕЛа Д. Разиэлем, арестованным в аэропорту Лода в тот момент, когда он собирался вылететь на эту встречу (Sefer toldot Hahagana 1954-64, III/l: 57; Niv 1965-80, II: 237). Встречу инициировал сам Рутенберг через два дня после публикации Белой книги М. Макдональда, опасаясь, что она вызовет у ЭЦЕЛа законное негодование и приведет к яростному террору против англичан.
Разиэль летел на самолете, принадлежавшем компании Хеврат ха-хашмаль и специально присланном за ним Рутенбергом. Занимая в это время (вторично) пост председателя Ва’ад Леуми, Рутенберг был заитересован в том, чтобы действия ЭЦЕЛа против англичан не переходили определенной черты – об этом он и хотел договориться с Разиэлем. Самолет за главой ЭЦЕЛа был послан, чтобы избежать многочисленных проверок на дорогах, пока тот добирался бы на машине из центра страны до Хайфы и рисковал быть арестованным английской полицией.
Встреча Рутенберга и Разиэля все-таки состоялась. Произошла она через некоторое время в иерусалимском отеле King David, куда по просьбе Рутенберга англичане доставили Разиэля. Рутенберг полагая, что при всех тяжелейших условиях, в которые мандатные власти поставили еврейский ишув в Белой книге, Великобритания в целом играет важную роль в борьбе с гитлеровской Германией, и сейчас не время сводить с ней счеты. Разиэль ответил согласием.
Некоторые из биографов Рутенберга считают, что его политический центризм был связан с усталостью и разочарованием от участия в общественной жизни. Это было своего рода сильнейшей реакцией на революционное прошлое, раскаяние в нем. В результате в Палестине произошло как бы естественное ослабление бурления крови в жилах: принятие политических решений давалось с величайшим трудом, отсюда – сосредоточение в основном на прагматической, деловой стороне и почти полное забвение «словаря политической жизни» (vocabulary of political life) (Lipsky 1956: 127). Центризм Рутенберга, пишет тот же автор, позволял разным политическим силам держать его в своем резерве как «темную лошадку», которую можно будет использовать в подходящий момент.
Если это и так, то следует сказать, что «центристская» позиция оказалась по-своему далеко небезуязвимой, поскольку вызывала двойной огонь – и слева, и справа. Если непростые отношения с «левыми», мапайниками и сионистской Экзекутивой (Вейцманом и пр.) объяснялись тем, что Рутенберг не мог смириться с их чрезмерно уступчивой и соглашательской политикой, то «правые» нередко упрекали его за то же самое, но с более радикальных позиций. Поэтому стремившийся к некоей политической уравновешанности и сбалансированности, в особенности в роли председателя Ва’ад Леуми (Национальный комитет – высший исполнительный орган еврейского ишува в подмандатной Палестине), Рутенберг нередко становился объектом беспощадной критики с обеих сторон.
В бурную политическую жизнь было вовлечено едва ли не все взрослое население ишува. При этом резкость высказываний в жарких спорах никого не смущала – дипломатическая сдержанность и изысканные манеры приживались в Палестине с трудом. Временами нелицеприятная критика исходила от людей, по-житейски крайне Рутенбергу симпатичных – крайне незаурядных лично и социально. Так, принадлежавший к «правому» лагерю известный адвокат и общественный деятель доктор Авраам Вейншал (1893–1968), обозревая годовой срок пребывания Рутенберга на посту председателя Ва’ад Леуми, атаковал его в довольно острой статье, хлестко названной «Живой мертвец» («Hamet ha-hay»):
Подводя ныне итоги <этой деятельности>, мы с горечью констатируем, что Рутенберг знаменует собой силу Еврейского агентства, его обширные возможности. Больше того, неотъемлемую анти-сионистскую часть этого агентства. Вместо того, чтобы быть идеей живого и автономного ишува, г-н Рутенберг олицетворяет сегодня закулисные переговоры и уступки. Вместо того, чтобы его имя обрело связь с финансовой самостоятельностью <Эрец-Исраэль>, оно связано сегодня с фондом помощи – тема, о которой даже неприятно писать. Китайская стена, отделяющая Ва’ад Леуми от ишува, атмосфера секретности, которая заполнила образовавшийся здесь вакуум, – все это также связано с именем Рутенберга. Выясняется, что рутенберговская эпоха была довольно плачевной (Weinshai 1930).
Попытки «центриста» Рутенберга найти выход из глубоких противоречий политической жизни ишува далеко не всегда приносили желаемый результат. Временами складывались ситуации, когда критиковавший «левых» за уступчивость англичанам, Рутенберг, с точки зрения «правых», проявлял ничуть не меньшую слабость и политическую аморфность. Показательно в этом смысле отношение к нему Жаботинского после публикации англичанами Белой книги (июль 1937)21, в которой, на основании выводов королевской комиссии под председательством В.Р. Пиля, принципиально был одобрен план раздела страны на два государства – еврейское и арабское. Посетивший Палестину в августе– октябре 1937 г. Д. Кнут так рассказывал в «Альбоме путешественника» (1938) о том, какую крошечную территорию получали евреи в результате этого дележа:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?