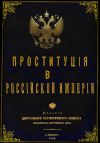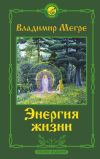Текст книги "«Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского"

Автор книги: Владимир Кантор
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Некрасов
Начну с итогового резюме НГЧ о великом поэте, сделанного в последний год жизни Некрасова в письме к знаменитому издателю, купцу К.Т. Солдатёнкову, человеку, рискнувшему в свое время издать собрание сочинений Белинского, когда богатые друзья критика (Тургенев, Боткин и др.) после его смерти благоразумно отошли подальше от его судьбы (ни копейкой не помогшие его вдове и дочери), и отдавшему половину дохода от издания жившей в бедности вдове критика. Солдатёнков мог понять пафос Чернышевского: «Некрасов – мой благодетель. Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее; но все мои заслуги перед нею – его заслуги. Сравнительно с тем, что ему я обязан честью быть предметом любви многочисленнейшей и лучшей части образованного русского общества, маловажно то, что он делился со мною последней сотней рублей (он долго был беден, а “Современник” не имел денег); сколько я перебрал у него, неизвестно мне; мы не вели счета; я приходил, он доставал бумажник и раздумывал, сколько ему необходимо оставить у себя, остальное отдавал мне» (Чернышевский, XV, 703).

И.И. Панаев
И все же денежная проблема была для обоих не очень-то маловажной. Оба своими усилиями завоевали свое положение в обществе. Сразу по приезде, как было сказано выше, Чернышевские жили трудно, денег почти не было. Академическая карьера не задалась, можно было продолжать пробивать себе дорогу в университет, но на семейном (его и О.С.) совете он спросил жену, что лучше – быть профессором или зарабатывать больше денег. Разумеется, жена поддержала второе предложение. Позже, вспоминая свой путь в «Современник», НГЧ по сути рассказал о том, как он решился на некрасовский журнал. Это был выбор; проблема выбора не раз достаточно остро вставала перед ним. Первый был – женитьба, второй – работа у Некрасова: «Мы приехали в Петербург в мае 1853 [г.], Оленька и я. Денег у нас было мало. Я должен был искать работы. Довольно скоро я был рекомендован А.А. Краевскому одним из второстепенных тогдашних литераторов, моим не близким, но давним знакомым. Краевский стал давать мне работу в “Отечественных записках”, сколько мог, не отнимая работы у своих постоянных сотрудников. Это было очень мало. Я должен был искать работы и в другом из двух тогдашних хороших журналов, в “Современнике”. Редактором его был, как печаталось на заглавных листах, Панаев.
Я думал, что это и на деле так. Несколько месяцев прошло прежде чем я нашел случай попросить работы у Панаева, которого видел у одного из людей, знавших меня по университетским моим занятиям. Панаев сказал, чтобы я пришел к нему, он даст мне какую-нибудь маленькую работу для пробы, гожусь ли я в сотрудники “Современнику”. Пусть я приду завтра утром. Я пришел. Он сказал, что приготовил обещанную работу, дал мне две или три книги для разбора и пригласил меня не уходить тотчас же, посидеть, поговорить. Книги были неважные, не стоившие длинных статей. Я принес Панаеву мои рецензии скоро; если не ошибаюсь, на другое же утро. Он сказал, что к утру завтра он прочтет их; пусть я приду завтра утром, он скажет мне, гожусь ли я работать в “Современнике”, и опять пригласил посидеть, поговорить. На следующее утро я пришел. Он сказал, что я гожусь работать и он будет давать мне работу; опять пригласил меня посидеть, поговорить» (Чернышевский, I, 714).
Далее выяснилось, что реально руководит журналом не прозаик Панаев, а поэт Некрасов, которого НГЧ описывает так: «Вошел в комнату мужчина, еще молодой, но будто дряхлый, опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это Некрасов (я знал, что он живет в одной квартире с Панаевым). Я тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило его увидеть таким больным, хилым» (Чернышевский, I, 714–715). Надо полагать, Чернышевский приглянулся Некрасову сразу: и способность трудиться, не покладая рук, и фантастическая образованность, когда по поводу любого литературного явления он мог не просто говорить, а поставить его в культурный контекст, с легкостью читая на многих иностранных языках. Наверно, нравился и его постоянный иронический тон, не обидный, но усмешливый, к примеру: «Положение человека, который не приобрел привычки читать книги ни на одном языке, кроме русского, не хочет, однако, познакомиться с всеобщею историею, очень невыгодно» (Чернышевский, II, 544). Не случайно почти через год он поставил его выше Белинского, которого считал своим учителем, но понимал ограниченность кругозора великого критика. Университетская молодость самого Некрасова была более чем разночинской. Поэтому как человек, прошедший тяжелую юность, голодную и холодную, он понимал, что молодой критик, пришедший к нему, провинциал из Саратова, очевидно не богат, скорее беден, а поэтому необходимо оговорить финансовые проблемы сотрудничества.
Надо сказать, что, по рассказу Чернышевского, тоже понимавшего в поэте эту разночинскую жажду знаний, мать хотела, чтоб Николай был образованным человеком, и говорила ему, что он должен поступить в университет, потому что образованность приобретается в университете, а не в специальных школах. Но отец не хотел и слышать об этом; он соглашался отпустить Некрасова не иначе как только для поступления в кадетский корпус. Спорить было бесполезно, мать замолчала. Отец послал Некрасова в Петербург для поступления в кадетский корпус; в Петербург, а не в Москву, потому что в Петербурге у отца был человек, который мог быть полезен успеху просьбы о принятии в корпус (Полозов). Некрасов поехал в Петербург, посланный отцом в кадетский корпус, с письмом об этом Полозову. Но он ехал с намерением поступить не в кадетский корпус, а в университет. Письмо отца к Полозову он не мог не отдать. И пошел отдать. Некрасов побоялся и начать разговор о намерении поступить в университет: что сказал бы на это Полозов? – «Мечта, друг, не выдержишь экзамена», – и что мог бы отвечать Некрасов? Он действительно был не подготовлен к экзамену для поступления в университет. Он рассудил, что должен молчать перед Полозовым об университете, пока будет в состоянии сказать, что надеется выдержать экзамен. Когда несколько подготовился к экзамену, сказал Полозову о своем намерении. Экзамен он все же не выдержал и поступил в университет вольнослушателем. А стало быть, надо было зарабатывать. Денег было настолько мало, что не каждый день мог пообедать. Со школы помню трогательный рассказ, как поэт приходил в харчевню, где всегда можно было почитать газету и где был бесплатный хлеб и соль. И вот молодой Некрасов прикрывался газетой и ел хлеб с солю. Питание было дикое и так длилось долго. Рак кишечника, от которого он умер, был не случаен. Не всегда было где жить. Некоторое время он снимал комнатку у солдата, но как-то от продолжительного голодания заболел, много задолжал солдату и, несмотря на ноябрьскую ночь, остался без крова. На улице над ним сжалился проходивший нищий и отвёл его в одну из трущоб на окраине города, где он провел некоторое время. Через год он нырнул в литературную жизнь, где долго не имел успеха. Как пишут о Некрасове литературоведы и историки, он составлял азбуки, писал сказки, детские пьески, водевили, исправлял рукописи других авторов (Григорович, например, однажды застал его за редактированием брошюры об уходе за пчелами), сочинял афишки в стихах для «кабинета восковых фигур», переводил, писал библиографические заметки, театральные рецензии, злободневные куплеты, фельетоны, пародии, повести… Кажется, нет такого журнального жанра, который бы не был испробован Некрасовым. Подводя итоги этого сизифова труда, Некрасов исчислял его в сотнях печатных листов.
Он долго чувствовал себя бедным разночинцем. Разночинцем, желающим, но не смеющим претендовать на внимание красивых светских дам. Со своей будущей многолетней любовницей Авдотьей Панаевой он познакомился в 1842 г., 21 года от роду. Панаева считалась одной из красивейших женщин петербургского света. В нее влюблялись все посетители литературного салона ее мужа, даже молодой Достоевский подпал под ее чары, а позднее в романе «Идиот», описывая фото Настасьи Филипповны, он нарисовал лицо Панаевой. Добиваться ее Некрасов начал позже, уже 26 лет, но добиваться любви этой женщины пришлось ему долго. Похоже, что разночинская робость была в нем сильна (отсюда его симпатия к разночинцам). Потом он получил ее любовь и прожил с Панаевой целых 16 лет. Они вместе даже составляли романы, которые могли бы прийтись по вкусу широкой публике. Именно о страданиях влюбленного разночинца он написал стихи «Застенчивость» (хотя Авдотью к тому моменту он покорил). Приведу начало этого длинного, но совершенно «разночинско-достоевского» по пафосу стихотворения:
Ах ты, страсть роковая, бесплодная,
Отвяжись, не тумань головы!
Осмеет нас красавица модная,
Вкруг нее увиваются львы:
Поступь гордая, голос уверенный,
Что ни скажут – их речь хороша,
А вот я-то войду как потерянный
И ударится в пятки душа!
На ногах словно гири железные,
Как свинцом налита голова,
Странно руки торчат бесполезные,
На губах замирают слова.
Улыбнусь – непроворная, жесткая,
Не в улыбку улыбка моя,
Пошутить захочу – шутка плоская:
Покраснею мучительно я!
Помещусь, молчаливо досадуя,
В дальний угол… уныло смотрю
И сижу, неподвижен как статуя,
И судьбу потихоньку корю…
(1852 или 1853)
Эта связь была главным событием в любовной жизни Некрасова. Панаева так и осталась женой Ивана Панаева, но с ними в одной квартире поселился Николай Некрасов.

Авдотья Яковлевна Панаева
Строго говоря, даже прислуга знала, кто реальный муж этой женщины, но ему почему-то было удобнее, чтобы Панаев был ширмой их отношений, точно так же, как Панаев был лишь номинальным издателем «Современника», а реальным – Некрасов. И обо все этом он довольно откровенно говорил с пришедшим в его дом молодым критиком. «Молча прошли мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там к креслам. Подошедши рядом со мною к ним, он сказал: “Садитесь”. Я сел. Он остался стоять перед креслами и сказал: “Зачем вы обратились к Панаеву, а не ко мне? Через это у вас пропало два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал мне, что вот есть молодой человек, быть может пригодный для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле редижируется журнал мною, а не им?” – “Да, я не знал”. – “Он добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь дело только со мною. – Вы, должно быть, не любите разговоров о том, что вы пишете, и вообще, о том, что относится к вам? Мне показалось, вы из тех людей, которые не любят этого”. – “Да, я такой”. – “Панаев говорил, вы беден, и говорил, вы в Петербурге уж несколько месяцев; как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позаботиться приобрести работу в «Современнике»; Вы, должно быть, не умеете устраивать свои дела?” – “Не умею”. – “Жаль, что вы пропустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною пораньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет. Последние свободные девятьсот рублей, оставшиеся у меня, я отдал две недели тому назад ***”. – Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал эти деньги. – “Он” – этот сотрудник – “мог бы подождать, он человек не бедный. Притом часть денег он взял вперед. Вы не можете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления. Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько работы, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет немного. Впрочем, до времени подписки недалеко. Тогда будете работать для «Современника», сколько будете успевать. – Пойдем ходить по комнате”. – Я встал, и мы пошли ходить по комнате» (Чернышевский, I, 714). Речь шла о том (говорил в основном Некрасов), что работа Чернышевского в «Современнике» покажет Краевскому ценность его сотрудничества. Но в дальнейшем ему придется выбирать между журналами, ибо критика – это позиция журнала.
И вправду, Краевский вскоре заметил востребованность Чернышевского в «Современнике». Чернышевский вспоминал: «Краевский стал говорить мне, что желал бы, чтоб я работал только для него: работы мне найдется достаточно и у него одного. Я отвечал ему, что мне не хотелось бы перестать работать для “Современника” и что я посоветуюсь с Некрасовым. Рассказал Некрасову о предложении Краевского и просил его совета. Он в ответ повторил мне прежние свои замечания о скудности кассы и шаткости дел “Современника”, о денежной надежности Краевского, прибавляя, что ему хотелось бы, чтоб я предпочел его Краевскому, но что советовать этого он не может; мне будет вернее держаться Краевского. Я не умел разобрать, как мне следует поступить. Было ясно, что Краевский поставит вопрос так, как предвидел Некрасов: “Если хотите оставаться моим сотрудником, откажитесь от сотрудничества у Некрасова”. При безденежье и шаткости положения “Современника” благоразумие требовало последовать совету Некрасова. Но мне не хотелось этого. Я чувствовал привязанность к Некрасову и старался убедить себя, что не будет неблагоразумно смотреть на вопрос не с той точки зрения, на которую становится Некрасов, советуя мне предпочесть Краевского ему» (Чернышевский, I, 719). И он сообщил о своем решении и Краевскому, и Некрасову. Краевский был раздосадован, но джентельменски пожелал ушедшему сотруднику удачи. А Некрасов был рад и добавил деталь, о чем Чернышевский и подозревать не мог: «Вы живете вне литературного круга и не знаете, что говорят о вас. Говорят, что вы пишете в “Современнике” против “Отечественных записок”, в “Отечественных записках” против “Современника”. Говорят, вы передаете мне редакционные тайны “Отечественных записок”, а Краевскому редакционные тайны “Современника”. Так это или нет, известно лишь мне относительно слуха, что вы предатель тайн Краевского, и ему относительно слуха, что вы предатель моих тайн ему. Ему известна правда об одной половине слуха, но о другой неизвестна. И мне тоже. Выдаете ль вы мне Краевского или нет, я знаю. Но выдаете ль вы Краевскому меня или нет, как могу я знать это? И он, почему может знать, что вы не выдаете его мне? Вы скажете, что я не опасаюсь предательства от вас. Хорошо; но я и вообще не боюсь Краевского. А он боится меня; потому несправедливо было бы требовать, чтоб он пренебрегал слухом о том, что вы предатель» (Чернышевский, I, 720).

Н.А. Некрасов. Литография П.Ф.Бореля, 1850-е годы
И добавил: «Действительно, денежное положение мое плохо, но все-таки я думаю, что иметь дело со мною лучше, нежели с Краевским» (Чернышевский, I, 721). Так оно и оказалось. Некрасов отдал в его распоряжение весь идеологический отдел журнала – критику, библиографию, обзор иностранных событий. Уезжая за границу, он поручал Чернышевскому вести журнал. Некрасов постепенно богател, его враги считали, что в своих стихах о страдальце – русском народе, о декабристках, поехавших за мужьями «в самоё Сибирь», он фальшивил, будучи человеком, обеспечившим свою жизнь. И вообще-де странно, что Чернышевский принимал его стихи, поскольку сам-то он был истинный демократ.
На это Чернышевский ответил достаточно жестко (жаль, что его ответ игнорировали в советское время).

Два кресла в редакции «Современника»: слева Некрасова, справа Чернышевского
В «Заметках о Некрасове» Чернышевский, несмотря на бесконечные легенды о его враждебности нарождавшемуся в России капитализму, нисколько не осуждает поэта за умение приобретать деньги и копить богатство. Он пишет, что в различных биографиях Некрасова «проводится мысль о противоположности успешной житейской (в данном случае коммерческой) деятельности благу народа. Точка зрения фантастическая. Мне она всегда казалась фантастической. Мне всегда было тошно читать рассуждения о “гнусности буржуазии” и обо всем тому подобном; тошно, потому что эти рассуждения, хоть и внушаемые “любовью к народу”, вредят народу, возбуждая вражду его друзей против сословия, интересы которого хотя и могут часто сталкиваться с интересами его (как сталкиваются очень часто интересы каждой группы самих простолюдинов с интересами всей остальной массы простолюдинов), но в сущности одинаковы с теми условиями национальной жизни, какие необходимы для блага народа, потому в сущности тождественны с интересами народа» (Чернышевский, I, 749; выделено мной. – В.К.).
Неприятие разночинца как мощного интеллектуального соперника
Некрасов и вправду был его точкой опоры.
Далее молодой критик оказался в центре литературных событий и интриг. Своей энергичной деятельностью он вытеснил из «Современника» крупнейшего на тот момент критика и прозаика А.В. Дружинина, автора многих статей, подражавшего роману Жорж Санд «Жак» в своем романе «Полинька Сакс», сюжетные ходы обоих романов Чернышевский позже использовал отчасти в «Что делать?». Более того, начались конфликты и с аристократическим авторами «Современника» – Тургеневым, Григоровичем, Толстым, звездами журнала. Если Белинского русские писатели-дворяне принимали, поскольку он был целиком под влиянием то Бакунина, то Герцена, то Боткина, то других дворянских интеллектуалов, хотя после смерти его просьбы о помощи семье были забыты. Легко любить мертвого, когда ничего кроме слов произносить не надо. Издевки над Чернышевским были на грани допустимого; Григорович (автор «Антона-Горемыки», певец бедняков), указывая на недворянское, семинарское происхождение, придумал дичайшее глупое прозвище, пытаясь Чернышевского унизить: «пахнущий клопами». Считавшим себя аристократами, спавшими всю жизнь на чистых постелях, это казалось смешным.
Чернышевский был сам по себе. У него, как написал Шелгунов, был «свой тон», свой взгляд на мир, незаемный. Слишком он был образован, образованнее самых образованных своих дворянских современников. Не говорю уж о немецкой философии, которую он знал, как мало кто, он вырос на классической античной и европейской литературе. Это ведь не случайно, что, скажем, цитаты из Платона и Аристотеля, Гёте и Шиллера пронизывают его тексты. Попав в российский литературный котел он естественным образом мог узнать, с какой бешеной ревностью дворянские писатели относились к литературному успеху Достоевского, вроде бы дворянина по происхождению, но абсолютного разночинца по жизни. Разночинские герои, как главные его герои, не случайны в его творчестве. Пародию на Достоевского написал Тургенев после «Бедных людей», признанных публикой шедевром, написал в 1846 г. «Послание Белинского к Достоевскому» как бы от лица Белинского (интересно, знал ли этот текст критик? Если знал, то его нравственный облик немного теряет свою всеми воспетую прямоту и порядочность), начинающееся строфой:
Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ…
…
Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой…
Достоевский позже ответил Тургеневу наотмашь, вложив этот стишок в уста негодяя нигилиста, издевающегося над князем Мышкиным, а в следующем романе, в «Бесах», изобразил Тургенева как писателя Кармазинова, приспосабливающегося к русской бесовщине. Чернышевский таких шаржей не писал. Писали на него, как сейчас увидим. Хотя пародии были. Были и удары, но касавшиеся принципов, а не личностей.
Дружинин, гвардеец, дворянин, любитель «чернокнижия», то есть фривольного разгула, ценитель изящного слова, конечно, приятель Толстого по их эротическим похождениям, был ближе дворянской когорте русских писателей. Толстой писал Некрасову из своего имения Ясная Поляна в июле 1865 г.: «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из нашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в “Современнике”, а теперь срам с этим клоповоняющим господином. Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более оттого, что говорить он не умеет и голос скверный. Все это Белинский! Он, что говорил, то говорил во всеуслышание, и говорил возмущенным тоном, потому что бывал возмущен, а этот думает, что для того, чтобы говорить хорошо, надо говорить дерзко, а для этого надо возмутиться. И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза»[118]118
Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. XVIII. М.: Художественная литература, 1984. С. 408.
[Закрыть].
Впрочем, раздражало не просто и не только происхождение, а независимость и, так сказать, «непочтительность к авторитетам» (как впоследствии он назвал одну из своих статей). Чернышевский позволял пародировать тексты, опубликованные парой лет раньше в «Современнике», чтобы был ясен интеллектуальный водораздел между эпохами. Так, в 1855 г. он написал Рецензию на «Новые повести. Рассказы для детей». Это была шуточная рецензия, где пародировалось несколько книг, в том числе «Смедовская долина» Григоровича, опубликованная в 1852 г. в «Современнике»:
«– А что ж это называется: неблагодарный? – спросил Ваничка.
– Неблагодарным называют, мой друг, того человека, которому сделали услугу, а он сам потом не хочет сделать такой же услуги своему благодетелю.
– А благодарные люди как делают? – спросила Полина.
– Они делают так: положим, я тебе доставила удовольствие; и ты мне старайся сделать удовольствие; тогда и будешь благодарна. Ты видишь, что я стараюсь вам доставить удовольствие и ты делай так же» (Чернышевский, II, 656). Конечно, пародия выполнена в стилистике пушкинских пародий, что было ясно любому образованному человеку. В Table-talk у Пушкина есть зарисовка: «Вот черта из домашней жизни моего почтенного друга. Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький Фальстаф III, однажды в его отсутствие повторял про себя: “Какой папенька хлаблий! как папеньку госудаль любит!” Мальчика подслушали и кликнули: “Кто тебе это сказывал, Володя?” – “Папенька”, – отвечал Володя»[119]119
Пушкин А.С. Table-talk // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VII. М.-Л.: АН СССР, 1951. С. 517.
[Закрыть]. Но Пушкин Пушкиным, а пародия все равно обижает пародируемого. И Григорович ответил. Сошлюсь на Л.М. Лотман: «Летом 1855 года Дружинин, Тургенев и Григорович сочинили фарс, в котором в комическом свете представили самого Тургенева, Некрасова, Панаева и Чернышевского. Вскоре Григорович, очевидно вдохновленный Дружининым, переделал этот фарс в рассказ “Школа гостеприимства”, в котором были даны пасквильные образы Чернышевского (Чернушкин), Некрасова (Бодасов) и Панаева (Таратаев). Дружинин напечатал “Школу гостеприимства” в “Библиотеке для чтения”, надеясь таким образом вызвать обострение отношений между Григоровичем и редакцией “Современника”, возможно даже разрыв писателя с этим журналом и переход его в “Библиотеку для чтения”»[120]120
Лотман Л.М. Григорович // История русской литературы. Т. 7. М.-Л., 1955. С. 614–615.
[Закрыть]. Некрасову удалось затушить скандал. Чернышевский вполне понимал журнальную политику и не возражал.
НГЧ упрекали в художественной нечувствительности, в неумении пережить и понять подлинное произведение искусства (твердят это и нынешние литературоведы), хотя все подхватили его формулу творчества Льва Толстого – «диалектика души», которая равно относится и к раннему творчеству, и к позднему творчеству Толстого: именно к художественной его методе. Его яснополянские трактаты, полные презрения и ненависти к науке и цивилизации, его преклонение перед крестьянином (крестьянскими детьми) он не принял категорически. Но об этом чуть позже.
Любопытно, однако, как личное тщеславие меняло оценку человека. О Толстом с самого начала его литературной деятельности писали много и хвалебно, но формула «диалектика души», высказанная Чернышевским в 12 номере «Современника» за 1856 г., прояснила Толстому его самого и стала отныне постоянно всеми повторявшимся определением. И сразу меняется облик Чернышевского в восприятии писателя. Он пишет в дневнике 11 января 1857 г.: «Пришел Чернышевский, умен и горяч»[121]121
Толстой Л.Н. О литературе. М.: ГИХЛ, 1955. С. 40.
[Закрыть].
Ситуация была в литературе по-своему занятная и архетипическая для русской культуры. Николаевское царствование – это попытка доказать Европе, что Россия может существовать независимо, забыв всю учебу у Западной Европы. Критики либерального толка, люди европейского склада ума, но нерешительные, приняли методу избегать нападений на хоть чуть-чуть приличные произведения. Пред Чернышевским, убежденным западником, европейцем, как справедливо писал П.Л. Лавров, встала проблема: «Необходимо было внести ясность в смутное поклонение Западу и в не менее смутное славянофильское народничество. Приходилось, во-первых, подвергнуть пересмотру под грозным наблюдением цензуры все фетиши Запада, даже рискуя слишком грубо затронуть некоторую долю живых элементов, охватываемых этими фетишами (курсив мой. – В.К.). Приходилось, во-вторых, отыскать центральный пункт нового миросозерцания, который установил бы прочную и здоровую почву теоретической и практической критики идей, людей и событий, причем этот центральный пункт миросозерцания должен был быть доступен для большинства читателей, очень мало привычных к философскому мышлению. Приходилось, наконец, ввиду умственной и политической неподготовленности общества поставить выше всего остального требование ясности и простоты в построении миросозерцания и в приложении его к вопросам дня, даже на счет точного анализа сложных вопросов»[122]122
Лавров П.Л. Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской мысли //Лавров П.Л. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 662–663.
[Закрыть].
Поэтому первая его статья, после перехода в «Современник», которая произвела сильное впечатление на публику, называлась «Об искренности в критике». Критик Семен Дудышкин (в журнале «Отечественные записки», 1854, № 6, откуда Чернышевский ушел к Некрасову) обвинял НГЧ в резкости, прямолинейности оценок. Чуть позже он попытается ударить и по диссертации, но достаточно бессильно. Кстати, Дудышкин – критик известный, но вместе с тем предмет насмешек своих собратьев по цеху, необидных, но говорящих о его легкомыслии. Достоевский приводит строчки в «Петербургских мечтаниях в стихах и прозе»:
Есть наслаждение и в дикости лесов,
В статьях Дудышкина есть чары…
Критика Дудышкина и послужила поводом для этой статьи. Чернышевский писал в своей статье «Об искренности в критике»: «Критика вообще должна, сколько возможно, избегать всяких недомолвок, оговорок, тонких и темных намеков и всех тому подобных околичностей, только мешающих прямоте и ясности дела. Русская критика не должна быть похожа на щепетильную, тонкую, уклончивую и пустую критику французских фельетонов; эта уклончивость и мелочность не во вкусе русской публики, нейдет к живым и ясным убеждениям, которых требует совершенно справедливо от критики наша публика. Следствия уклончивых и позолоченных фраз всегда были и будут у нас одинаковы: сначала эти фразы вводят в заблуждение читателей, иногда относительно достоинства произведений, всегда относительно мнений журнала о литературных произведениях; потом публика теряет доверие к мнениям журнала; и потому все наши журналы, желавшие, чтобы их критика имела влияние и пользовалась доверием, отличались прямотою, неуклончивостью, неуступчивостью (в хорошем смысле) своей критики, называвшей все вещи – сколько то было возможно – прямыми их именами, как бы жестки ни были имена» (Чернышевский, II, 254–255). Он писал, что причина бессилия современной критики – то, что она стала слишком уступчива, неразборчива, малотребовательна, удовлетворяется такими произведениями, которые решительно жалки, восхищается такими произведениями, которые едва сносны. Она стоит в уровень с теми произведениями, которыми удовлетворяется; как же вы хотите, чтобы она имела живое значение для публики? Она ниже публики; такою критикою могут быть довольны писатели, плохие произведения которых она восхваляет; публика остается ею столько же довольна, сколько теми стихами, драмами и романами, которые рекомендуются вниманию читателей в ее нежных разборах.
Критика не может быть ниже публики, иначе она не нужна публике.
Но нужно было, как говорил Лавров, «обнаружить “обманчивость” множества “иллюзий”, которые смешивались в умах русской интеллигенции с здравыми умственными и нравственными требованиями»[123]123
Лавров П.Л. Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской мысли //Лавров П.Л. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 664–665.
[Закрыть].
Собственно, это и было задачей его диссертации, которую в советское время считали применением идей фейербаховской философии к эстетике. Но речь тут шла не просто об эстетике, а о необходимом смысле русской литературы. Если бы это был вариант Фейербаха, вряд ли было бы столько нападок на этот текст. Слишком за живое задел.
Именно этого не видят. Простой пример. Узнав, что я пишу книгу о Чернышевском, мой приятель мне написал: «Герцен и Белинский прошли через Гёте и Шиллера, через их ощущение красоты мира, здоровья и бытия, а петрашевцы и Чернышевский не прошли. Вот почему Тургенев (кстати, ЗА ГОД ДО “Что делать?”) посвящает “Отцы и дети” светлой памяти Виссариона Григорьевича Белинского» (приятель-литературовед. Письмо автору от 12.05.2015, 17:17)[124]124
Литературовед, чтобы показать неполноценность НГЧ, цитирует Лотмана как Евангелие: «Та великая русская культура, которая стала национальной культурой и дала Фонвизина и Державина, Радищева и Новикова, Пушкина и декабристов, Лермонтова и Чаадаева и которая составила базу для Гоголя, Герцена, славянофилов, Толстого и Тютчева, была дворянской культурой» (там же). Но куда мы денем критика Аполлона Григорьева, драматурга Островского, писателей Гончарова, Помяловского, Чехова?.. Не говоря уж о том, что Пушкин именовал себя «мещанином», а остальные, как правило, происходили из семей среднего достатка.
[Закрыть].
Но любопытно, и это под занавес главы, что именно семинаристы, а до этого Киево-Могилянская академия, которая была образована в 1632 г. по инициативе Киевского митрополита Петра Могилы, создавали основу светской культуры. Как пишут историки, преподаватели академии были монахи. В академии проводились публичные диспуты, ставились спектакли религиозного и нравственного содержания. Среди преподавателей академии были Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Епифаний Славинецкий, Стефан Яворский. Добавлю еще, что Феофан Прокопович и Стефан Яворский – сподвижники Петра Великого. Воспитанниками академии были писатели, просветители и церковные деятели: Н. Бантыш-Каменский, Г. Сковорода, гетман Украины И. Самойлович. Отсюда пошли русские семинарии и духовные академии. И уровень преподавания в них вполне был сопоставим со светским, а в чем-то (в философии) очевидно выше.
И переходя к XIX веку, и к Чернышевскому, про которого помнят только, что он читал Фейербаха, стоит сказать, что знание Канта и Гегеля было нормой для продвинутых семинаристов. А ссылками на Канта и Гегеля пестрят работы Чернышевского. Почему? Сошлюсь на одного из крупнейших знатоков проблемы: «Когда Станкевич начинал изучать Канта, он мечтал о семинаристе. “Какое мучительное положение! Читаешь, перечитываешь, ломаешь голову, – нет, нейдет! Бросишь, идешь гулять, голове тяжело, мучит и оскорбленное самолюбие, видишь, что все твои мечты, все жаркие обеты должны погибнуть.
Я начал искать какого-нибудь профессора семинарии, какого-нибудь священника, который бы помог, объяснил мне непонятное в Канте. Тем более что это непонятно не по глубине своей, а просто от незнания некоторых психологических фактов, давно признанных и знакомых, может быть, всякому порядочному семинаристу, – а мы, люди, воспламененные идеями, путаемся и падаем на каждом шагу от того, что не мучились в школах” (письмо к М. Бакунину от 7 ноября 1835 года).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?