Текст книги "Мариупольская комедия"
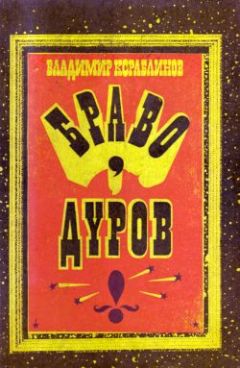
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Весь же цирк ее был всего-навсего две лошади – Магнус и Лота, не бог весть что, а капитал бесценный содержался в ее таланте, в ее темпераменте. Клоунесса Акулина Дурова – о, это надо было видеть! В русской рубашечке, в лапотках, с балалайкой, забавно вскрикивала: «Эй, юхнем!» – и публика ржала, публику потешали ее отчаянные сальто-мортале и расшитая рубаха, а главное – нелепое соединение русского платья с явно немецким произношением.
Она была лютеранка, какое ж венчанье. И дети мои считались незаконнорожденными; и хотя крещены были по-православному и в метрике значилось, что отец их – русский дворянин Дуров, паспорта, тем не менее, по дурацким законам Российской империи выправлялись им на материнскую фамилию – Штадлер. И все шло у меня вразрез с общепринятым и благопристойным. «Не как у людей», – резюмировал бы дяденька наш Николай Захарыч.
«Как у людей»… Скаж-ж-жите по-ж-жалуйста!
А дяденька-то помер между прочим. Вдребезги проигравшись, вернулся из клуба на рассвете, написал записку: «Нет, не отыграться!», лег на диван, как был, во фраке, в белом-жилете, и выстрелил себе в рот.
Ах, дяденька, дяденька! Царство тебе небесное…
Однако не будем отвлекаться, и пока еще более или менее дышится, и мысль ясна, закончим этот наш полуночный разговор. А раз уж накатил на меня такой покаянный стих (это знаешь ли, говорят, бывает перед смертью), то как же не вспомнить случай с полетом через манеж – из сундука в сундук. И мою подлейшую по отношению к тебе роль в этом номере, – вот что главное.
Ты уже работал тогда у Безано. Но что это была за работа! Не то униформист, не то помощник дрессировщика, пустяковые акробатические трюки – вздор, мелочь, ерундистика. А у меня идея блеснула сногсшибательная, да требовался партнер, и я предложил тебе участвовать в номере. Ты с радостью согласился – да, да, именно с радостью.
Ты думал, конечно, что я руку тебе протягиваю, ну, как брату, что ли… Естественно: у меня имя кое-какое, а ты – пока нуль круглейший. Братья Дуровы – это ведь уже, что ни говори, – марка! Это звучит.
В трактире, помнится, встретились, где-то в Зарядье. Низкие грязноватые своды, застиранные скатерти, фикусы, канарейка и прочее такое, словно из Достоевского. Бутылка сладкой сливянки, чай с крендельками.
Рассказал я тебе свою идею – ты так и взвился: «Толечка! Толечка!» Доверчивый, ласковый, на шею кинулся:
– Потрясающе! Нет, ты понимаешь? Потря-са-ю-ще! И ведь подумать, как гениально просто!
Чего уж проще.
Номер строился на внешнем сходстве братьев. Породистые, классически правильные очертания лиц, прически, цвет волос, франтовские усы и прямо-таки античная стройность фигур. Два совершенно одинаковых человека.
Разница в том лишь заключалась, что Анатолий был на глазах у публики, он раскланивался, весело сыпал каламбурами, и публика, уже успевшая полюбить молодого клоуна, шумно приветствовала его: «Браво, Дуров!» А старший брат, скорчась, скрывался, запертый в одном из двух окованных железом сундуков, установленных в противоположных концах средних ярусов цирка. Его водворили туда чуть ли не за час до начала представления; в темной духоте и затхлости терпеливо сидел с пистолетом в руке, боясь пошевелиться, чтобы не выдать свое присутствие. Он слышал крики и смех, мысленно представляя себе, что происходит в цирке.
Там начиналось…
Там начинался великолепный номер, который потрясет зрителей своей фантастичностью.
Невероятный, немыслимый, молниеносный перелет человека через всю арену – из одного сундука в другой.
Первый номер братьев Дуровых!
Там начиналась новая, блестящая страница в биографии Дурова-старшего. Пора, пора ему наконец расстаться с мелкими, незначительными ролями, какими до сих пор пробавлялся у Винклера, у Безано…
Он прислушивался, чтобы не опоздать, чтобы вовремя появиться из темного, тесного своего убежища. Рука напряглась, запотела, сжимая рукоятку пистолета.
Немного, правда, странно и даже обидно, что на афишах, извещающих о полете, он, Владимир, вовсе не упомянут. Впрочем, как же иначе, ведь тогда все стало бы ясно, тогда бы не было загадки…
Стоп! Началось! Шпрехшталмейстер торжественно, зычно провозгласил:
– Молниеносный! Перелет! Через арену! Известного! Клоуна! Анатолия! Дурова!!
От волнения чуть не нажал на курок. «Ох, этого, черт возьми, еще не хватало! Спокойно, спокойно…»
– Уважаемая публика! – слышится звучный голос Анатолия. – Дамы и господа! Мой перелет через цирк будет настолько быстр, что уловить его нельзя даже вооруженным глазом. Любые оптические средства тут бессильны. И тем не менее…
Публика замирает. В тишине слышно, как похрустывают опилки под ногами Анатолия.
– …и тем не менее предлагаю вам внимательно следить за чистотой выполнения этого фокуса! Итак…
Голос удаляется, удаляется. Затем – стук каблуков по ступенькам прохода наверх, в средние ярусы. Затем…
– Прощайте! – Голос Анатолия, выстрел, гулко бухает тяжелая крышка сундука. Все эти звуки сливаются, оглушают, как взрыв.
– Здравствуйте! – весело кричит Владимир, появляясь из темноты своего каземата. – И прощайте!
Господи, хоть бы не осечка… Но, слава богу, разом хлопают выстрел и упавшая крышка, и —
– Здравствуйте! – хохочет брат, приподнимая крышку противоположного сундука.
– Прощайте!
– Здравствуйте!
– Прощайте!
Публика ошеломлена. Грохот аплодисментов. Рев. Гогот.
– Бра-а-во, Дуров!
– Бра-а-а-во!!
И младший бессчетно выбегает на к о м п л и м е н т, триумф молодого клоуна оглушителен, как горный обвал. Все последующие номера проходят под непрерывные рукоплескания.
А старшему приходится отсиживаться в душном сундуке до самого конца представления. Но это, в сущности, пустяки. Работа. Оборотная сторона яркой, блистательной жизни артиста, тут уж ничего не поделаешь.
Зато впереди…
Номер с молниеносным перелетом еще несколько представлений удивлял публику. Зрители собирались кучками, горячо спорили, гадали, стараясь понять, как это делается. Сам генерал-губернатор Москвы светлейший князь В. А. Долгоруков вызвал Анатолия, допытывался – в чем хитрость.
– Да никакой, вашество, хитрости, все очень просто: мы с братом похожи, как двойники, ну вот…
– Ка-ак? – нахмурился князь. – Только и всего?
– Только и всего, вашество.
Князь обиделся: что же это, помилуйте, два часа ломал голову, пытаясь постичь ловкую махинацию… и вдруг – брат!
– Я разочарован, – признался князь. – Такая была таинственность… Фу, как пошло! Брат…
А старший продолжал терпеливо сидеть в тесном сундуке, вовремя стреляя, вовремя вскрикивая «Здравствуйте!» и вовремя исчезая. Успех был необыкновенный, такого и старые циркисты не помнили. Однако в афишах по-прежнему красовалось одно только имя – младшего.
Наконец не выдержал, обиженно и простодушно, недоумевающе спросил – почему?
– То есть как – почему? – удивился Анатолий. – Номер-то мой. Разве нет?
– Да, но… никакого номера и не было бы, если б я…
– Ты что? – прищурился Анатолий. – Не желаешь со мной работать? Ну, что ж, не смею задерживать. Прощай.
Он уже новое готовил: комическую оперу о нежной любви свиньи Палашки к рыжему козлу. Хор из пяти кошек, балет поросят и прочее. Полеты надоели.
Владимир понял, что и тут младший его обошел. Они расстались более чем холодно.
– Ну ты и фрукт, – сказал на прощанье Владимир. – Обманул ведь, скотина…
Младший пожал плечами:
– За десять дней заработал у меня без малого полтораста целковых, и я же – скотина!
Дело, конечно, было не в деньгах. Тут другое. «Вот отсюда-то, – подумал Анатолий Леонидович, – отсюда и началась настоящая вражда. А может быть…»
Он не успел додумать: свеча затрещала, ярко вспыхнула и погасла. И сразу – мрак, чернота… ах, нет! Если б такая, что хоть глаз коли, а то как давеча – полусвет, полутьма. Шевеление теней.
И снова – рыбкой морским коньком наплывает, наплывает….
– Да! Да! – себя не помня, закричал Анатолий Леонидович. – Обманул! Ну и что? Не знаешь, что ли, как у нас: топи, не то тебя утопят! Ты всю жизнь только тем и занимался, что меня топил…
– Я?! – прошелестел морской конек, как-то вдруг расплываясь, принимая другие, знакомые очертания. – Я? А сам-то!
– Ну и я! Друг дружку топили… всю жизнь! Всю жизнь!. Недаром же Дорошевич хлестнул в фельетоне про нас: два брата, и оба – Каины… И к черту! К черту! Я ведь действительно, умираю, Володька! Мой номер окончен, и я ухожу… По своей воле, заметь! Представляю, с каким наслаждением будешь ты затаптывать память обо мне… Давай, давай, дурачок! А я, как всю твою жизнь был Первым, так и останусь им навеки, и никогда тебе меня не затоптать, не уничто… Куда? Куда лезешь, ч-черт?!
Кошачья страшная маска – низко, над самой подушкой. Усы распушились. Зеленоватый глазок на приличнейшей, на интеллигентнейшей физиономии мигает семафорным огоньком… Приблизясь, нежно, ласково мяукнул на ухо, как бы с намеком на некий секретец:
– Папочке… кланяйся там…
– Еленочка! – в испуге заслонясь рукой, вскрикнул Анатолий Леонидович. – Еленка! Черт! Сатана!
Коридорный снова повис в полумраке, покачиваясь, почесываясь, позевывая. Спросил:
– Чего шумите, господин?
Затем церковный колокол бухнул. Пролетка задребезжала под окном. Наступало пасмурное утро.
2
Толстобрюхий армянин холодными табачными пальцами щупал живот, ребра, спину. Щекоча бородой, волосатым ухом приникал к груди, больно тыкал черной трубочкой.
– Дыши́тэ… Нэ дыши́тэ… Так-с. Так-с.
Как в глупом, несмешном анекдоте, говорил: вай-вай-вай, панымаешь, душа лубэзный. Сопел и цыкал языком. Смешно как-то, склонив голову набочок, поглядел с хитрецой.
– Зачем так сложно, джан? – подмигнул, как заговорщик. – Самому нэ хорошо, да? Супруге нэ хорошо. Пачиму нэ так? – Приставил к виску указательный палец. – Пуфф! Ма-мын-таль-на… Такой артыст! Та-а-акой артыст – и такой глюпость!
Дуров улыбнулся: ну-у… умник!
«Ма-мын-таль-на».
Нет уж, извините, господа, такая скоропалительность совершенно ни к чему. Подобный эффектный трюк – что он означал бы, как не капитуляцию. Перед этой сволочью Максимюком, перед зажравшейся публикой. Перед братцем Володенькой, наконец.
Доктор скучно бубнил Еленочке: «Тыри раза в дэнь по столовой ложке… вай-вай, пачиму нэ принимает? Будьте лубэзны, мадам…»
Да, так вот: если б обыкновенное самоубийство…
Устало закрыв глаза, живо представил себе серые полосы газет, черные рамочки вокруг своего имени: А. А. ДУРОВ. Словесный мусор обязательных лживо-горестных некрологов: драма известного клоуна… творческий тупик… трагический конец короля смеха…
И прочее в этом роде.
Нет, ма-мын-таль-на не годится. А вот так? Так он еще скажет скотине Максимюку, что сей последний собой представляет: кровосос, тварь, ничтожество, амеба. Сие словцо, возможно, его даже озадачит, на амебу-то он именно и обидится: «Ай-яй-яй, дворянин, образованный человек – и такая непотребность… Не ожидал-с!»
Ну, хорошо, это он Максимюку скажет. А публике? Так и так, мол, уважаемые господа, неудержим стремительный бег времени, двадцатый век, аэропланы, беспроволочный телеграф, перелет через Ламанш, скорости фантастические. И горе тому артисту, который… который…
Который – что?
Удивительно последние дни сделалось: недодуманная мысль внезапно исчезала, обрывалась, вспугнутая случайным звуком, или новой, нежданно сверкнувшей мыслью, или даже без всякой видимой причины. Как язычок свечи, погашенной порывом ветра.
Сейчас, впрочем, причина была: толстый лекарь оглушительно, трубно высморкался. Он, видимо, уходил, тучным брюхом загораживая полкомнаты, прощался с Еленой, жуком жужжал у дверей: будьте любезны, мадам… И сулился вечером зайти о б ь я з а т э л н о.
Затем его тяжелые шаги в коридоре, ужасный скрип башмаков. Затем – грохот разбитой посуды где-то далеко. Затем – то, другое, третье. И лишь когда стала прочная тишина, Анатолий Леонидович вспомнил свою незавершенную мысль: горе тому артисту, который… нет, вернее, у которого не хватит сил и легкости угнаться за быстротекущей жизнью, уверенно принять ее скорость. Жить в ее стремительном и шумном потоке, не отставая.
А вот он – отстал.
Однажды, лет шесть назад, впервые ощутил в себе что-то похожее на душевную глухоту: веселая и грозная разноголосица бурной житейской кипени вдруг зазвучала притушенно, как бы издалека. Войной гремели Балканы, землетрясением уничтожалась далекая Мессина, хриплый гудок на Путиловском тревожно ревел, звал бастовать… Святой старец в синих плисовых шароварах, в шелковой канареечной рубахе правил Россией, смещал и назначал министров… А он, король смеха, продолжал показывать уже всем знакомого Пал Палыча, старого гусака, гусиный юбилей, интендантских крыс, собачку-математика. Когда началась война, откликнулся, конечно, как же: декламировал плоские куплетцы, высмеивал немцев – «ах вы, чушки, чушки, чушки»… Публика встречала и провожала вежливыми хлопками, никто не смеялся, было скучно.
Странные провалы в памяти вдруг стали случаться, забывал текст самим же сочиненной репризы; с ужасом сознавая, что проваливает номер, пытался исправить дело импровизацией, экспромтом, но получалось жалко, неинтересно, слабо.
И не смешно, вот в чем главное.
Не смешно.
Он растерялся: господи, что же это? Как произошло, что он, всегда такой чуткий ко всему происходящему в общественной жизни, вдруг утратил эту чувствительность? И не сразу понял причину своей художнической глухоты, не понял, что в искусстве своем безнадежно отстал от времени; что шумная, деятельная жизнь ушла далеко вперед, что то, что он по привычке нынче делает, уже никому не интересно, не нужно, возбуждает недоумение и скуку.
Тогда он отчаянно кинулся искать новое.
Этим новым оказалась знаменитая «Лекция о смехе». Затем – сатирические монологи «при участии всех зверей». Стал называть себя диковинно и немного смешно – монологистом. Выступая в провинциальных театрах каким-то, сбоку припека, приложением к спектаклю:
Сегодня, в среду, 16 ноября
ПРЕДСТАВЛЕНО
будет
В Е Ч Н А Я Л Ю Б О В Ь
драма в 3-х действиях!!
– О —
монологист
АНАТОЛИЙ ДУРОВ
б у д е т г о в о р и т ь!
+ собачий концерт +
масса новостей!
Кое-что было найдено, удалось. Злоба дня, грубоватая насмешка по адресу думских говорунов, финансовых разбойников, дельцов, наживающихся на войне. Звонкая рифма, а иной раз и соленое словцо. Несколько раздражало, что выступление давалось как довесок к спектаклю и этим принижались сделавшиеся привычными титулы – Первый, Единственный и прочее. Но главное – ему не хватало зрительского пространства, – оно все лежало перед ним в горизонтальной плоскости, двадцать-тридцать рядов стульев, однообразная россыпь манишек, лысин, декольте, дамских шляпок. А нужны были крутые круглые ярусы, уходящие, возносящиеся в вышину, в верхотурье, где бушевало неистовство, – рев, гогот, крики: «Браво, Дуров! Так их, сволочей!» Эти, в театрах, тоже аплодировали… но какое же сравнение с цирком! Нет, нет, театральная публика не умела по-настоящему выражать восторги.
Его тянуло на манеж, где тысячи зрителей, где снизу доверху полно людей, и не только перед глазами, но и за спиной, кругом, и каждый кровным своим делом считает незамедлительно и от всего сердца отозваться на каждое слово, произнесенное артистом.
Цирк! Цирк! Жизни без него не мыслил.
Но все реже и реже, все неохотнее господа директоры больших заведений приглашали его, и уже не было речи о тех чудовищных гонорарах, о каких ходили легенды, о тех былях и небылицах, какими оглушала обывателей газетная трескотня языкастых фельетонистов.
Прежде он был переборчив, капризен; далеко не всякому удавалось заручиться его согласием на гастроль; он выбирал самые большие города, самые знаменитые цирки. Нынче же оказывалось не до капризов, ехал, куда позовут, напрашивался даже. В канун нового, тысяча девятьсот четырнадцатого года в «Вестнике театра» появилось объявление: «Анатолий Дуров поздравляет господ директоров и артистов с Новым годом! Сейчас – Петербург, цирк Чинизелли». Десяток лет назад едва ли бы он стал давать подобные объявления, кланяться, поздравлять господ директоров…
Провинциальные шапито, дощатые ярмарочные балаганы, сомнительные предприниматели теперь смело звали его, и он не отказывался. Именно таким-то образом в конце тысяча девятьсот пятнадцатого он очутился в ничтожном, гнилом Мариуполе, где скареда и скотина антрепренер Максимюк обкрадывал артистов, платил им гроши и держал балаган в такой ветхости, что в дождь лило с крыши, по манежу гуляли пронзительные сквозняки, и артисты, вечно простуженные, кашляли и чихали.
Нет, что за легкость на помине, просто удивительно!
Этот мазурик, эта тварь появилась в номере так неожиданно и, можно сказать, даже, пожалуй, неприлично, как клоп среди бела дня при гостях – на обоях с веселенькими цветочками.
Господин Максимюк любил появляться подобным образом, вдруг, ни оттуда ни отсюда. Такая его способность всегда неприятно удивляла и несколько озадачивала: откуда, будь ты неладен, взялся? О том судили по-разному; бесшумную, крадущуюся походку, мягкие башмаки иные объясняли пристрастием антрепренера к эффекту; мадемуазель же Элиза, кассирша, та отзывалась проще: прежде чем войти, Максимюк минуты две-три подслушивал под дверью, тихонечко затаясь. Наверно, так оно и было.
В девятом номере, где лежал смертельно больной Дуров, стояла тишина, подслушать ничего не удалось.
– Нуте-с, – развязно сказал Максимюк, вваливаясь в комнату, – нуте-с, дражайший Анатолий Леонидович? Последнее слово ваше позвольте узнать?
Дуров отвернулся молча.
Не раздеваясь, только расстегнув верхний крючок шубы, мазурик не спеша, по-хозяйски, уселся на стул.
– До чего себя довели, – как бы сочувственно продолжал разглагольствовать, закуривая ядовитую папиросочку «Ойра». – И как понять? Ведь что поговаривают-то, знаете?
Засмеялся, захрюкал, забулькал. Сделалось до смешного похоже, что у него базарная свистулька в жирном горле.
– …что поговаривают? Будто бы – самоубийство! Довел, т-скать, Максимюк великого артиста… а? Как вам это, милейший, нравится?
Дуров не отвечал. Как-то странно, ему самому на удивленье, получалось так, что вот только что кипел справедливым гневом, жесткие бранные слова клокотали, рвались наружу – мразь, амеба, сукин сын и прочие, и даже похуже, – а вот перед ним Максимюк, то есть эта самая тварь, этот мазурик, а охота браниться, представьте себе, вдруг пропала, наступило безразличие, скука…
И он молчал.
– Тсс-с… – прошелестела Елена. – Он, кажется, немношка засыпайт… Не нада его, ну как это… ауфреген, волнить!
– Нет, позвольте, позвольте, – забулькал Максимюк. – Как же – не надо? Тут ведь скандалом, знаете ли, пахнет, а? Самоубийство! Эка, выдумки… Чернить мое доброе имя, пардон, не позволю! У меня все по закону-с, черт возьми, все – в соответствии…
«Струсил, подлец, – подумал Дуров, – поджал хвост…» И не то кашлянул, не то усмехнулся этак коротенько: кхе-хе!
– Ну вот, ну вот, – встрепенулся мазурик. – Ну вот вы, дражайший, сами понимаете, с моей-то стороны все ведь в рамках, т-скть, согласно контракту-с, неустойка и так далее… Я, знаете ли, не Ротшильд, чтоб тыщами бросаться… Я ведь зачем пришел? Ну-с, вы погорячились, это бывает, я вас не осуждаю и, т-скть, не в претензии, но что же получается? Один артист не пожелает выступать, закапризничает, другой и так далее… Что-с? Нет, вы, уважаемый, и в мое положение войдите! Этак – крах неминучий… да-с, вот именно – крах! Ведь ежели на то пошло, вы ж сами себе болезнь сочинили, а в публике – скандал, публика денежки назад требует… Убытки же колоссальные! Я ж вас предупреждал намедни, что так дело не оставлю, что раз уж вы так…
– Пошел вон… тварь! – прохрипел Дуров.
Максимюк удалился из номера, пятясь задом.
И снова Еленочка упрашивала проглотить микстуру, и снова зеленоватая жидкость расплескивалась с ложки на одеяло. Однако лекарство все же было принято, больной успокоился, задремал.
Как-то незаметно тут день зимний вдруг потускнел; мокрый снег сменился настырным дождем, и ледяной ветер-норд, на который, по унылым словам коридорного, «топки не наготовишься», бешено ударил в слезливые стекла немытых окон распроклятой гостиницы.
Вечер потянулся скучный, с чуть тлеющей одиноко, сиротливо под черным нависшим потолком двадцатисвечовой лампочкой. Он дремал и сквозь дремоту слышал смутно, как Елена Робертовна уходила куда-то, затем возвращалась, шуршала бумагой, звякала ложечкой и снова уходила. На какое-то время наступала тишина, и он думал (наяву или во сне, бог весть), думал, думал. Мысли одна другую сменяли беспорядочно и даже почему-то с некоторым оттенком тревоги. Вот умрет, а что станется с Еленочкой? Она так житейски беспомощна, так беззащитна… Вот не будет его, а как же воронежский дом? Анатошка?
Вот уж кто подлинно взялся повторить отцовскую дорогу! Как ни старался оградить мальчишку от ярких огней манежа – ан нет, не тут-то было, не усмотрел. И вот перед самой войной Анатошка сорвался и, как некогда он сам, Первый и Единственный, безрассудно, восторженно ринулся в полный очарования, блистающий, фантастический мир, где как-то вдруг, как бы из ничего, как бы из одних лишь таинственных заклинаний нового Калиостро – Касфикиса, под звуки волшебного выходного марша, возник перед публикой, именуясь сперва клоуном-соло Толли, а вскоре затем – Анатолием Дуровым-младшим… Это произошло так неожиданно, так вот именно в д р у г, что Анатолий Леонидович опешил.
Он в это время гастролировал по странам Дальнего Востока. Китай, Япония, Корея. Серебристо-белая островерхая шапка Фудзиямы. Быстроногие рикши с игрушечными колясочками, ловко скользящие в кипени пестрой толпы, носильщики в круглых шляпах-зонтиках с чашками-коромыслами, похожими на весы… Кружевной пенистый гребень прибойной волны, изящнейше, точнейше, тончайше, до мельчайших брызг некогда повторенный в гравюре великого Хокусаи… Все это было невероятно, до простодушного удивления, знакомо еще с детства – по старым почтовым открыткам, по учебникам географии, по чайным сервизам и нарядным коробочкам, где на черном лаке ярко и радостно существовали тонко нарисованные рикши, пагоды, носильщики, Фудзи… Чудеса эти сейчас обступали уже как настоящее, реально живущее вокруг, но какое-то ощущение сказочного сна, яркой переводной картинки присутствовало неизбывно, во все дни путешествия не покидая ни на миг.
Ах, как огорчался впоследствии, что ничего из этой пестрой азиятской коловерти не записал, не запечатлел в рисунке! И хотя за время гастрольных скитаний по диковинным землям приобрел великое множество удивительных вещей (причудливой росписи веера, прелестные, как яркие цветы, кимоно, тростниковые циновки, тонко расписанные цветущими деревьями и птицами), и по приезде в Воронеж в доме на Мало-Садовой был открыт для обозрения большой «Азиятский» павильон, – нет, все равно, чувство вещественности этих удивительных предметов отсутствовало напрочь, и все увиденное в дальних странах по-прежнему окутывала призрачная дымка фантастики, мечты, сновиденья.
И лишь калоши!
Прозаические старые калоши…
В Токио, уезжая, спеша к поезду, оставил их в отеле. Эту ветошь давно пора было выбросить, купить новые, но как-то все забывалось: в сухую погоду о такой чепухе не думалось вовсе, а наступало ненастье – и снова приходилось шлепать в старых. Эти стоптанные уродины он прямо-таки ненавидел. Поэтому, покидая фешенебельный номер столичной гостиницы, с каким-то даже мстительным наслаждением затолкал их в шкафчик под вешалкой – подальше, поглубже.
Засим была столь любезная его сердцу дорога, новые ландшафты, новые невиданные чудеса, шумный успех, бесконечные интервью, назойливые репортеры, фотографы. И вот в Нагасаки, кажется, в отель к Анатолию Леонидовичу является изысканно-вежливый полицейский чин и с глубокими поклонами и расшаркиваньями, и даже смешно руку к сердцу прижимая, вручает ему аккуратно алой ленточкой перевязанный сверток…
…в котором… оказались… старые калоши!
Он с отвращением швырнул их за шкаф и уехал в Иокогаму, где через какое-то самое непродолжительное время к нему пришел двойник нагасакского чина и… с поклонами… прижимая руку к сердцу…
В Кобе был шторм, похожие на сказочных драконов волны с грохотом обрушивались на скользкие камни мола. Изящнейший, на этот раз перевязанный голубой ленточкой сверток полетел в отверстую пасть разгневанного дракона.
И когда, спустя время, уже дома, рассказывая друзьям о своих впечатлениях от длительного путешествия – о красоте божественной Фудзи, о таинственном полумраке буддийских храмов, о запекшейся розовой пене на страдальческих губах старого рикши и удивительной, какой-то игрушечной прелести крохотных женщин, – признавался, что все это мелькнуло стремительно, легковейно, словно картинки из альбома, и лишь калоши…
Тут он смущенно смеялся:
– Бывает же этакая несуразица! – и резко переводил разговор на другое.
Да, так вот – Анатошка.
Нежданно-негаданно нагромождались сложности. Путаница какая-то выходила, черт знает откуда, из ничего вдруг взявшаяся чепуха.
Сын бредил цирком, искусство клоуна, бесспорно, было его призванием, но отец сказал «нет!» – и что же оставалось Анатолию-младшему, как не повторить историю собственного отца?
Однако если старшему дорога на манеж в свое время стоила упорных трудов и бесчисленных лишений (одни только Вальштоковы балаганы вспомнить!) и еще годы и годы пришлось одолевать труднейшие испытания, прежде чем найти свое лицо и добиться хоть какого-то признания, то младшему все досталось враз: первое (образ) вылепилось само по себе, без труда (он на манеже копировал отца), второе, то есть признание, имя – наилегчайше вытекало из первого: знаменитая фамилия с добавлением «младший» действовала безотказно.
«Ну, нет! – всему миру известная улыбка сверкнула в великолепных усах Первого и Единственного. – Это что же, господа, получается? Еще один Дуров?! К чертям! К чертям-с!»
Но легко сгоряча послать к чертям, а дальше что?
Разослал господам директорам крупнейших цирков уведомительные письма, в которых заявлял категорически, что в среде артистов он, Анатолий Дуров, – единственный и что все другие, называющие себя его именем, суть наглые аферисты и самозванцы, каковых следует решительно разоблачать, прибегая помимо собственных энергических мер также и к содействию полиции.
Насчет полиции сорвалось в гневе, и, разослав письма, он спохватился: вечно ненавистных фараонов привлекал себе как бы в союзники. И получался не то что скверный анекдот, нет, получалось какое-то даже непотребство, по сути дела унижающее его как знаменитого артиста…
Как русского, дворянина, наконец!
Но тут вскоре и совершенно неожиданно история с воображаемым самозванцем обернулась чистейшим фарсом: в двух городах были задержаны какие-то проходимцы, именовавшие себя Д у р о в ы м – м л а д ш и м! Первый и Единственный оскорбился: ка-ак?! Оказывалось, незадачливые балаганные жулики «работали» не под него, а под Анатошку! Сей же последний был неуязвим совершенно, ибо звонкое имя свое носил на основании церковного метрического свидетельства о крещении, и никакая полиция при всем желании не могла подкопаться и уличить его в самозванстве.
Вот ведь как!
И уж если бы еще, юнец, мозгляк, недоучившийся счетоводишка, претерпевал какие-то тяготы и провалы (что, разумеется, не диво на первых шагах молодых циркистов), так Анатолий Леонидович, может быть, в таком случае даже отцовское сочувствие проявил бы к сыну и, простив его своеволие, пожалел бы и крепкой рукой поддержал бы несчастного, но нет.
Анатолий Дуров-младший ни в сочувствии, ни в поддержке не нуждался.
Легко, весело, не шел – на крыльях успеха летел по манежам России, и не каких-нибудь, заметьте, грязных, дырявых балаганов, как некогда отец, нет, что за вздор! – солиднейшие заведения с удовольствием заключали с ним контракты, и публика, капризная, ветреная властительница судеб наших, публика эта восторженно встречала его появление обвальным грохотом рукоплесканий и криками:
– Браво!
– Давай, Младший!
– Да-а-ва-а-ай!!
Глагол времен…
Часы в коридоре медленно, басовито отсчитали семь.
Ему надоело вспоминать и думать. Ему все надоело, он ничего не хотел. Был рад тому, что трудные хрипы утихли, и, опасаясь потревожить болезнь, продолжал лежать на боку, поворотясь к стене. Из-под приспущенных век разглядывал осточертевшие грязноватые обои. Мысленно рисовал на них то, другое. Нелепую фигуру коридорного, его глупую рожу особенно любил угадывать в бесформенных пятнах каких-то темных потеков и в выцветших обойных букетиках.
Ну, хорошо. Ну, вот не думает…
А все-таки как странно, глупо и ни с чем не сообразно, что вместо яркого, праздничного света – красноватым накалом мерцающая двадцатисвечовая лампочка… Вместо пахучих опилок – серые, давно не мытые доски пола… И скверная тишина, и горшок ночной под кроватью, и запах лекарства и клопов, и еще чего-то, что и не выскажешь даже, этакого омерзительного, кисленького, столетне присущего всем российским третьеразрядным гостиницам.
Нет, вовсе не думать нельзя. Все какие-то мерцают, если не мысли, так тени мыслей, наподобие ночного шевеления в смутном полумраке комнаты – вчера, в бессоннице, когда явились вдруг и папочка, и незабвенный братец; и даже коридорный малый немножко оказался причастным к семейным пререканиям, то есть вроде бы тайным свидетелем присутствовал при сих невероятных, уму непостижимых встречах.
И вот – ночь впереди зимняя, долгая. В двенадцать, как всегда, погаснет электричество, и – господи! – неужели же опять вчерашнее начнется?
Заснуть бы сейчас, провалиться в черную яму… Навсегда? Да хоть бы и так. Когда-то ведь нужно кончать эту скучную мариупольскую комедию!
Снова запестрели в воображении газетные листы с некрологами: «в расцвете сил»… «драма клоуна»… «мир праху твоему, веселый чародей»…
А разговоры! А пересуды! А сплетни! Бож-ж-же мой!
И тут безвестной твари имя всплывет ни оттуда ни отсюда, на поверхность, как бычий пузырь-погремушка: Максимюк!
Максимюк!!
Нелепейшая, подлейшая история явится наружу – болезнь, предъявленные антрепренером претензии на неустойку… Тридцать застуженных банок… и смерть.
«В расцвете сил» и тому подобное.
Ах, да не в Максимюке дело, господа! Максимюк, шут гороховый, прохвост, – всего лишь предлог. Предлог-с, многоуважаемые!
Впрочем, о чем это мы?
…толки, сплетни, догадки, предположения.
Найдутся и такие, что самую смерть представят ни более ни менее как очередную рекламную выходку: ведь он, как известно, постоянно выдумывал для себя этакие сногсшибательные штучки – то мадридская коррида, то лекция в Политехническом, то, наконец, печатно объявлял, что навсегда уезжает в Австралию… Было ведь? Было?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































