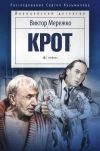Текст книги "Собрание сочинений. Том 2: Крот истории"

Автор книги: Владимир Кормер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Пойдем посмотрим.
Он поколебался секунду, не прибавить ли, что, дескать, чайник все равно будет долго греться, но, кажется, Андрей все понял и, опять заскрипев зубами, опираясь о затрещавший стол, поднялся тоже.
Николай Владимирович раскрыл дверь и, пропустив его вперед, вышел следом.
– Ха, друзья-приятели! – прыснула где-то Танька.
Зинаида, с багровым румянцем во всю щеку, жестом показала ей: не надо, оставь его в покое.
– Давай, крути дальше! – воскликнула Зинаидина дочь, молодая девка, расплывшаяся раньше времени оттого, что работала в столовой. – Давай, крути дальше! – повторяла она, хотя это была балалайка, а не патефон.
– Девке замуж пора, – заключила Анастасия.
Николай Владимирович вспомнил почему-то, как лет пятнадцать назад Зинаидин муж, теперь давно уж бросивший ее и ставший большим человеком, вытаскивал свою супружницу за ноги в коридор, бия ее смертным боем за то, что она не желала учиться.
– Обожди, обожди! – капитан с широкого скобленного подоконника погрозил пальцем, заваливаясь то и дело на сторону. – Обожди. Здесь нужно делать вот такой проигрыш:
Девки по лесу бродили,
Любовалися на ель…
– Эх, твою мать!.. – не выдержала Зинаида.
– Тс-с-с! – капитан поднял палец, призывая к молчанию, все притихли, и он протренькал, сколько положено.
– Он, наверно, ничего дальше не знает, – презрительно заметила Евгения-библиотекарша, младшая.
– Я не знаю?! – возмутился капитан. – У нас в деревне было двенадцать наигрышей! Во! Поняла?! Я их вот с такого, – он показал от пола, – вот с такого играл и помню. Большие танцуют, а мы, маленькие, играй! Во как дело было… Вот первый наигрыш, слушай, – он низко наклонился над балалайкой и мелко затряс грифом. – Вот наигрыш второй… Вот третий…
На четвертом он сбился, не мог дальше вспомнить. Изображая, будто играть ему надоело, он вскинулся и заорал, не в такт ударяя по струнам:
Пришла курица в аптеку
И пропела ку-ка-ре-ку!..
– Перестань, перестань, – строго приказала ему Марья Иннокентьевна, пребывавшая в лирическом настроении. Тоненьким голоском, неправильно, она стала вытягивать про скворушку, который пел в саду и с которым не унимался и Егорушка.
Умильно, слышавши эту песню еще от своих бабушек, остальные подхватили:
Ах-ахти-ахти-ахти,
Ахти-охтюшки…
Оборвал он ей все пуговки на кофтюшке.
Ну что же здесь такого,
Ну что здесь озорного?
Оборвал он ей все пуговки
И боле ничего!
Капитан ухмыльнулся, но перебить их не посмел и лег растрепанной головой на балалайку.
– Трень-брень балалайка, под кустом сидит малайка, – пошутил Андрей, садясь с ним рядом, почти в таком же, как у капитана, только чуть голубее, форменном кителе, и обнимая его за плечи. – Ты сыграй что-нибудь такое…
Капитан сыграл «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и «Динь-дон, динь-дон, слышен звон кандальный». Затем бросил и это и, весь погрузясь в себя, стал подбирать какие-то далекие мотивы. Скоро на мотив «Кирпичиков» он нашел свою когда-то любимую и дико и счастливо ощерился сам себе, как мог позабыть ее:
Как заходим в порт, разгружаемся,
Солнце сядет, опустится флаг.
И с веселою мы компанией
Держим путь на ближайший кабак.
Там мы водку пьем, про моря поем,
И красотки танцуют для нас.
Все бы отдал бы за безденежье
И за пару чарующих глаз.
«Безденежье» тут было вопреки всякому здравому смыслу, но капитан всегда пел именно так, как, вероятно, услыхал однажды, свято веря в тайный смысл этих слов, сочиненных неизвестным ему великим поэтом.
– Уводи его, – показала Марья Иннокентьевна Вальке. – Уводи.
Говорят про нас люди добрые,
Что мы много гуляем и пьем,
Но поверьте же, жизнь моряцкую
По морям мы, скитаясь, ведем, —
с особым наслаждением, проникновенно выводил капитан, основной порт которого находился в городе Касимове, а маршрут был до Астрахани.
Бабы давились со смеху:
– Батюшки, ну и ну!
– А ты знаешь, как называлось ихнее село до революции? – в тысячный, пожалуй, раз за эти двадцать лет спросила Анастасия Николая Владимировича.
Зинаида толкнула ее в бок:
– А теперя?!
– Хи-хи-хи… хи-хи-хи… Ой, не могу, и сказать стыдно! Педуново! Надо же такое название, а?! Хи-хи-хи-хи!..
Поп монашенку святую, —
запел капитан им назло, —
Повалил в траву густую!
Скинул ризу, скинул крест,
..........................
IV
Письмо от двадцать шестого января сорок третьего года было последним. Некоторое время Стерховы надеялись, что по инерции он продолжает писать им в Чкаловск, а там нелюбезные соседи медлят с обратной отправкой в Москву. Татьяна Михайловна написала туда, но те ответили им довольно скоро, что писем не получали. Еще неделю или две положили ждать, уповая, что он ранен, пусть тяжело, пусть лежит в госпитале и не может сам написать, ни даже продиктовать адреса или попросить кого-нибудь, но во всяком случае жив, и не пройдет и двух недель, как все разъяснится. Еще некоторое время Николай Владимирович подозревал, уж не пожаловалась ли Александру на что-нибудь Людмила, в результате чего он обиделся на них и по малолетству решил помучить и проучить молчанием. Это, однако, уж совсем мало было похоже на правду.
– А может, и проще все гораздо, – говорила рассудительная младшая Катерина. – Это мы тут напридумали бог знает чего, а на самом деле все проще, наверно. Это ведь фронт, передовая, там вполне могут произойти тыщи всяких случайностей, и с почтой, и вообще… Шурка, допустим, написал сразу два письма, и отцу, и нам, а машину с почтой разбомбило. Он еще написал, и опять какая-нибудь передряга. Вон, рассказывала же Полина, как у них в госпитале у одного майора представления к наградам и в следующий чин терялись. Командование пошлет, а где-то документы потеряют. Оно пошлет, а где-то опять потеряют. Так ведь то – особая почта, а у нас?
– Да, да, – соглашался Николай Владимирович и кричал Татьяне Михайловне: – Мать, взгляни, за какое число последнее письмо от Шурки?!
Татьяна Михайловна покорно лезла в комод, где в особой коробочке, среди обрывков старых кружев, шелковых лент и прочих остатков своего приданого и нарядов, хранила сыновьи письма.
– Зачем ты их туда спрятала?! – сердился Николай Владимирович. – Дай-ка сюда!
Но прочесть числа он все равно не мог: слезы застилали ему глаза; а впрочем, этого и не надо было, потому что он и так знал его наизусть.
Присутствие старшей дочери Анны мешало ему поверить в счастливый исход. Тем летом, под городом Омском, у нее умер муж. Анна всегда была скорей от природы печальна и славилась своей правдивостью; теперь перенесенное горе и совсем отучило ее притворяться. Николай Владимирович сравнивал двух своих дочерей и удивлялся сквозь слезы, откуда такая разница. Младшая, склонная к полноте блондинка, унаследовала неизвестно от кого в их фамилии практицизм, была бойка, отлично училась и порою пугала отца своим чрезмерным благоразумием. Анна была, как он сам, мечтательна и за свою жизнь навлекла немало огорчений сама на себя своею фанатической преданностью близким и почти сумасшедшей готовностью к самопожертвованию. В несчастьи, как знал это Николай Владимирович, ее качества были прекрасны и не было человека нужнее ее, но в обыденности ее любовь становилась тяжела, и все норовили ее избегнуть, с годами раз от разу заставляя Анну скорбеть о людской неблагодарности.
«Надо быть готовым к худшему», – читалось теперь на ее худом, суровом резковатом лице. «Ты знаешь, папа, – рассказывала она ему как-то, – я так и вижу перед собой этот сельский погост, край леса, поросший малиной, подсохшую землю, крест с чернильной надписью и увядшие уже цветы, в сердцевине у которых ползают какие-то черные лесные жучки… Так я все это помню…»
– Нет, папа, ты опять плачешь! – восклицала Катерина, становясь перед ним на колени и с силой отрывая его ладони от уткнутого в них лица. – Ты у нас прямо какой-то пораженец! Так нельзя. Давай вместе посмотрим карту.
Теперь уж Николай Владимирович покорно, как его жена минутами раньше, лез за картой. Первый раз Харьков был взят нашими войсками шестнадцатого февраля сорок третьего года. Далее, по смыслу сообщений Информбюро, немцам удалось, собрав на узком участке фронта до двадцати пяти дивизий, организовать контрнаступление в районе Донбасс – Харьков, после чего города Харьков и Белгород были временно оставлены. Вторично и уже окончательно их освободили в августе сорок третьего года.
– Представляешь, что там делалось в эти месяцы?! – Катерина взмахивала руками, изображая словно бы взрыв. Фразу эту неоднократно повторял, утешая жену, и сам Николай Владимирович.
Он кивал:
– Да, конечно, представляю.
– Видишь, и Елена Андреевна тоже говорит, что надо надеяться.
Елена Андреевна была мать одного из тех, чьи адреса прислал им сын; у нее бывали чуть не ежедневно. Впрочем, со всеми, чьи адреса были указаны в списке, виделись нынче очень часто – или договаривались встретиться, или случайно встречались в присутственных местах: военкоматах, управлениях, архивах, где часами просиживали вместе, ожидая ответа.
Чудно было то, что никто из них (их детей) не написал с конца января ни строчки, но и похоронная не пришла ни на кого. То ли вправду накрыло их одним снарядом в блиндаже, так что ничего и не осталось, и неясно было тем, кто разглядывал потом это место, были здесь люди или нет, то ли взяли их в плен; или же разорваны были они при штурме поодиночке – ничего не было известно. Кто-то предположил, что они могли попасть в окружение и оттуда уйти в партизаны, но по мере того, как освобождалась территория, и эта надежда исчезала. Но то и дело у той же Елены Андреевны или у кого-нибудь другого из списка появлялись новые идеи, либо их знакомили с новыми людьми, долженствующими помочь узнать что-то, и тогда снова оживали все надежды, снова все с нетерпением ждали весточки, звонили, забегали на минуту вечером и давали телеграммы тем, у кого не имелось телефона.
– Все будет в порядке, – повторяла Катерина. – Ты мне веришь? Ведь всегда, как я скажу, так и будет, а?
Николай Владимирович непроизвольно улыбался. Она обрадованно вскакивала на ноги:
– Вот видишь, вот видишь! Ты уже улыбаешься! Верь мне, все обойдется!
– Я тебе верю.
Успокоенная, она отходила к печке, греясь возле которой, твердила какое-то задание. Николай Владимирович тоже брал со стола книгу, но читать не мог.
– Ну, папа, папа! Что это такое?! Перестань сейчас же! – Катерина сама кривилась, готовая разреветься.
Николай Владимирович не выносил плача, женский плач в нем самом страгивал какую-то струнку, и он начинал чувствовать себя где-то на грани истерики. Поэтому и сейчас он не мог пересилить себя и, начиная истериковать, тихо шептал:
– Впустую все это.
– Нет, ты не смеешь так говорить! – ненатурально из-за присутствия Анны, которая, ей чудилось, осуждает ее, кричала Катерина. – Анна, почему ты молчишь?! Скажи что-нибудь. Нельзя же так. Он и маму всю издергал, и нас, и сам весь издергался!..
«О, я знаю цену твоему оптимизму!» – как бы про себя произносила одними губами Анна и выходила курить в коридор.
В начале той зимы, сорок третьего – сорок четвертого года, они жили еще все вместе, то есть Людмила с сыном жила с ними еще (Николай Владимирович с Татьяной Михайловной и с Анной – в первой, проходной, комнате, а Людмила с сыном и Катериной – во второй, по размеру меньшей; пятилетний Аннин сын жил неподалеку, у своей тетки по отцу), но в середине зимы положение изменилось, потому что Людмилин мальчик умер, не доживя и до двух лет.
Он вообще рос ребенком нездоровым, систематически простужался, кашлял и переболел, кажется, всеми болезнями. Он с трудом вынес и первую зиму; возможно, что постоянный холод действовал на него все ж благотворней, нежели то неоднородное и непостоянное распределение температур в комнатах, которое установилось, когда завезли дрова. У самой печки, где его купали, была жара, но из окон дуло по-прежнему, и стоило за ним недосмотреть, как он оказывался где-нибудь около окна или, лежа в постели, скидывал одеяльце, и все начиналось сначала, так что и сама Людмила, и Татьяна Михайловна заметно устали и нервничали, не предвидя этому конца. Николаю Владимировичу грезилось тогда, что, если б отец мальчика был жив, пусть и не близко, они все, и он в том числе, чувствовали бы какую-то ответственность или, лучше сказать, так объясняли бы себе особую необходимость заботиться о ребенке: вот вернется отец, а уж мы обязаны представить ему ребенка, как следует быть. Но поскольку известия от отца являться переставали и в сердце тайно заползала мысль о его смерти, то эта мистическая необходимость будто отпадала, звено за звеном, и мальчик оставался как бы лишен покрова и никому не нужен – ни своей матери, потому что оказывался для нее лишь обузой, завещанной ей человеком, которого она едва знала и мало любила, ни бабке с дедом, ибо был еще слишком мал, чтобы походить на их сына, чтобы они могли узнавать в нем уверенно милые черты и чудесно передавшиеся ему, никогда не видевшему отца, отцовые привычки. К тому ж у них был другой внук. Конечно, если б сын вернулся, все было бы по-другому: и невестка примирилась бы со свекровью; и свекровь, хоть и бранилась бы, будучи вспыльчивой и несдержанной на язык, но души не чаяла бы в маленьком; и дед радовался бы внуку и, искупая вину свою перед его матерью, баловал бы его, любя, быть может, даже больше своих детей, видя в нем преемника рода, продолжение своей жизни. Но сына не было, невестка как будто виновата даже была в его гибели (от этой мысли Стерховы так и не ушли), из-за нее якобы он лез под пули и сумасбродствовал, желая забыться, и внук лишился для бабки с дедом всякой прелести.
Незадолго до Нового года, вечером, Людмила собиралась куда-то идти. И она сама, и свекровь считали всякий раз это чем-то криминальным, чем-то вроде измены. Возбужденная донельзя, Людмила прихорашивалась и мазала губы в большой комнате перед зеркалом, хотя тут было темно, но она ждала, не заговорит ли с ней Татьяна Михайловна, тут строчившая на машинке и искоса взглядывавшая на нее.
Татьяна Михайловна и точно не выдержала первой:
– Уходишь? – она придержала рукой колесо машинки. – А с ребенком кто останется?
Невестка сделала такое движение, словно хотела подойти к столу и повиниться, но не ступила и шагу как, покраснев под пудрой пятнами, сорвалась:
– Я не какая-нибудь!.. Я ребенка с собой возьму!..
В гостях было жарко. В крохотной комнатке набилось много народу, сидели друг у друга на коленях. Мальчик лежал тут же, на кушетке, за спинами. И когда из душного, прокуренного помещения его вынесли на мороз, под ветер, он простудился.
Хорошие врачи из детской поликлиники, те, что лечили и его отца, были все, наверно, на фронтах, в госпиталях, – пришла молоденькая, только что окончившая курс девчонка, не сумевшая ничего предпринять, ни даже определить, что у него воспаление легких. В три дня он угас.
Николай Владимирович не мог позабыть тот вечер, когда с улицы (мальчик в тот день был уже в больнице), замерзшая, утомленная холодом, появилась Татьяна Михайловна, но не вошла сразу в комнаты, а стала на пороге. Николай Владимирович недоуменно поднял голову, хотел даже спросить: «Ты что, Танек?» – его первой мыслью было, что случилось что-то с ней самой, и он все не мог сообразить, что же именно. Пока Татьяна Михайловна, как-то вяло шевельнув губами, не произнесла негромко:
– Все, все…
– Как? Уже все? – вырвалось тогда у Николая Владимировича, и этот нелепый возглас вдруг напомнил ему ту детскую игру, в которой нужно было, разделившись на партии и одной из них спрятав куда-нибудь вещь или загадав какое-то слово, звать другую из соседней комнаты: «Уже все, идите». – «Как, уже все? Так быстро?» – спрашивали те, кто отгадывал. «Да, уже все…»
Через минуту, столпившись в соседней комнате, четыре женщины плакали взахлеб, обнимая друг друга; потом разошлись, и под конец плакала тихо одна лишь Анна, а Людмила урезонивала ее:
– Ну что вы, что вы, Анна Николаевна. Что вы так убиваетесь? Он и не человек еще был…
И Анна, захлипаясь, повторяла с укором:
– Ах, Люда, Люда!..
* * *
– Ну, что ты скажешь по этому поводу, а, папа?!
Николай Владимирович держал перед собой свежеизмятую сегодняшнюю (за 10 июня 1947 года) газету и не мог прочесть ни строчки, потому что Катерина, навалясь сзади ему на плечи, водила пальцем по строчкам, заранее отмечая то, что казалось ей наиболее важного он должен прочесть.
– Подожди, – раздраженно просил Николай Владимирович, – ты так мельтешишь передо мной, что я и не вижу ничего.
– А тебе и видеть ничего не нужно. Тут все ясно. Вот, гляди… Передача всех итальянских граждан происходила по именным спискам… так… делегация ознакомилась… так… Затем ген.-лейт. Голубев подробно рассказал об условиях жизни итальянцев в советских лагерях… Члены делегации задали ряд вопросов… Вот отсюда. Читай!.. Информировал о положении советских граждан в Италии, объяснил те причины, которые мешают им возвратиться на родину. Вот. По состоянию на 10 июня 1947 года в Италии находится 1 124 советских граждан… В лагерях, состоящих в ведении итальянских властей, Фарфа Сабина, Липары и тюрьмах – 170 человек; проживают на частных квартирах в различных городах Италии – 908 человек; местопребывание остальных 46 человек советским органам по репатриации не известно…
– Ну, что ты скажешь? – спросила Татьяна Михайловна, напряженно ожидавшая, пока они кончат читать.
– Н-ну что ж, может быть… – пробормотал Николай Владимирович.
– Что «может быть»?! – толкнула его в плечо Катерина. – Может быть, он там на частной квартире, а?! Каково?!
– Я и сказал, что может быть. Все возможно.
– По-моему, – настаивала Катерина, – вполне! Парень он красивый, свободно мог найти себе какую-нибудь итальяночку. – Она засмеялась характерным своим, чуть грубоватым смехом. – Он же блондин, а там блондины редкость: свои-то все больше чернявые. Они, наверно, итальянкам обрыдли знаешь как! А тут высокий, красивый, блондин, я говорю! Ну представь себе! Ну что ты как мертвый?!
Николай Владимирович представил себе ту Италию, куда в девятнадцатом веке посылали учиться русских художников: лазурное небо с синими облаками, море, гроты, виноградники, – в этой стране не было места его сыну.
– Все мог бы дать о себе знать, – Татьяна Михайловна сердито перекусила зубами нитку, стянув весь шов складками.
Николай Владимирович усмехнулся:
– Нет, уж тут не до писем.
– Конечно, не до писем! – лицо Катерины стало хитрым и залихватским, как у профессиональной рассказчицы. Она и вправду рассказывала хорошо и понимала юмор, особенно юмор положений. – Конечно, не до писем! Он, скорее всего, себя от счастья там не помнит. Это ж не Людка тебе, это итальянка! Греются там на солнце, купаются в море! Замечательно! Ты подумай: война, кровь, окружение, плен, грязь, столько лишений – и вдруг!.. После всего этого такой рай земной! Где уж тут быстро очухаться? Да, и самое главное: как дать о себе знать? Может, он и пробовал уж сотни раз, да все не выходило? По почте-то не напишешь?! А?!
– Мог бы с оказией передать, – глупо уперлась Татьяна Михайловна и, спохватясь, что не больно много видит вокруг итальянцев, добавила: – Хоть бы и с этой делегацией даже.
Катерина, войдя в раж, не унималась:
– С какой это с этой?! Да ты пойми, делегации формируются в одном городе, а он – в другом. Например, делегация едет из Рима, а он живет где-нибудь в Неаполе, или в этой… Фарфа-Сабине…
Она назвала это красивое сочетание, Фарфа-Сабина, забыв о том, что там лагерь.
– Что за неистребимая веселость, Катерина?! – Николай Владимирович чертыхнулся. – А ты тоже хороша. Дожить до седых волос и так поддаваться на любые выдумки. Наивность тоже, мне так кажется, должна иметь какие-то пределы, иначе это уже не наивность, а идиотизм.
Татьяна Михайловна обиделась. В своих очках с маленькими круглыми стеклами в зыбкой проволочной оправе она выглядела смешной (она надевала очки, лишь когда шила) и в самом деле немного наивной. Николаю Владимировичу сейчас же стало жалко, что он обидел ее, и, различив, что она что-то бормочет про себя, вроде что здесь такого или что-то в этом духе, он поспешил объяснить свою реакцию:
– А то, что, к твоему сведению, если уж он где-то там, то лучше уж ему сюда не возвращаться!
– Тише, папа, тише, – Катерина оглянулась, боясь, что из-за тонкой филенки двери их могут услышать. – Тише, мы поймем тебя, если ты будешь говорить тише. Совершенно незачем так кричать. Подожди…
По мягким, пружинящим доскам пола в коридоре раздались быстрые резкие шаги – это была Анна.
– Да, я уже читала, – сухо, с порога предупредила она движение Катерины.
– И что ты скажешь?
Анна пожала прямыми по тогдашней моде плечами.
– Вот-вот, – передразнила Катерина, – от тебя другого чего-нибудь дождешься! Эх ты!..
Однако спорить она с Анной не решилась, а только, убежав в соседнюю комнату, будто за делом позвала оттуда: «Мам, поди-ка, чего скажу!» – зная, что этим наверно заденет сестру больше, нежели словами. Анна подошла к отцу и села рядом.
– Твоя мать, – съязвил Николай Владимирович, – по недоразумению своему все надеется, что мы – какое-то исключение из общего правила. Ты что, думаешь, она не знает о законе? Знает, великолепно знает, только надеется почему-то, что этот закон ее минует.
Анна кивнула: если б Александр действительно вернулся, то за колючую проволоку угодил бы не он один, ибо закон об ответственности родителей за детей, попавших в плен, реально существовал; о том знали все.
– Да я думаю, что его там и нет. Тысяча человек из миллионов – вероятность слишком ничтожна… К счастью, – тихо добавила она.
* * *
Приютившись рядышком на пыльном вытершемся ковровом продавленном диване, в неверном августовском закатном свете, проникавшем из соседней комнаты через полуприкрытую дверь, они долго молчали, отдаваясь той сладкой атавистической тоске, которая всегда охватывает человека на закате, стоит лишь отрешиться от дневных дел, отложить в сторону книги и уступить зову солнца. Сейчас оно было у них за спиной, они видели лишь его отблески в дереве стен и любовались печально ими, не смея оторвать глаз, потому что, вследствие какой-то оптической иллюзии, им блазнилось, что эти пламеневшие отсветы не отражения вовсе, но что дерево, подобно раскаленному металлу, само, изнутри себя, создало их. Лишь когда стенные часы с шипением (там имелся специальный флюгерок, нарочито вращавшийся для того, чтоб получалось шипение, – о каковом открытии их в свое время оповестил Александр) пробили восемь, Анна, развлеченная их шипением с боем, спросила, встряхиваясь:
– Ну хорошо, папа, расскажи лучше, как у тебя на работе? Как дела с аттестацией?
– Да, с аттестацией, – как эхо откликнулся Николай Владимирович. – Боже мой, еще и это!..
Он сжал ладонями свои начавшие западать старческие виски, с горечью ощущая, как то растворенное в пространстве, блаженное закатное состояние испаряется, а взамен возвращается другое, мелочное и суетливое дневное, и без того уж истерзавшее его.
Частично еще в конце войны и широко после нее, оценив по достоинству всю выгоду воинской дисциплины, единообразия и субординации, Сталин начал проводить реформу гражданских государственных учреждений по типу реформы Петра Великого, известной под названием «Табели о рангах». Подобно Петровской Табели, разделившей всех государственных служащих на четырнадцать классов: от 14-го – самого низшего – коллежского регистратора, и далее, вплоть до 2-го класса – действительных тайных советников, и 1-го класса – канцлеров, – подобно этому предполагалось ввести во всех министерствах, а впоследствии и во всех прочих госучреждениях соответствующие занимаемой должности звания и, равным образом, строгую форму с погонами, кантами, нашивками и шевронами. Каждое ведомство получало свой цвет, имевший градации от нежно-серого у энергетиков до иссиня-черного у угольщиков. Цвет юридического ведомства, где служил Николай Владимирович, был коричневый. Вся эта процедура присвоения чинов именовалась аттестацией. Особенность ее состояла в том, что она шла не сплошь, а как-то выборочно и сверху вниз, и некоторые на работе у Николая Владимировича уже были аттестованы и сшили себе мундиры: китель со стоячим воротничком и узкими золотыми погончиками с надлежащим числом звезд и щитов с перекрещивающимися мечами – символом правосудия. На зиму и осень полагались также шинель или шуба того ж коричневого сукна.
Николай Владимирович с некоторым испугом наблюдал, как сослуживцы его, исключая, быть может, женщин, казались все очарованы прелестями мундира и знаком различия. Не раз за те дни, пока приближалась аттестация, он изводил их шутками об «игралище страстей» (опасаясь, разумеется, сказать хоть что-либо в осуждение реформы), а также тем, что сам умел казаться абсолютно незаинтересованным в деле. Но в глубине души он, увы, знал, что шутка эта относится и к нему самому, потому что не только предвидел множество неудовольствия для своего развитого самолюбия от неизбежных встреч с теми, кто выше чином, но и опасался еще быть в той или иной мере обойденным, страшился вдруг («что, если всех в отделе аттестуют, а меня еще нет!») остаться так явно белой вороной. Страшась того и успокоительно воображая себя в мундире, аттестованного по форме, немедленно начинал беспокоиться о материальной стороне дела, сулившей не столько выгод, сколько убытков: и материал на китель, брюки, пальто и фуражку, и пошивка всех этих вещей – шло целиком почти за свой счет, и все вместе должно было обойтись в крупную сумму. Правда, этой весной они продали за неплохие деньги остатки полуразрушенной своей дачки вместе с участком, но сумма, которая была вначале, истаяла так угрожающе быстро, что теперь Николай Владимирович не хотел трогать оставленного на черный день куска. С другой стороны, кто-то из их финансистов принес слух, что в высоких сферах решились провести девальвацию, то есть замену денег, обесценившихся с войной, с целью приведения их номинальной стоимости к фактической. Если слух был истинным и это случилось бы, то несколько тысяч, вырученных за дачку, обратились бы, скорей всего, в несколько сот рублей, и семейство, только-только вздохнувшее свободней, стало бы снова нищим. С этой точки зрения хранение свободных денег было безумием и, раз уж недальновидная операция с продажей дачи все равно осуществлена и потерянного не воротишь, надо было как можно быстрей вложить деньги во что-то еще, например, в тот же мундир, если уж, так или иначе, его надо приобретать. Поэтому Николай Владимирович был кровно заинтересован, чтобы аттестация у него произведена была насколько возможно раньше, так как просто пойти в магазин, купить сукна и начать шить он не имел права: во-первых, все это распределялось централизованным порядком, прямо на службе, посредством так называемых «заборных (от слова забирать) книжек»; во-вторых, выглядело бы вообще нелепо и недостойно, как извне (если б кто-нибудь на службе пронюхал об этом), так и изнутри, для самого себя.
Помимо всего прочего слух о денежной реформе, несомненно, был государственной тайной, и, если уж тот, кто сказал ему об этом, был болтлив или не боялся получить десять лет тюрьмы, то сам Николай Владимирович не мог себе позволить поделиться с кем бы то ни было узнанным, посоветоваться с кем-то из людей практичных и опытных, какова вероятность того, что так все и будет, и как ему при этих обстоятельствах поступить. В семье вопроса, как поступить, он также не обсуждал, хотя Анна, работавшая в нефтяном министерстве, была в сходном с ним и даже, пожалуй, в еще худшем положении.
Сегодня он, однако, не выдержал и заговорил с ней: таиться он был более не в силах, да и время уже подпирало: назавтра у них была назначена аттестационная комиссия, и если его аттестуют, он должен был знать, что предпринять ему.
– Папа, я ведь очень хорошо тебя понимаю. – Анна ласково посмотрела на него. – Я очень хорошо понимаю, что волнует тебя. Конечно, все это очень унизительно, но что же делать?
– Да, но ведь ты сама не собираешься шить? – Он нарочно спросил без обиняков, грубовато, потому что ее всепонимающий, сентиментальный тон не понравился ему.
– У меня просто нет на это денег, – ответила она.
– Но позволь, те деньги, что остались от продажи дачи, принадлежат тебе в такой же степени, как и мне. Я уже довольно на себя истратил.
– Нет, нет, – она категорично замотала головой, – это совершенно ни к чему. Их все равно не хватит, а в результате мы оба останемся без формы. Да и зачем мне эта форма, зачем мне ходить в кителе и погонах? Я только недавно, всего одну зиму, как сшила себе шубу. Зачем мне снова выкладывать тысячи рублей?!
Николай Владимирович поинтересовался, ходит ли у них уже кто-нибудь в форме.
– Савицкий ходит в генеральской, – стала перечислять Анна, – Петровичев, Квасов…
– А ты сказала у себя определенно, что не хочешь шить форму?
– Сказала, что у меня нет денег. – (Это означало, что она сказала, что у нее нет денег и что она одна с восьмилетним ребенком на руках, – надеясь, что они ей предложат безвозмездную ссуду.)
– А они? – спросил Николай Владимирович.
– А они сказали: мы вас тогда не аттестуем.
Разволновавшись, Николай Владимирович заерзал на месте, безотчетно ударяя по столу.
– Ну и что будет, если тебя по-настоящему не аттестуют? Тебе же придется уйти… И потом, слушай, – он понизил голос, – ведь это государственное постановление. Ты же не можешь выступать против правительственного постановления.
– А я и не выступаю против правительственного постановления, – зло сказала она, серея лицом.
– Да, но твой шаг может быть расценен именно как обструкция. Это очень опасно. Не мне тебе объяснять, какие отсюда могут проистечь последствия.
Анна побледнела еще, но по-прежнему хотела настоять на своем.
– Нет, я все равно не могу себе этого позволить. У меня ребенок, в конце-то концов! Ребенок, которого я должна кормить и одевать! – закричала она. – Я не могу бросаться такими деньгами!
Николай Владимирович поразился лишь тому, что даже такой аргумент, какой он только что привел ей, отступив от своего же слова никогда не говорить с ней на эту тему, не способен переубедить ее, всегда мучимую страхом и ждущую неприятностей из-за того, что покойный муж ее, Дмитрий, совсем мальчишкой еще отсидел по «пятьдесят восьмой статье». «Неужели ж это забота о ребенке произвела такую трансформацию? – Он взглянул на Анну, казавшуюся ему подчас сумасшедшей из-за своих страхов, как-то по-новому, признаваясь про себя, что сам он все-таки никогда б не решился на такое. – Впрочем, это всего лишь неразумно, – тут же поправил он себя. – Если ее уволят с работы и она месяца два пробегает, пока устроится, как это бывало и раньше, то и выйдет как раз баш на баш, эти самые деньги и уйдут».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?