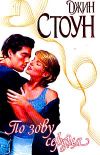Текст книги "Привал"

Автор книги: Владимир Кунин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Зайцев огорчился, разозлился и засопел. Но Станишевский решил его добить. Он точно знал, как это сделать, и поэтому спросил Зайцева:
– А может быть, ты действительно боишься этой немецкой группировки? Война кончается, дожить всем хочется. Тут я тебя мог бы понять...
У Зайцева от обиды чуть слезы не брызнули из глаз, он тотчас прыгнул за руль «виллиса» и высказал свое отношение к немецкой группе такими непотребными, непереводимыми, неслыханными выражениями, что даже невозмутимый Санчо Панса, каким-то образом уже оказавшийся со своим автоматом на заднем сиденье, впервые с интересом посмотрел на него.
Станишевский тут же пожалел, что нанес Зайцеву такой сильный удар, потому что бесстрашнее Валерки он не встречал ни одного человека на этой войне.
– Прости меня, старый, – искренне проговорил Анджей. – Я что-то не то ляпнул...
От замка выехали двумя машинами – Андрушкевич со своим водителем на штабном «хорхе» и Станишевский с Зайцевым и Санчо Пансой на «виллисе». В ногах у подполковника Юзефа Андрушкевича лежали два автомата с запасными рожками и дисками: его собственный немецкий «шмайсер» и советский ППШ водителя «хорха».
Поначалу объехали вновь организованные службы. Побывали на центральном складе семенного фонда, которым управлял юный младший лейтенант с дипломом сельскохозяйственного техникума. Теперь в его подчинении были не новобранцы, а несколько старых польских и русских солдат. Сюда, в эти два громадных амбара брошенного юнкерского хозяйства, рядом с городком, свозилось все зерно из окрестных хуторов, сортировалось и по указаниям солтысов рассылалось на пахотные участки, закрепленные за тем или иным подразделением. Увидев начальство, младший лейтенант засуетился и срывающимся от волнения звонким голосом доложил о ходе работ «на вверенном ему участке».
Затем, чтобы польстить Зайцеву и хоть частично загладить свою вину, Станишевский повез Андрушкевича осматривать большую кузницу, найденную Валеркой на скрещении трех сельских дорог.
Худенький пожилой старшина в очках встретил их спокойно, без суеты.
Анджей очень надеялся на то, что после посещения ремонтной бригады Андрушкевич захочет посмотреть, как медслужба организовала посты первой помощи в полевых условиях. На двенадцати пахотных участках, расположенных у городка на пять-семь километров в направлении к северо-востоку, одиннадцать постов медслужбы интересовали Анджея Станишевского с чисто служебной точки зрения. Но на двенадцатом посту – головном – была Катя. И он не мог дождаться, когда подполковник наконец проявит интерес к медицине.
Однако у Юзефа Андрушкевича были несколько иные планы. Он твердо помнил, что проверка постов медслужбы стояла в списке необходимых дел этой поездки, но неясное движение души заставляло его поехать сначала на тот пригорок, на котором, по донесениям, находился командир советского кавалерийского полка майор Нестеренко. «Может быть, не стоило жаловаться Сергееву на Нестеренко? – думал Андрушкевич. – Может быть, имело смысл самому поговорить с ним?» И от сознания того, что по его навету Нестеренко сейчас находится не в лучшем состоянии, Андрушкевичу захотелось увидеть его и как можно скорее замолить свой грех...
По огромному полю десятки лошадей тянули десятки плугов самых разных конструкций и видов. Нежаркое солнце с утра подсушило верхний слой земли, и от копыт лошадей в воздух невысоко поднималась серая редкая пыль. Косые ножи плугов врезались в землю, вспарывали ее, безостановочно шли вперед, оставляя за собой темную борозду. С одной стороны борозды полукруглым валиком лежала поднятая земля. Внутри, на глубине плужного лемеха, земля еще была сырой, и теперь, вывернутая на свет Божий, она начинала парить под весенним солнцем. Оседала пыль от лошадиных копыт, а из борозды тянулись прозрачные струи влажного тепла нижнего, глубинного слоя. И в этих невидимых потоках, уходящих в небо, к солнцу, всё принимало неясные, размытые, таинственно подрагивающие очертания.
Было тепло. Редкие облака лениво ползли по синему небу, светило желтое предапрельское солнце. Солдаты, превратившиеся в крестьян, на сытых и женственно грациозных кавалерийских конях поднимали весеннюю землю.
Над полем, на пригорке, стоял зелено-голубой нелепый трофейный автомобиль-амфибия с открытым верхом. За рулем сидел сам Нестеренко – тридцатилетний кругленький человек с кирпичной физиономией и пышными ухоженными рыжими усами.
«Хорх» Андрушкевича и «виллис» Станишевского и Зайцева стояли рядом с плоской ребристой амфибией. Андрушкевич сидел на широком понтонном капоте автомобиля Нестеренко, спиной к нему, смотрел в поле, откуда слышался храп лошадей, где перекликались по-русски и по-польски, где кто-то заливисто хохотал, кто-то хрипло, срывающимся голосом горланил старую польскую песню.
– Нестеренко, Нестеренко... – укоризненно приговаривал Андрушкевич, не оборачиваясь, не отрывая глаз от поля. – Ты посмотри, красота какая. Ты только взгляни, какое зрелище! Да погляди ты, Нестеренко!
– Нет, – упрямо говорил Нестеренко в спину Андрушкевичу и тупо разглядывал пол в кабине своей амфибии. – Я на такое смотреть не могу и не желаю.
За его водительским сиденьем лежали роскошное кавалерийское седло и очень красивая шашка. Ножны шашки были украшены замысловатым ажурным орнаментом из тонкой золотисто-красной листовой меди работы присяжного полкового умельца с художественными наклонностями.
Станишевский и Зайцев тонко почувствовали сбой в отношениях больших начальников и деликатно стояли в сторонке. Водитель Андрушкевича и Санчо Панса из своих машин не вылезали.
– Да ты посмотри, Нестеренко! – счастливо смеялся замполит. – Ты только глянь! Клянусь, тебе понравится!..
Этого Нестеренко не вынес. Он вскочил во весь свой небольшой рост, трагически протянул к полю толстые короткие руки и закричал плачущим голосом:
– Да куда смотреть-то?! Как вы из боевых скакунов тягловое быдло сделали? Это, что ли, мне должно нравиться? Это?! – И снова рухнул в водительское кресло амфибии.
Андрушкевич спрыгнул с капота, подошел к Нестеренко и обнял его за плечи.
– Не сердись, Нестеренко. Не кричи. Что с твоими конями сделается?
И так как Нестеренко ничего не ответил, Андрушкевич заговорил с ним, как с маленьким неразумным ребенком, не осознающим своего счастья, – терпеливо и нежно, в сказочно-былинной распевной манере:
– Нас с тобой, может, к осени и в живых не будет, а здесь хлеб вырастет... И спросят потом люди: «А чем же вы пахали тогда? Где же вы лошадей достали?» А другие люди им ответят: «Был такой замечательный человек – командир кавалерийского полка Красной Армии майор Нестеренко Николай Владимирович. Расседлал он свой полк, запряг боевых коней в плуги и сеялки и спас этим десятки тысяч людей от послевоенного голода...» Вот что про тебя скажут люди, Нестеренко. А ты ругаешься, кричишь...
– Я не кричу, – тихо сказал Нестеренко. – Я плачу. Я, можно сказать, рыдаю.
Андрушкевич незаметно подмигнул Станишевскому и Зайцеву, совсем навис над Нестеренко и вполголоса, как свой – своему, чуть ли не интимно, сказал:
– Коля, давай будем честными... Ну что такое сегодня кавалерия? Анахронизм, Коля...
– Да ты что?! – оскорбленно взвился Нестеренко. – Да я своего коня ни на что не променяю!
Андрушкевич отодвинулся от него, похлопал трофейную амфибию по плоскому капоту, пощупал седло и сказал насмешливо:
– Вижу, вижу.
– Я коня для боя берегу! – завопил Нестеренко. – Для атаки!..
– Ну ладно тебе верещать, – жестко проговорил Андрушкевич и даже брезгливо поморщился. – Посмотри в поле, дундук несчастный. Действительно же красота!
Нестеренко понял, что приятельские шутки кончились. Он медленно вылез из машины и окинул взглядом большое пространство земли, на котором работали солдаты-крестьяне двух армий. Казалось, что война уже окончилась, но пахари, идущие за плугами в нижних белых армейских рубахах, просто позабыли снять автоматы и карабины со своих мокрых и натруженных спин.
– Конечно, здорово... – расслабленно согласился Нестеренко. – Только коней жалко, Юзек.
Он помолчал немного, потом вгляделся в дальний конец поля, что-то узрел там и вдруг заорал своей страшной кавалерийской глоткой на всю округу:
– Ты что ее лупишь, чертова кукла?! Ты как с животным обращаешься! Мать твою за ногу! Вот я тебя сейчас самого взнуздаю и в плуг запрягу! Брось кнут сейчас же!.. Бездарность!!!
Во второй половине дня в городке все слегка поуспокоилось – меньше стало народа на улицах, меньше стало машин. Обе дивизии, расположенные в городе и за его пределами, почти целиком были на полях. Оставались только штабы, два батальона охраны – польский и советский, Особый отдел, комендатура, корреспондентский пункт бюллетеня Первой армии Войска Польского «Балтийский», срочно переименованного в «Сев», рота связи и различные службы обеспечения: медсанбат, пекарни, службы обозно-вещевого и продовольственно-фуражного снабжения и несколько мелких подразделений, отданных гражданским властям города в помощь для восстановительных работ на электростанции, телеграфе и в костеле. К обеду с ближайших полевых участков после разминирования вернулись расквартированные в городе саперы.
По улицам шатались освобожденные из плена союзники, не пожелавшие принять участия в пахоте, медленно и достойно прохаживались польско-советские патрули, усиленные нарядами гражданской милиции. Время от времени проезжал с деловитым треском мотоциклист-связник или, постреливая прогоревшим глушителем, солидно проплывал в закамуфлированной обшарпанной «эмке» штабной порученец.
Местные жители, по всей вероятности, рассосались по своим домам – вернулись к будничным делам, прерванным вчерашней мгновенной сменой власти и бурным потоком впечатлений, и от этого сегодня их казалось значительно меньше, чем вчера. Те же, кому все-таки приходилось выходить из дома на улицу, бегать в открывшиеся лавочки, кто просто не мог не потолкаться на «черном рынке» у лагеря военнопленных, были скованны, излишне предупредительны, словно несли груз вины за свой польский язык с жестким немецким акцентом. Над приветливыми улыбками – настороженные глаза, а в них ожидание неотвратимой, пугающей неизвестности: «Не послушались, нарушили приказ германских властей о всеобщей эвакуации, а теперь что будет? Вот уже земли стали распахивать без межей, без границ... И дети куда-то запропастились! Лазают черт знает где, дома на цепи не удержишь...»
– Яцек! Вандечку!.. Бартусь!.. Мартинек!.. Холера, а не дети!
А Яцек с Вандечкой, Бартусем и Мартинеком только что раздобыли в войсковой пекарне огромный каравай теплого пшеничного хлеба и, сытые и счастливые, с еще набитыми ртами и уже взбухшими животами, как щенки, роются у зеленовато-замшелых стен костела – выискивают яркие цветные осколки из вышибленных костельных витражей. Роются и поглядывают на пожилого русского солдата, уже давно стоящего у входа в костел. За спиной у него автомат и плоский, обвисший, почти пустой мешок. Он, как странник, опирается на длинную двухметровую палку с тонким металлическим щупом на конце. В левой руке – свеча. Держит он ее двумя заскорузлыми пальцами, чтобы не растопить воск в ладонях.
Стоит солдат-странник, оглядывается несмело и все не может никак решиться войти в костел. Вообще-то, конечно, ему нужен был бы не костел... Но время такое, да и не дома, можно сказать. Выбирать не приходится. Жаль только, костел без крыши.
У городского костела действительно не было крыши. Как это произошло – никто не мог сказать ничего вразумительного. Наступление было стремительным, город был взят почти бескровно: ни уличных боев, ни орудийного огня прямой наводкой вдоль улиц – ничего такого не было. То ли прилетел шальной снаряд, то ли, пока в городе были немцы, «илы» с воздуха не разобрались, что к чему, и шуранули по нему залпом «эресов» – реактивных снарядов. Может, просто не выдержали трухлявые, изъеденные древесным жучком стропила и перекрытия семнадцатого века. И рухнули от сильного сотрясения. Прошла над костелом парочка эскадрилий штурмовиков – восемнадцать штук по тысяче триста семьдесят лошадиных сил в каждом двигателе, и никакой снаряд не нужен. Особенно если в резонанс попадет – и так все прекрасно рухнет. Таким грохотом можно весь костел развалить до фундамента. Хорошо, что стены не посыпались, алтарь почти не покалечен, людей не поубивало...
Это уже думает капеллан дивизии майор Бжезиньский. Он вернулся с разминирования и приехал сюда проверить, как подготовили костел к завтрашнему пасхальному молебну. С утра здесь работал взвод молодых польских пехотинцев. Они вытаскивали из костела остатки крыши, ржавые оконные переплеты, обломки черных квадратных брусьев деревянных перекрытий, кирпичи, скамейки, превращенные в крошево. Они чистили и мыли каменные плиты пола, чинили алтарь. Сейчас он отпустил их на запоздалый обед. Хорошо бы завтра дождя не было...
Старого русского сапера он увидел, когда выходил из брамы костела. Увидел, как тот, испугавшись его офицерской формы, спрятал свечу в отворот шинели.
– Что тебе нужно здесь? – спросил Бжезиньский.
Дети перестали возиться в куче мусора, прислушались к звучанию незнакомого языка.
– Да так, товарищ майор... Просто так, поглядеть.
– Это правда?
Солдат промолчал.
– Что-нибудь случилось?
Солдат посмотрел в сторону, глухо ответил:
– Паренек у нас один подорвался на разминировании...
– Я слышал. Чего хочешь ты?
– Да знаю, что не положено... – с отчаянием прошептал солдат. – Однако хороший паренек был, молоденький...
– Я тебя спрашиваю: чего хочешь ты?
Солдат посмотрел на майора, опустил голову:
– Заупокойную бы ему прочитать, свечечку поставить...
– Как звали? – спросил капеллан, снова открывая браму костела.
– Семенов Алексей... второго саперного... Одиннадцатого ордена Красного Знамени...
– Пойдем, – коротко сказал капеллан и пошел вперед.
Солдат поспешно сдернул с головы шапку и побежал за ним.
Между высоких сырых стен под открытым весенним небом шли по трехсотлетним каменным плитам костела военный ксендз майор Якуб Бжезиньский, бывший командир минометной роты Первой польской дивизии имени Тадеуша Костюшко, и старый русский сапер Красной Армии. Бжезиньский уже на ходу стал снимать портупею и шинель. Солдат не знал, нужно ли ему тоже снимать шинель, и замешкался.
Когда кто-нибудь из разгулявшихся приятелей бестактно спрашивал майора Бжезиньского, действительно ли он верит в Бога, Куба поднимал на него свои тяжелые глаза, и тот уже никогда не рисковал повторить свой вопрос. Два месяца тому назад его спросил об этом самый близкий друг – Юзеф Андрушкевич. Они зарывались в промерзшую ледяную землю, вжимались в нее из последних сил, старались найти хоть малейшую защиту от смерти. Январская земля под ними тряслась и звенела. Разрывы ложились так часто, что они не могли поднять головы. Каждый разрыв должен был оказаться для них последним. И тогда Андрушкевич подполз к нему вплотную и почти серьезно спросил, верит ли он в Бога. И Бжезиньский ответил, что он сопровождает уходящую из мира идею и в этом, как ему кажется, его долг. И Андрушкевич попросил у него прощения.
Куба дошел до алтаря и положил шинель и портупею на оградительную панель. Солдат решил шинель не снимать. Гимнастерка грязная, потная, колодка на медали «За отвагу» такая засаленная – смотреть стыдно...
– Положи щуп... – тихо сказал майор солдату.
Аккуратно, чтобы не брякнуть в храме, солдат положил щуп на плиты перед алтарем. Майор потер усталое лицо ладонями, затем размял руки, вздохнул и спросил:
– Ничего, если по-польски? Я по-русски не умею.
– Бог один, товарищ майор. За одно дело воюем.
– Зажги свечу, сын мой, – совсем тихо проговорил капеллан. – Стань сюда. Преклони колени...
* * *
Герберт Квидде нашел место стоянки. Судя по тревожной обстановке, а Квидде чувствовал ее кожей, стоянка должна была быть недолгой. Не больше пяти-шести часов. Он выбрал небольшую, густо поросшую лесом возвышенность, в центре которой с незапамятных времен образовалась естественная маленькая ложбинка. Здесь и остановилась группа на отдых. С одной стороны возвышенности протекала фиолетовая, с серым отливом, узенькая речушка с капризным изменчивым течением, другая сторона спускалась к молодому перелеску. Сразу за перелеском начиналась неширокая полоса пахотной земли, ограниченная хорошо укатанной проселочной дорогой.
Расчет был прост: если следы пребывания группы в фольварке Циглеров или в лесном бункере уже обнаружены, группу, по всем логическим соображениям, будут разыскивать в низко расположенных лощинах или в глубине лесного массива. Вряд ли кому-нибудь в первый же момент придет в голову искать ее на возвышенности. А это грандиозный выигрыш во времени. Кроме всего, высотка давала неоценимые преимущества постоянного визуального контроля обстановки и первого выстрела.
После утомительного перехода Отто фон Мальдера так укачало в носилках, что теперь он забылся тяжелым больным сном. Квидде устроил генерала с максимальными удобствами, выставил с трех сторон предупредительные посты по два человека, а сам вместе с лейтенантом Эбертом и вторым абверовцем-верзилой вышел на недалекую рекогносцировку.
Сейчас они лежали метрах в полутораста от ложбинки, где схоронилась группа со спящим генералом. Квидде не отрывался от бинокля, верзила – от оптического прицела снайперской винтовки. Эберт нервно посматривал на часы и не понимал, почему Квидде забыл, что сегодня предстоит встреча с Аксманом – единственный шанс получить медикаменты для генерала. Тогда чего стоят все хлопоты Квидде вокруг этого полуразложившегося, смердящего генеральского тела? Тогда какого черта нужно таскать за собой этот гниющий, хрипящий полутруп? Зачем напрасно изматывать людей и оттягивать попытку прорыва и выхода из окружения?..
Но Квидде ничего не забывал. Его можно было упрекнуть в чем угодно, только не в забывчивости. Тем более когда речь шла об Отто фон Мальдере – самом близком ему человеке. Отношение Квидде к фон Мальдеру уже давно было лишено первоначальной юношеской влюбленности. Четко определить свои чувства к фон Мальдеру сейчас уже составляло бы непосильную задачу для самого Герберта Квидде. Это была устоявшаяся, в определенном смысле болезненная смесь сыновней почтительности, исступленной женской нежности и горделивого счастья сопричастности к делам и жизни этого человека.
Эберта же он задерживал по двум причинам: во-первых, для того, чтобы на обратном пути из городка тому не пришлось бы разыскивать неизвестное ему место привала, а во-вторых, этот лейтенантишка должен был бы знать сам: на подобные встречи необходимо приходить или раньше, или немного позже назначенного часа. Особенно если имеешь дело с поляком, работающим у русских...
Сильные линзы цейсовского полевого бинокля почти вплотную приблизили мир к глазам Герберта Квидде. Он видел, как небольшой колесный трактор волочил за собой широкозахватную, в несколько звеньев, борону – разрыхлял вспаханную землю. Чуть сзади, вытянувшись почти во всю ширину пахотного участка, в одиночку и попарно лошади волокли небольшие «конные» бороны.
Еще Квидде видел, как за боронами шли солдаты с самодельными холщовыми мешками, перекинутыми через шею и левое плечо. Из этих мешков они разбрасывали зерно в только что взрыхленную землю. Цепь за цепью, словно в штыковую атаку, шли сеятели. Равномерно и методично повторялся взмах правой руки. Светлым исчезающим веером летело зерно, и так же равномерно, в такт взмаху, на солдатских спинах подпрыгивало оружие.
Лучше всего были видны три санитарные палатки у самого края поля. Хорошо были различимы «додж», санитарный «газик» с красным крестом на фургоне, полевая кухня, а рядом, на импровизированном открытом очаге из немецкой орудийной станины, огромный котел. Но тут внимание Квидде целиком переключилось на примчавшийся со стороны дороги бронетранспортер. Он привез мешки с зерном, и какие-то люди в непонятной форме бросились разгружать его, складывать мешки у самого края вспаханной полосы.
– Бронетранспортер!.. Бронетранспортер!.. – прошептал Квидде.
Все, что было видно сквозь бинокль, было видно и через оптический прицел снайперской винтовки. Как только бронетранспортер выключил двигатель, в поле замолчал и трактор. Тут же стали слышны голоса: обрывки русских фраз, по-польски понукали лошадей, звучали какие-то команды. Тракторист спрыгнул на землю, подхватил пустое ведро, болтавшееся сзади трактора, и, размахивая им, помчался к водителю бронетранспортера. И вдруг сквозь русско-польскую разноголосицу потрясенный Квидде услышал, как бегущий с ведром тракторист в грязном комбинезоне жалобно кричал на чистейшем французском языке:
– Вася! Дружище! Спаситель мой!.. Дай еще одно ведро солярки! Последнее, клянусь тебе! У меня бак почти сухой! Дай, Вася!..
Герберт слишком хорошо с детства знал французский язык, чтобы ошибиться. Но он не мог поверить своим ушам. Он стал лихорадочно шарить биноклем по лицам работающих внизу, в поле, болтающихся у санитарных палаток, таскающих мешки с зерном и наконец увидел несколько человек в характерной английской и американской военной форме. Затем во французской... Союзники перекликались, смеялись, переругивались. Мало того, около палаток кто-то закричал по-итальянски. Так вот что это была за форма – не русская и не польская!..
Квидде все понял. Его красивое лицо исказилось до неузнаваемости, покрылось мелкими каплями пота, нервными красными пятнами.
– Идиоты!.. – с ненавистью прошептал он. – Ах как они об этом когда-нибудь пожалеют! Как они пожалеют...
Ему стоило большого труда взять себя в руки. Но, как с ним бывало и раньше, весь его нервный всплеск немедленно преобразовался в сгусток волевой энергии, которая в самые напряженные моменты заставляла его принимать точные, расчетливые решения в неожиданно создавшейся обстановке.
– Здесь пройдем, – одними губами сказал он. – Здесь самое слабое звено. Они говорят на слишком разных языках. Вооружены только поляки и русские. Прорыв начнем с наступлением темноты, чтобы ночью перейти фронт...
Со стороны речки, совсем близко от них, на своей скрипучей телеге с бочкой проехал Вовка Кошечкин. Из бочки выплескивалась вода. Вовка сидел мягкий, расслабленный, в одной нижней нательной рубахе. На плечи была накинута шинель. Рядом с Вовкой сидела Лиза, мурлыкала что-то себе под нос и пришивала к Вовкиной гимнастерке свежий беленький подворотничок. Вовка всеми силами старался скрыть радостное смущение и грозно, «по-мужичьи», прикрикивал на ни в чем не повинную лошадь.
Ствол снайперского карабина дрогнул и плавно поплыл за телегой, удерживая в перекрестии прицела Вовкин затылок. Но Квидде заметил это и неслышно прижал карабин к земле. Он отрицательно покачал головой и поднес палец к губам. И Вовка с Лизой безмятежно проехали мимо.
Скрип телеги затих уже полминуты тому назад, а Квидде все еще молчал. Наконец он посмотрел на часы и тихо проговорил:
– А теперь отправляйтесь к Аксману. Надеюсь, что вы не обманулись в нем. Хотя черт их знает, этих бывших славян... Вас, Эберт, будет подстраховывать ваш же коллега. – Квидде улыбнулся верзиле и отобрал у него винтовку с оптическим прицелом. – Думаю, там эта игрушка тебе не понадобится... Давайте назначим контрольное время. Вам хватит четырех часов"?
Настороженный тем, что его будет сопровождать «коллега», Эберт пытался понять, чем это вызвано, и не сразу ответил Квидде.
– Эберт, внимательней. Я вас спрашиваю: вам хватит четырех часов?
Эберт тоже посмотрел на часы, прикинул расстояние до городка и обратно, приплюсовал время на возможные затруднения с розыском Дмоховского, прикинул еще минут тридцать на непредвиденные осложнения и убедился в том, что Квидде просчитал весь их маршрут заранее, с учетом всего того, о чем думал сейчас Эберт.
– Так точно. Четыре часа должно быть достаточно.
– Прелестно... Значит, мы вас ждем ровно четыре часа. Плюс десять минут. Постарайтесь пригнать любую большую машину. Самое лучшее, если это будет транспортер. И пожалуйста, помните, что от вас сейчас зависит очень многое... – В голосе Квидде послышались искренние человеческие нотки. – В первую очередь – жизнь господина генерала. Если медикаменты будут у нас в руках, мы сумеем блокировать гангренозный процесс... Может быть, нам удастся его спасти. Потому что все остальное – уже дело техники и нашего профессионализма. Так ведь говорят в вашей службе?
Квидде подумал, что видит Эберта в последний раз и если все у этих двух кретинов сойдет удачно, то медикаменты принесет один верзила. С ним тоже не будет хлопот. Круг надо сужать. Лишние люди – всегда обуза в подобных ситуациях. После прорыва, по элементарной статистике наступательных боев такого характера, обычно остается не более пятнадцати – двадцати процентов личного состава. То есть человек восемь – десять... Превосходно! Этого вполне достаточно, чтобы ночью перейти линию фронта. «Чем меньше подразделение – тем легче в нем служить», – вспомнил Квидде старую армейскую поговорку. Ах, если бы удалось достать бронетранспортер!..
– Мне почему-то кажется, что как только лекарства окажутся в наших руках, судьба генерала будет решена. Не так ли, Дитрих? – ласково сказал Квидде Эберту.
«Судя по тому, что ты, педик, назвал меня впервые по имени, мою судьбу ты уже решил, грязная сволочь. Вот зачем ты посылаешь со мной этого дурака! Ну ничего... Если сегодня абверу и суждено потерять одного сотрудника, то это буду не я. А там посмотрим... Придет время – я и до тебя доберусь».
– Конечно, Герберт. Вы абсолютно правы, Герберт.
Эберт с наслаждением дважды назвал Квидде по имени, зная, что тот не выносит по отношению к себе никакого амикошонства. Как и все люди, несущие в себе тайные пороки, Квидде больше всего заботился о внешнем сохранении чести, достоинства и респектабельности. Он удивленно поднял брови, вонзил ледяные глаза в лейтенанта Эберта и увидел молодое, простоватое лицо с честным выражением внимания и готовности выполнять любое приказание старшего по званию. Квидде понял, что явно недооценил этого холодного убийцу, этого юного паршивца из абвера.
Он заставил себя улыбнуться и мягко сказал:
– Удачи вам.
На секунду он даже пожалел верзилу. Тот все-таки был прекрасным снайпером! Впрочем, какая разница? Значит, вернется один Эберт. Если вернется...
– Я желаю вам только удачи, – повторил Квидде.
К участку, где раскинул свои шатры пункт первой помощи медсанбата, Станишевский, Зайцев и Андрушкевич подъехали в тот момент, когда стихийный футбольный матч, в котором участвовали человек сорок, был в самом разгаре.
Десять минут тому назад был объявлен перерыв на обед, но с пловом Тулкун слегка запаздывал – рис еще был немного жестковат. Тулкун нервничал и умолял всех подождать «сапсем немного... сапсем-сапсем немного!». Только поэтому на поле возник футбол. Отменять перерыв, снова браться за работу, чтобы прервать ее через четверть часа, не было сил. И тогда над клочком жесткой, невспаханной земли у палаток медсанбата в воздух взвился обычный детский красно-синий мяч с желтыми полосами и прозвучал торжествующий вопль Майкла Форбса, который произнес одно-единственное магическое слово, мгновенно объединившее представителей России, Польши, Америки, Италии, Англии, Франции и Бельгии в одну команду.
– Футбол!!! – заорал на все поле Форбс.
И свершилось чудо: только что лежавшие без сил на мешках с зерном, просто на голой земле, в изнеможении сидевшие на том месте, где их застал перерыв, все бросились на этот, к счастью, непропаханный клочок земли, на который с неба возвращался красно-синий детский мячик с желтыми полосками посредине.
– Футбол!!!
Карабинами, составленными в пирамиды, обозначили «ворота», и места голкиперов заняли с одной стороны Луиджи Кристальди, а с другой – конечно же (чтобы не бегать по полю), медсанбатовский ленивый шофер Мишка.
Моментально образовались «зрители» – пожилые солдаты, Зинка, Лиза, Васильева, Невинный. Они уже кричали, «болели», спорили и даже повизгивали.
Прежде чем броситься в гущу футбольной битвы, механик-водитель бронетранспортера поставил на капот своей машины маленький изящный трофейный патефон с одной пластинкой, и теперь над русско-польско-англо-итальянско-французской разноязыкой мешаниной, несшейся с поля, звучала еще и знойная испанская песня Роситы Сираны!
Не соблюдались никакие правила. Не было никаких команд «противников». В футбол играли без каких-либо национальных различий и деления на «наших» и «ваших».
– Вот это да! – в восторге закричал Андрушкевич и тут же стал стягивать с себя шинель. – Откуда мяч достали?
– Союзники приволокли! – крикнула ему Зинка.
– Зиночка! Любовь моя!.. Ты ли это?!
– Кто же, кроме меня, товарищ подполковник?
– Так похорошела, что не узнать!
Подлетел запоздавший штабной «хорх». Оттуда выскочил Санчо Панса. Андрушкевич бросил своему водителю на руки шинель, ремень с пистолетом, шапку и помчался на поле с криком:
– Станишевский, ты свободен! Зайцев, за мной! Давай сюда!.. Сейчас мы им покажем!!!
На ходу сбрасывая шинель, Валерка, как таран, врезался в игру, перехватил мяч у Сержа Ришара и понесся к воротам Луиджи Кристальди. За ним с гиканьем и улюлюканьем бросилась вся ватага. По краю поля в одной нижней рубахе бежал Вовка Кошечкин и кричал умоляющим голосом:
– Сюда! Товарищ-старший лейтенант, мне!.. Вот он я!..
Зайцев оценил выгодную ситуацию, в которой находился не обремененный преследованием Вовка, и ловко отпасовал ему мяч. Вовка получил пас, увернулся от Джеффа Келли и перекинул мяч Андрушкевичу. Замполит принял мяч головой, сбросил его себе на ногу под удар и немедленно был сбит толстым и стремительным Майклом Форбсом. Но молоденький польский подпоручик без труда отобрал мяч у Форбса, рванулся было вперед и в ту же секунду был погребен вместе с мячом под грудой навалившихся на него тел.
В воротах, как истинный голкипер, метался Луиджи Кристальди. Из-под кучи-малы с трудом выбрался Рене Жоли. Прихрамывая и смущенно улыбаясь, он поковылял к Тулкуну Таджиеву, который лупил шумовкой по огромному закопченному казану и отчаянно кричал:
– Через пять минут плов подаю! Через пять минут плов подаю! Плов ждать не может! И так – зиры нет, барбариса нет!.. Плов горячий кушать нужно! Барашек совсем свежий! Руки мойте! Мойте скорее руки!
С капота бронетранспортера в весенне-польское небо летели страстные, жгучие испанские слова любви Роситы Сираны. На всех языках вопили несколько десятков зрителей и сорок футболистов. Чуть не плакал Тулкун у своего казана.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.