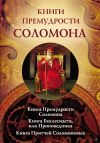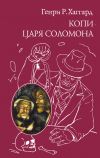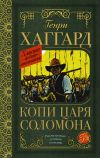Текст книги "Копи царя Соломона"

Автор книги: Владимир Лорченков
Жанр: Боевики: Прочее, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Владимир Лорченков
Копи царя Соломона
Кое-кто не шибко поверит, что в 14 лет девочка уйдет из дому и посреди зимы отправится мстить за отца, но было время – такое случалось.
Чарльз Портис. Настоящее мужество
– А зачем вам путешествовать? Лучше бы узнали свою родину!
– Ну, отчасти чтобы изучить язык и отчасти – сменить обстановку.
– А свой родной язык вам не надо изучать?! А свою родину вам не надо узнать поближе? Родину, которую вы совсем не знаете, родной народ, родную страну?
– Сказать вам правду, мне до смерти надоела моя родная страна!
Джеймс Джойс. Мертвые
Сплошной ярко-синий фон. Несколько секунд он слепит зрителя, после чего яркость становится все более и более размытой. Мы видим – поначалу скорее намек на это – тоненькую белую трещинку на фоне. Она становится все шире и шире, потом снова тоненькой. Камера отъезжает, и мы наконец видим, что это синее небо, в котором нет ни одного облака. Именно поэтому так хорошо заметна паутинка, висящая в небе. Возле паутинки появляется белый росчерк. Это самолет. Камера берет общий план, и мы видим, что самолет садится на полосу Кишиневского аэропорта. О том, что это за аэропорт, мы можем судить по надписи «Кишиневский аэропорт» и молдавской повозке типа «каруца», которая стоит возле ограды аэропорта. Лошадь задумчиво смотрит в землю, не обращая ни малейшего внимания на самолет. Тот, подпрыгнув, приземляется и несется по полосе, постепенно тормозит, и мы слышим аплодисменты. Салон самолета, аплодируют пассажиры. Это наполовину еврейские выходцы из Бессарабии, наполовину молдаване, которые вышвырнули еврейских выходцев из этой Бессарабии в Израиль в конце 80-х, а сейчас ездят к ним, в Израиль, нелегально работать. В результате этих сложных взаимоотношений лица у всех в салоне, независимо от национальной принадлежности, сконфуженные. Всем довольно неловко, и аплодируют они не только удачной посадке, но и тому, что досадливое соседство закончилось. За окнами мелькает трава у взлетно-посадочных полос, самолет чуть подпрыгивает. Все аплодируют, словно участники советского Съезда 1937 года решению расстрелять участников Съезда года 1936-го.
Голос объявляет:
– Ст Тлвв Кшв свршл псдк врпрт кшн спс зтчтвысн темпрзаборт пл двть спс.
– А? – говорит старенький дедушка, что сидит у окна.
– Самолет Тель-Авив совершил посадку в аэропорту Кишинева, – говорит ему соседка.
– Спасибо, что вы с нами, температура за бортом плюс двадцать, спасибо, – говорит она.
– Экая ты… внимательная, – говорит дедушка.
– И молоденькая, – говорит он.
– Моя внучка тебе в мамы годится! – говорит он, причмокивая.
Смотрит на соседку ласково. Это типичный дедушка Кишинева 70-х – добряк, ветеран ВОВ с кучей наград, учитель математики или физики… Наверняка давал частные уроки, чтобы накопить денег на репатриацию. Таких еще иногда судили за предложения несовершеннолетним ученицам совершить, как пишут в протоколе, действия развратного характера. Обычно полный срок они не отсиживали, потому что их освобождения как диссидентов требовали США и Рейган. Видимо, что-то такое есть в ауре старичка, и соседка верит в энергетическое поле, поэтому она говорит:
– А вы, случайно, математику не преподавали?
Старик вместо ответа поджимает губы, отодвигается от соседки и глядит в окно до самой остановки самолета. Соседка смотрит на него недоуменно, но потом отвлекается на обычные действия по прилету: одернуть кофту, выключить мобильный телефон, приподняться, чтобы открыть полку наверху, взяться за чемодан, отпустить чемодан, посмотреть в начало салона, в конец… Дедушка смотрит в окно, он помолодел лет на двадцать, выглядит собранным, как человек, готовый к неприятностям. Мы понимаем, что уж математику-то он точно преподавал…
Соседка встает, и мы можем рассмотреть ее получше. Это красивая молодая девушка лет двадцати, не больше. У нее черные волосы, она одета небрежно и выглядит вызывающе безвкусно на фоне молдаванок в ярко-малиновых ботфортах, чулках в сеточку и топиках. На девушке брюки, причем даже не облегающие, кеды, волосы собраны в хвост. Нет макияжа. У нее небольшая, но красивая и высокая грудь, и благодаря двум расстегнутым пуговицам мы это видим. Девушка очень, невероятно похожа на голливудскую киноактрису Натали Портман. Сходство подчеркивается тем, что мы знакомимся с этой актрисой – как и широкий зритель с Портман – в эпизоде с намеком на педофилию. Девушка берет чемодан с верхней полки и медленно выходит из салона за очередью из гастарбайтеров и израильтян. Дедушка сердито глядит ей вслед – почему-то на задницу – и бурчит что-то. Стюардесса мягко трогает за локоть, и дед возвращается в легенду старичка-добрячка. Пускает слюни, умильно улыбается, позволяет понести свой чемодан… Смена кадра. Наша девушка стоит в автобусе, который везет пассажиров к терминалу. Двери распахиваются, и автобус мгновенно становится пустым: толпа стремится занять очередь на паспортный контроль поскорее. Единственная, кто не спешит, – наша «Натали Портман». Она выходит из автобуса последней и смотрит в небо. Оно бесконечно синее…
Ретроспектива
Снова синий фон. Камера отъезжает, и мы видим, что это синий костюм пациента больницы. Судя по тому, что в коридорах снуют показанные на заднем плане афроамериканцы, мы понимаем, что дело происходит не в Молдавии. Молдавский пациент еще не достиг того уровня толерантности, который позволяет довериться чернокожему. Впрочем, не только молдавский.
– Суки чернозадые… – говорит мужчина, глядя в коридор.
– Наташка… обещай, – говорит он.
– Обещай, что не пойдешь замуж за негра, – говорит он.
– Папа, не волнуйся, – говорит девушка и гладит мужчину по руке.
– Дай слово, – говорит мужчина.
– Даю слово, – говорит девушка.
Крупным планом – скрещенные за спиной пальцы, как делают, когда произносят необязательную клятву. Мужчина успокоенно кивает. Он задыхается.
– Гребаные молдаване с их гребаным «Жоком»! – говорит он.
– Милый, – просит женщина, похожая на нашу Наталью.
– Тебе вредно волноваться, да и курить надо было меньше, – говорит она.
– Курил бы нормальные сигареты с фильтром, все было бы окей, – говорит мужчина (он именно произносит «окей» именно как слово, как эмигрант первой волны, который уверен, что это первое слово из его английского. – Примеч. В. Л.).
– Гребаный «Жок»! – говорит он и кашляет.
Мама и дочь переглядываются. Мать поправляет мужчине подушку. Он хрипит:
– Сонька, газету принеси, у уродов этих черножопых попроси…
Женщина, терпеливо улыбнувшись, встает и выходит. Мужчина рывком бросается к дочери, хватает ее за руку, заставляет наклониться, говорит, брызгая слюной (она разлетается, мы видим это крупным планом).
– Наташка, слушай, кино это твое – фигня, – говорит он.
– Показы, портфолио-шмофолио, – говорит он.
– Хватит фигней страдать, – сурово говорит он.
– Ну ты только представь себе, кишиневская еврейка – и звезда Голливуда, – говорит он.
– Да это же, мля, обхохочешься, – говорит он.
– Наталья Авнерова Хершлаг, обладательница «Оскара» и исполнительница главной роли в… в… блядь, в «Звездных войнах»! – вспоминает он последний фильм, о котором хоть что-то слышал.
– Аха-аха, – хохочет он, пока смех не переходит в содрогания тела, какие бывают при рвоте.
Отплевавшись в утку, поднесенную дочкой, мужчина вытирает рот – синий рукав халата темнеет от слюны и, кажется, от крови – и продолжает:
– Мы с мамой терпели эти твои закидоны, потому что ты наша доча, – говорит он, и мы видим в его ласковой улыбке что-то неуловимо похожее на улыбку ветерана из самолета.
– Но теперь я умираю, и ты должна заботиться о маме и сестрах, – говорит он.
– Вырастить их нормальными девочками, которые уважают Тору, учатся в университете, – говорит он.
– И это сможет сделать бизнесвумен, а не официантка, которая мечтает стать актриской вшивой, – говорит он.
– Да, папа, но чем мои планы стать звездой кино хуже твоих иллюзий разбогатеть? – рассудительно спрашивает девушка, упрямо склонив голову, и мы видим, что она, несмотря на юность, человек, что называется, основательный.
– С сотней миллионов долларов ты нашу бензоколонку в сеть превратишь, – говорит отец.
– И продавать там будешь бензин, а не мочу ослиную, – говорит он.
– А-кха-кха, – говорит он.
– Гребаные папиросы «Жок», гребаная кишиневская табачная фабрика «Тутун-ЧТЧ», гребаный рак легких! – говорит он.
– Кстати, обещай мне, что не будешь курить! – говорит он.
– Даю слово! – говорит девушка.
В палату заходит мама – мы видим, что это весьма ухоженная дама в соку, и можем предположить, что безутешной эта вдова не останется, – с газетой в руках. Отца, судя по всему, посещают такие же мысли, что и зрителя. Мельком глянув на жену, он говорит:
– Нет, Сонечка, я же не читаю эти сраные местечковые «Брайтон Ньюс», – говорит мужчина раздраженно.
– И «Молодежь Молдовы» долбаную не читал! – говорит он.
– Вечно ты все ПУТАЕШЬ! – говорит он.
– Да я ИМЕЛ их! – говорит он.
– Папа! – говорит Наталья.
– Принеси мне нормальную, человеческую газету! – говорит мужчина.
Камера берет его общим планом – до сих пор мы видели мужчину по частям – половина фигуры, только лицо, руки крупно, как угодно, но не целиком, – и мы видим, что это очень маленький, не выше полутора метров, мужчина. Он похож на Денни Де Вито, будь тот бессарабским неудачником. В общем, просто похож на Де Вито (оптимально уломать Де Вито сниматься. – Примеч. В. Л.). В ярости комкает газету и швыряет ее в жену. Та, улыбнувшись, выходит, переглянувшись у входа в палату со статным чернокожим доктором. Тот, пожимая плечами, выходит. Отец девушки кашляет, садится и продолжает разговор, который они вели наедине.
– Пятиста миллионов будет достаточно, – говорит он.
– Папа? – говорит девушка.
– А, да, деньги, – говорит мужчина.
– Считай, они в кармане, – говорит он.
Дочка оглядывается в поисках врачей, она явно подозревает, что у отца предсмертный бред.
– А, ну да, – говорит мужчина.
– Самое главное, – говорит он.
– Но только сначала обещай мне, – говорит он.
– Три вещи, – говорит он.
– Никогда не спать с негром, никогда не курить и никогда не выходить замуж за молдаванина, – говорит он.
– Иначе ты мне не дочь! – говорит он.
– Хорошо, – говорит с улыбкой дочь, которая явно не разделяет предубеждений папы в том, что касается афроамериканцев и табака.
– Обещаю, – говорит она.
Мужчина кивает. Манит к себе дочь пальцем. Начинает шептать на ухо.
Ретроспектива-2
Синий фон. Отъезд камеры. Мы видим синий абажур лампы, стоящей в центре круглого стола. Стол тяжелый, деревянный, мельком – белый сверток. Камера обводит комнату, как беглый взгляд. Мы видим типичную хрущевку: стенка-шкаф с книгами по краям и хрусталем в центре, какие-то вымпелы на чешских обоях, значки, тапочки в углу, кресло-качалка, незастекленный балкон за деревянной дверью… (при просмотре этого у зрителя должно возникнуть физическое ощущение запаха кошек. – Примеч. В. Л.). Мраморная табличка:
«В этой квартире с 1953 года живет мастер спорта по настольному теннису, почетный председатель профкома завода «Счетмаш» товарищ М.Д. Перельмутер».
Камера останавливается на резной маске в проеме двери, отъезжает чуть дальше, и мы видим, что это не маска, а лицо древней старухи, с удивительно выпяченным задом. Видно, что в юности – выпавшей на времена примерно третьей русско-турецкой войны – она любила поддавать (ну, в смысле секса, а не идиомы насчет алкоголя. – Примеч. В. Л.). Старуха говорит:
– Кис-кис, – говорит она.
– Борюсик, сюда, – говорит она.
Камера скользит вниз, к ногам: там жирный кот трется о ноги старухи. Та, по-прежнему без какого-либо выражения на лице, поворачивается и уходит. Камера занимает ее место. Мы видим стол с синей лампой и что белый сверток – это конверт с младенцем. Крупным планом младенец. Он спит.
Общий план стола – вокруг него сидят двенадцать человек. Все они очень странно одеты. На всех добротные советские костюмы, но почему-то у каждого деталь, выбивающаяся из общей стилистики одежды. При этом каждый держит в руке кинжал. Детали по кругу: маска из золотой фольги, как у венецианской проститутки из высшего света, вышедшей потрахаться всласть на карнавал; накладные пейсы, отчего их обладатель становится похож на гипертрофированного Пушкина; ярко-красная кипа, больше похожая на шапочку кардинала, но видно, что люди старались на ощупь и воспроизводили кипу по рисункам; накладной нос, делающий его обладателя карикатурным пауком-банкиром с плакатов фашистской Германии…
Вообще, на дворе 60-е, сионизм в СССР только начался, поэтому многое еще не придумано: тысячелетняя история Храма, еврейские предки Менделеева и т. д.
Лица мужчин напряжены. В одном из них – с фальшивыми пейсами – мы узнаем отца Натальи, который в предыдущей сцене умирает в нью-йоркском госпитале. Он же наконец говорит:
– Ну и?..
Никто не отзывается. Мучительная, долгая пауза. Мужчины выглядят как руководство строительного треста МССР, которое узнало, что их будет проверять ОБХСС. Очень смущенные, задумчивые и грустные, но в то же время не без нотки решимости. Наконец тот, что в маске из фольги, говорит:
– Судя по протоколам сионских мудрецов, нам нужно нанести ему раны сюда, сюда и сюда…
При этом он очень осторожно и издалека тычет ножом в те части свертка, в которые, предположительно, и надо бить.
– А потом сюда и так, – говорит он.
Садится. Все переглядываются. Молчание. На пороге комнаты появляется старуха.
– Борюсик, – говорит она.
– Мама, хватит вам уже со своим Борюсиком! – раздраженно говорит мужчина в маске.
– Цыц, – говорит, не меняя тона, старуха, и мужчина сникает.
– Борюсик, – говорит старуха.
– Мама, меня ЗАТРАХАЛИ ваши коты, – говорит старичок.
– Забей пасть, гой несчастный!!! – говорит старуха.
Кот глядит на мужчину в маске с ненавистью. Видно, что они соперничают в этом доме… Наконец кот Борюсик снова бросается к старухе в ноги. Трется. Старуха поворачивается и уходит. Мужчина с накладными пейсами вынимает из кармана пачку сигарет без фильтра – «Жок» – и закуривает, не отрывая взгляда от младенца. Сосед, так же глядя на ребенка, протягивает руку и вынимает папиросу из пальцев отца Натали. Гасит о стол. Укоризненно качает головой.
– А, ну да, при детях же, – бормочет отец Натали.
– Докуришься ты с этим, блядь, «Жоком» до рака легких, – говорит мужчина в маске.
– Я? – говорит отец Натали.
– Да я еще всех вас переживу, отродье, – говорит он и смеется тихонько.
Крупным планом смеющийся рот. Камера отъезжает, и мы видим, что это кашляет, задыхаясь, уже постаревший отец Натали. Та сидит на краю кровати в госпитале и глядит на отца с ужасом.
– И вы?.. – говорит она.
Мужчина терпеливо взмахивает рукой. Снова комната. Крупным планом показаны лица мужчин. По ним стекает пот. Медленно… капли ползут, как в фильмах Бекмамбетова, который еще не родился. Крупным планом показано, как одна капля падает на стол и разбивается на тысячи микроскопических брызг. Отец Натальи хриплым шепотом говорит (рот с золотыми коронками крупно):
– Давайте все-таки начнем…
Человек с накладными пейсами так же шепотом поддерживает тему. Говорит:
– Предлагаю, чтобы первым… первый…
– Чтобы, так сказать, первый кирпичик заложил самый старший и уважаемый из нас, – говорит он.
– И это, – говорит он.
– Товарищ Эфраим Эрлих, – говорят все хором, но шепотом, отчего становятся похожи на хор сумасшедших кубанских казаков (те ведь тоже ряженые. – Примеч. В. Л.).
– Товарищи, – протестуя, шепчет мужчина с идиотской звездой на груди.
Лица остальных непреклонны.
– Товарищи, – шепотом говорит избранный на роль первопроходца товарищ Эфраим Эрлих.
– Не стоит забывать, что я всего лишь кандидат в мастера по шахматам МССР, – говорит он.
– А среди нас есть победитель республиканских соревнований, серебряный призер всесоюзных состязаний, – говорит он.
– Мастер спорта, товарищ Яков Копанский, – говорит он.
– Верно, – снова шепотом поддерживает его кубанский хор семитов-казаков (при их слаженных выдохах зрителю становится понятно, что никакого противоречия в имидже и судьбе певца Розенбаума нет. – Примеч. В. Л.).
Выпрямив спину, встает человек, который и оказывается мастером спорта по шахматам, Яков Копанский. У него очень необычная для шахматиста внешность: покатый лоб, маленькие злые глазки, уродливое лицо, фигура громилы… Он поправляет на лице маску царя Давида (о том, что это она, мы понимаем по корявым буквам на лбу, стилизованным под корону – «маскацарядавида») и говорит. У него неожиданно писклявый голос.
– Ну что же, товарищи, – пищит он.
– Кто-то должен решиться, – говорит он пискляво.
Решительно тянется к ножу. Заносит его над свертком. Камера стремительно несется вдоль стола, потом резко взмывает – с ножом, и опускается, внезапно застыв на уровне сантиметров 10–15 от стола. Крупным планом сверток. Мы видим, что младенец открыл глаза.
Их сменяет крупный план глаз собравшихся. Все расширены, понятно, что все в ужасе. Снова лицо младенца с раскрытыми глазами. Он двигает губами. Причмокивает. Яков Копанский сглатывает. Глубоко вдыхает, заносит руку вновь.
– Прекратите! – говорит мужчина в кипе.
– Да что же это такое, товарищи! – говорит он.
– Соломон, Сион, Иегова, – говорит он.
– Сказки идиотские! – говорит он.
– Товарищи, мы с ума сошли! – говорит он, срывая кипу.
– Мы же простые советские люди! – говорит он.
– Да это же сумасшествие, – повторяется он.
Встает. Говорит:
– Я ухожу!
– И я, – говорит еще один.
– И я! – восклицает третий.
Оставшиеся девять глядят на них зло и с легкой завистью, как одноклассники на школьников, осмелившихся забить на урок. Тройка демонстративно выходит. Показана хлопающая дверь, звук удара… Тишина. Все поворачиваются к младенцу.
– Ну что же, – нарушает молчание самый старый из собравшихся, седой старичок в халате звездочета.
– Это было первое испытание, и они не прошли его, – говорит он.
– …они думали, что я и правда собираюсь убить ребенка… – говорит он.
– Вот придурки! – говорит он.
– Но я собираюсь убить их! – говорит он.
– Ведь они знают нашу тайну… – говорит он.
Показано крупным планом лицо одного из собравшихся. Мы видим, что это женщина. Она очень похожа на писателя Улицковую.
– Люся, – говорит ей старичок.
– Возьми засранца и отнеси мамке, – говорит он.
– Ребе?! – говорит Люся.
У нее вид экзальтированной женщины из средневекового монастыря, которой показали фигурку Иисуса, вдруг вроде бы ожившую, а потом вдруг убрали ее в шкаф, дальше пылиться.
– Мы что, не принесем его в жертву Сиону?! – спрашивает она.
– Нет, – говорит ребе.
– Так надо, Люся, – говорит ребе.
– Значит, крови не будет, – говорит Люся с огорчением.
– Будет, Люся, – говорит ребе.
– Ведь те трое мудаков, что ушли отсюда, обязательно разболтают обо всем, – говорит он.
– И мы убьем их, – говорит он.
Люся вздыхает с грустью, но и с облегчением. С отвращением берет сверток – каждой рукой двумя пальцами. – И брезгливо подносит к окну.
Один из мужчин распахивает его.
– Аурика! – визгливо кричит Люся.
Мы видим, что все происходило в квартире на первом этаже. В окне появляется лицо дворничихи.
– Забирай своего щенка! – говорит Люся.
– Так че, это, резать не буите? – спрашивает Аурика.
– Да мы пошутили, ха-ха, – говорит мужчина, который стоит у окна.
Смеется неискренне, как партийный функционер на собрании рабочих, после вопроса о том, куда девалась картошка из магазинов. Аурика явно ничего не понимает – ни куда девалась картошка, ни почему ребенка, согласно уговору, не зарезали. Все это время, пока она стоит, тупо глядя на сверток, Люся держит его, брезгливо отворачиваясь.
– Деньги не верну! – начинает наконец выдавать соображения Аурика.
– Ах, оставьте, – говорит Люся.
– Значитца, и деньги мне? – говорит Аурика.
– Да, да, берите же скорее, – говорит Люся.
Аурика, оживившись, хватает сверток и уходит, бормоча: «кровиночка моя… жиды… эвона как… чуть было не умучали… пейсатые мля… а ежели каждую пасху по одному… семь ртов-то… панарицыя!»
Люся брезгливо глядит ей вслед. Бормочет: «быдло… опрощенцы чертовы… инфантильный народ… поколение-червь… зеленый шатер… а если за щеку, то на полшишки… гои мля…». Старичок за спиной Люси кашляет. Она спохватывается и возвращается к столу. Показано сзади, как она медленно преодолевает расстояние всего в три шага. Старичок говорит:
– Скинем машинерию…
– Мля, фанаберию, – поправляет он себя.
Из-за того, что старик матюгнулся, обстановка становится намного непринужденнее. Все улыбаются, лица расслаблены, раскраснелись.
– Девять, – говорит старичок…
– Лучше меньше, да лучше, – говорит он.
– Итак, когда остались самые стойкие, – говорит старичок.
– Я расскажу вам о сокровищах моего брата, Царя Соломона… – говорит он.
– Ребе знает секрет долголетия Талмуда, – шепчет в ужасе Люся.
– Да нет, фамилия моего двоюродного брата – Царь, – роняет ребе, даже не глядя на Люсю, которая – чем быстрее происходит действие, тем понятнее становится всем – полная дура.
– Царь Соломон… – говорит старичок…
Ретроспектива
Черно-белая пленка. Грязная дорога, на которой пузырятся капли дождя. По дороге бредут человек пятьдесят: это женщины, дети и несколько стариков. Позади них идут, закутавшись в плащи-дождевики, люди в немецкой военной форме. Впереди колонны – тоже человек в плаще, но он, мы видим это по фуражке, офицер. Котелки солдат позвякивают. Все молчат, даже самые маленькие дети. Показаны крупным планом лица женщин из колонны – у них такие же большие грустные глаза, как у попугая Кеши, озвучившего его актера Хазанова или Люси из предыдущей сцены. Только взгляд у женщин из колонны блуждающий, слегка безумный. Никто из них явно не похож на человека, который готов рассказать вам о шахматном этюде или показать сценку из жизни кулинарного техникума. Взгляд одной из женщин беспрерывно скользит по окрестностям, как у актера Малюты Скуратова в фильме про Ивана Грозного, который снял режиссер Эйзенштейн. На сгибе левой руки у нее девочка лет двух, а в правой руке – рука пацана лет пяти, который идет за матерью. Та, оглядывая мир в непрерывно скользящем режиме, с силой – можно сказать, с ненавистью – толкает пацана в кусты. Заминка.
– Сука, сука! – визжит другая женщина, которая идет сзади.
– Твой щенок сбежал, сбежал!.. – кричит она, пытаясь схватить солдата за рукав.
– Нас всех из-за тебя расстреляют! – кричит она.
– Жидовка, тварь, – кричит она, картавя.
– Тварь. Сука! – кричит она.
– Господин офице… – кричит она, пытаясь ударить мать, столкнувшую сына в канаву.
Тот отталкивает истеричку, она падает в грязь с двумя своими детьми, которых несла. Замешательство в колонне. Мать сбежавшего пацана смотрит в сторону кустов, подбородок дрожит, как будто она силой мысли хочет что-то передать. В глазах нет надежды, потому что пацан еще слишком маленький. Женщина выглядит, как тот, кто ждет пощечины. Конечно, в переносном смысле. Хотя и в прямом она пощечину получает – ее несильно хлещет по лицу солдат. Она упрямо глядит в сторону кустов, за которыми овраг, а за ним еще и еще – холм, по которому проходит дорога, покрыт такими оврагами из-за оползней (характерный пейзаж для Молдавии. – Примеч. В. Л.).
Крупным планом кусты. Солдаты. Офицер, который подходит к этой части колонны.
Кусты не шевелятся. Лицо матери. Кусты. Офицер слушает солдата, короткая команда. Два солдата спускаются к кустам. Кусты крупно. Не шевелятся. Мать. Офицер – скучающее, безразличное лицо. Солдаты возвращаются. Говорят что-то офицеру. Тот коротко командует. Несколько минут глядят друг на друга с недоумением. Потом солдаты поворачивают мать – все еще с маленькой девочкой на руках, – офицер безо всякой подготовки поднимает пистолет и стреляет женщине в затылок. Та падает, офицер переворачивает тело ногой и без пауз стреляет в лицо девочке. Снова пара команд. Все расходятся по своим местам, колонна идет дальше.
– Нас не расстреляют, нас не… – шепчет истеричка своим детям.
Те достаточно велики, чтобы идти сами, но она несет их на руках.
Показаны крупным планом кусты. Там лежит, глядя в небо, мальчишка. Он так и не сумел сбежать, и его мать напрасно пыталась силой мысли заставить его это сделать. Не заметить его было совершенно невозможно.
Значит, солдат, который увидел мальчишку, просто его пожалел.
Черно-белые фигурки двигаются, и сразу за холмом – внезапно, для зрителя в первую очередь, – мы видим деревню. (Опять же очень характерный для Молдавии пейзаж: из-за холмов местность, которая кажется безлюдной на тысячи километров, за пять минут пути оживает. – Примеч. В. Л.) Колонна молча проходит через деревню. Вдоль дороги стоят – молча – люди, которых можно поначалу принять за деревянные столбы, какие вырезали в 60-х годах ХХ века евразийцы из Академии наук СССР, чтобы подкрепить свою теорию «тысячелетних скифских Мадонн». Один из них – некрасивая крестьянка – внезапно заговаривает. Говорит по-румынски, поэтому идут титры.
– Эй ты, которая в красной кофте, – говорит она (картинка по-прежнему черно-белая. – Примеч. В. Л.).
– Я? – спрашивает, не останавливаясь, одна из женщин.
– Ты, ты, – говорит крестьянка.
– Ты и по-нашему говоришь, я знаю, – говорит она.
– Да, говорю, – говорит женщина.
Несмотря на то, что разговоры с колонной – очевидно – запрещены, солдаты и офицер не пытаются заставить замолчать.
– Вас все равно расстреляют, – говорит крестьянка.
– Откуда ты знаешь? – говорит женщина.
– Нам сказали, что нас отвезут в специальный город, – говорит женщина.
– Не верь им, они врут, – говорит крестьянка.
– Вы уже пятые, кого они ведут так, – говорит она.
– У колодца, что за первой верстой, – говорит она.
– Там, где заброшенный карьер? – говорит женщина, выражение лица которой не меняется.
– Да, – говорит крестьянка.
– Мужайся, я буду молиться за тебя, – говорит она.
– Все в руках Бога, – говорит женщина.
– Спасибо тебе, – говорит она.
– Сменяй кофту на каравай хлеба, – говорит крестьянка.
– Тебе уже все равно, – говорит крестьянка.
Женщина на ходу – не меняясь в лице – снимает с себя кофту и протягивает крестьянке, которая идет рядом с колонной. Остальные селяне стоят, даже не поворачивая головы. Крестьянка берет кофту и протягивает хлеб – то есть ради обмена она и вышла из дома. Как только обмен произведен, крестьянка застывает с кофтой в руках и стоит, как и все сельчане. Еврейка, отщипнув кусок себе и детям, передает каравай другим, и так хлеб идет до самого конца колонны. Последний из идущих – старик – машинально протягивает кусок назад, и один из солдат так же машинально этот хлеб берет.
Показана уходящая колонна.
Колонна медленно ползет.
Скрывается за поворотом. Крупно – лица селян, морщинистые, грубые, суровые.
Пейзаж общим планом. Очень крупно – как на картинах голландских художников.
Звуки выстрелов. Если присмотреться – опять же, тут все по принципу голландской живописи XVII века (я советую оператору сначала изучить фламандские пейзажи. – Примеч. В. Л.), – можно заметить в углу буквально несколько черных точек, которые мечутся и по которым мы можем лишь предположить, что происходит у расстрельного рва. Но это от силы одна десятитысячная часть общего плана сверху.
Потом крупным планом лица двух детей на руках истерички. Камера отъезжает, и мы видим, что они мертвые и лежат в куче тел в яме. По лицам барабанит дождь. Камера отъезжает. Мы видим мальчишку, которого ценой своей жизни и жизни сестры спасла мать. Он стоит молча, небо над ним быстро темнеет.
Мальчик дрожит.
Ретроспектива – возврат в хрущевку
Люди вокруг стола мрачно молчат. Люся картинно плачет. Старичок, повернув голову, глядит в проем двери, там старуха с чайником. Заносит, молча ставит его на стол, кивает в сторону шкафа. Люся, рыдая, встает, открывает шкаф, вытаскивает стаканы. Разливает чай.
– Бостонское чаепитие, – говорит задумчиво старичок.
Все улыбаются, сразу видно, что в этом кругу принято интеллектуально шутить. Чтобы подчеркнуть это, показана крупным планом обложка книги в серванте. «…тругацкие…» – написано на корешке. «..оветская фантастика…» – написано на другом. Корешки тщательно подобраны по цветовой гамме и в цвет стенки.
– А дальше? – спрашивает, глотая слезы, Люся.
Старичок суровеет. Переход мгновенный – старик в этот момент выглядит как ветеран, которого позвали на встречу с молодежью, который попал в актовый зал школы, ошалел от обилия пионерок и откровенно любовался их ножками, но был вынужден прерваться, чтобы рассказать про свой подвиг.
Крупным планом блестящие, бараньи, навыкате, глаза Люси.
Ретроспектива
Снова ров, на краю женщины и дети, плач, крики, выстрелы, люди падают в землю, барахтаются, их добивают. В общем, один из частых в годы ВОВ расстрелов еврейского населения Бессарабии. Крупно показана женщина, в руках которой зажат каравай. Затемнение. На присыпанные землей тела падают свежие. В руках одного из детей – кусок каравая. Потом еще человек с караваем. Еще. Трупы падают волнами, они показаны то в дождь, то в ясную погоду. (Расстрелов должно быть так много, чтобы зритель перестал воспринимать это как что-то действительно ужасное, он должен привыкнуть к ним. – Примеч. В. Л.)
Именно в этот момент – когда мы уже не воспринимаем трагедию из-за обилия трупов – камера отъезжает, и мы понимаем, что видели ров глазами мальчишки.
Он стоит на краю. Вечереет.
Мальчишка отлично одет, но одежда в пятнах крови. Он спрыгивает в яму, что-то ищет, возится, ходит по трупам, вынимает кусок хлеба из рук убитой девочки, жует на ходу. При малейшем шуме настораживается, как собака. Возится с мертвецами. Потом вылезает из рва и в полутьме бежит в лес поблизости, там под деревом залезает в дыру в земле под корнями дерева. Мы видим берлогу изнутри. Она выстелена вещами убитых. В углу – целая горка.
Часы, золотые зубы, кольца, какие-то банкноты.
Все это очень напоминает гнездо сороки.
Камера выезжает из берлоги, и мы видим, что сверху на корни капает вода. Значит, уже весна. Потом ягоды. Затем желтые листья. Потом снег. Так несколько раз. Один раз камера останавливается у края берлоги, словно не решаясь заехать внутрь. Мы слышим дикий, раздирающий кашель. В следующий раз камера останавливается у входа, и мы не слышим ничего, кроме шума ветра.
Показан мальчишка, который заматерел, бежит по полю зигзагами, заросший, лицо почернело, повадки звериные. Берлога наполовину заполнена ценностями.
Снова сцена расстрелов. На этот раз среди упавших в ямы одни мужчины.
Показаны сапоги. Они не немецкие.
Показаны уходящие.
Это советские шинели.
Крупным планом берлога и рядом с ней еще одна – полная ценностей.
Крупным планом лица красноармейцев. Потом спины. Мальчишка глядит им вслед из леса с удивлением – это незнакомая для него форма, – но не выходит. Ждет, пока расстрельная команда скроется, и только тогда бежит к яме. Спрыгивает туда…