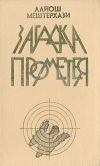Текст книги "Клуб бессмертных"

Автор книги: Владимир Лорченков
Жанр: Контркультура, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Цербер:
Я до сих пор помню его лицо. Слабоумный мальчишка лет тринадцати. Волосы, густо обрамляющие яйцевидную голову, волосатые ноздри, мохнатые брови, и все это – рыжеватого цвета. Он был одет в некое подобие накидки, только была она не из ткани, а из шкуры. Причем собачьей. Уже одного взгляда на нее мне хватило, чтобы понять: случится что-то очень неприятное. Потом я перевела взгляд на его ноги: тоже поросшие рыжеватой шерстью, они были обуты в сандалии с деревянной подошвой. Больше на нем ничего не было надето. За исключением венка из виноградной лозы. Его мальчишке напялили на голову пьяные односельчане во время очередного праздника Диониса.
Чего вы хотите, во времена Гомера, как и значительно позже, было принято издеваться над дурачками.
Мальчишка глядел на меня минут десять, а потом подбежал и схватил за лапы. Честно говоря, несмотря на нехорошие предчувствия, я все-таки сглупила и позволила ему сделать это. Что поделать, мы, животные, любим детей. Их жестокость бессознательна, этим они в лучшую сторону отличаются от взрослых. Итак, он схватил меня за лапы. Я замахала хвостом, как и полагается порядочной суке, с которой решил поиграть ребенок. И тут этот подросток-кретин, наглядевшийся на проказы взрослых односельчан – упившись вином, они ловили ослицу и устраивали такое, о чем я сейчас лучше промолчу, а вы говорите – просвещенные греки, – поворачивает меня и пытается пристроиться сзади, как пес. Этого, скажу я вам, ни одна порядочная собака не выдержит. Не выдержала и я. Резво обернувшись, укусила его за лодыжку, не очень сильно, но достаточно для того, чтобы мальчик отстал.
Тут-то он отскакивает метра на два, хватает огромный камень и, подняв его над головой обеими руками, швыряет прямо в меня!
С тех пор я и охромела на правую заднюю лапу. Конечно, пришлось спасаться бегством. Думаю, никто не упрекнет меня за трусость: благоразумные животные лишены такого совершенно никчемного качества, как неоправданное мужество. Это тем более удивительно, что оно, мужество, лишь вредит представителям вида, а не помогает в эволюции. Тем не менее вы, люди, из всех видов оказались самыми успешными. Чемпионами, я бы сказала, если бы могла говорить. Увы, этой способности я лишена примерно так с четвертого века до нашей эры, когда один из легионеров Александра, проходя мимо хижины персидского крестьянина, я как раз сторожила его овец, бросил в хромую собаку дротик. А? Просто так, забавы ради. Дротик пробил мне челюсть снизу и пригвоздил язык к небу. К счастью, мой очередной хозяин был настолько сердобольным человеком, что вытащил дротик из моей пасти и залечил рану. Нет, все-таки прав был Хэрриот, когда написал, что крестьяне вовсе не лишены чувства привязанности к своим животным.
Само собой, до того злосчастного происшествия с дротиком разговаривать я умела. Много ли ума надо? Разговаривали, спешу вам сообщить, практически все животные. Птицы болтали. Насекомые бормотали. Рыбы мямлили, но все-таки, преодолев себя, говорили. Все издавало звуки в этом мире. Вернее, не так. Все издавало звуки в мире Гомера, который позже стал вашим миром, в котором уже ничто и никто, кроме вас, не разговаривает. Спасибо за комплимент: я действительно провела два года в школе Платона. Там мне приходилось охранять ворота с высеченной над ними надписью. «Истина – враг заблуждений».
Нет, именно эта надпись. Все остальное придумано позже. Вы скажете, что эта надпись чересчур банальна? Само собой. А чего еще вы ожидали от пятидесятилетнего старца (тогда люди не доживали и до шестидесяти), который, по сути, не знал ничего? Да и не пытался узнать: его явно интересовали лишь его же логические заключения, непонятные никому, кроме… правильно, него же.
Аристотель здорово подшутил над Платоном и этой его надписью значительно позже, когда сказал:
– Платон мне друг, но истина – дороже.
Теперь понимаете, что он хотел этим сказать?
Еще бы: Платон, стало быть, друг Аристотеля, но поскольку Аристотель во всем заблуждался, то Платону дороже истина. Которая – враг заблуждений. Следовательно, Платон иносказательно говорил следующее:
– Платон мне враг.
Позже Аристотель со смехом признавался ученикам – тогда я позволила одному из них подобрать себя, чтобы изучать медицину на животном, – что это была его тонкая издевка над Платоном. И будто бы Платон до последнего не желал признать очевидного: что ученик Аристотель жестоко над ним посмеялся.
Истина – враг заблуждений. Вот смехота-то. С таким же успехом старик мог начертать на воротах избитую истину: «Морская вода – соленая». Или – «Собака лает, а птица щебечет».
Да и то последнее было бы неправдой. Ведь собаки и птицы, как я уже упоминала, разговаривали. Причем очень отчетливо. Древние греки, надо отдать им должное, об этом догадывались. Это было, естественно, еще до Платона и Аристотеля, которые резко отделили род людской от всего окружающего мира. Именно эти два человека повинны в том, что вы, люди, перестали жить с природой в гармонии и, следовательно, поссорились сами с собой.
Философы вырвали вас из привычной среды обитания. Это было бы прекрасно, предложи они вам что-то взамен. Они этого не сделали. Единственным, кто понимал, в чем суть – и я его искренне за это уважаю, – был Монтень. Но он и философом-то не был. В привычном для вас понимании этого слова, конечно. Он просто рассуждал о привычных, окружающих вас вещах и понятиях, глядя на них непредвзято. За это философы его презирают. Аристотель не может прийти в себя с тех пор, как Монтеня подселили на гору небожителей. Платон был в ярости. Сократ посмеивался, но это вовсе ничего не означало. Сократ дурачок. Он посмеивается всегда, особо не вдаваясь, над чем смеется.
– Я пролил на свой новый кожаный колет чудные духи из Византии, – говорил Монтень, почесывая меня за ухом, – и два дня наслаждался прекрасным ароматом. Затем, увы, я привык к нему и перестал чувствовать духи. Меж тем окружающие их обоняли и делали мне комплименты. Значит, даже к новым и чудным вещам привыкаешь настолько, что они становятся неотъемлемой частью твоего мира.
Я часто дышала, высунув язык, – мы только что вернулись с охоты, – а дворянин спешил записать свою мысль на листе желтой бумаги. Это был его, Монтеня, единственный недостаток. Простой, неискушенный в рассуждениях, немногословный Монтень. Если бы он сделал еще один шаг. Если бы понял…
Пойми Монтень, что и записывать ничего не нужно, он превзошел бы их всех.
Спинозу и Декарта в том числе. Увы, Монтень этого не понимал. Или понимал, но не желал никого опережать. Мне кажется, ему доставляло истинное наслаждение чтение своих же записей. Те восемь лет, что я провела в скромном замке этого достойного французского дворянина, были для меня настоящим золотым веком. Монтень даже посвятил мне небольшую главу в трех своих томах размышлений. Она называется «О собаках». Впрочем, нет, была еще одна – «О верности». Но в ней о нас он упоминает вскользь, используя понятие «собачья привязанность» лишь как аргумент, ярко иллюстрирующий понятие верности. Он искренне любил меня, любил жизнь такую, как она есть, и принимал все с достоинством, не фантазируя. Я наслаждалась общением с ним в его замке. Замке Монтеня.
И по крайней мере там меня никто не бил.
Признаться честно, в то время я даже подумывала над тем, чтобы отказаться от статуса Бессмертной Собаки и тихо умереть после смерти своего горячо любимого хозяина, единственного человека, который достойно представлял собой род людской. К тому времени я подустала от героев, злодеев и обывателей. Ведь человечество делится именно на эти три вида. Причем первые и вторые успешно скрещиваются. Обыватель? Нет, мерины не дают потомства.
Что действительно отличало Монтеня от ему подобных – дворянин никогда не лгал. Если он писал, что купил кожаный колет и надушил его прекрасными духами, – так оно и было. Этот колет до сих пор передо мной, и я чувствую византийский аромат, от него исходящий.
Надев этот колет, Монтень выходил в поле, проводил перед собой черту и обозревал мир за ее пределами. Сделав неспешные выводы, Мишель переходил на другую сторону и рассматривал уже другую половину мира. Он во всем старался быть честен и объективен. Монтеню и в голову бы не пришло пытаться выяснить, сколько лапок у мухи, не взяв муху в руки.
Будьте покойны: уж он-то ее бы изловил, изучил, и – что мне особенно нравится – после отпустил.
А потом написал бы две небольшие главы «Опытов». Первая называлась бы «О вреде мух», вторая – «О пользе мух». В обоих главах Монтень был бы честен и непредвзят. Бог мой, ну почему все люди не такие, как он? Он не был героем, и уж этот бы человек ни в жизнь не начал спорить бы с богами. Что? Само собой, да. Так бы они, эти главы, и назывались. «О вреде богов» и «Об их пользе». Этого для Мишеля было бы достаточно.
Запах колета Монтеня преследовал меня много лет, хотя в сентиментальности меня не упрекнешь. Более того, эти духи чудились мне значительно раньше. Особенно остро я почувствовала их запах, когда Одиссей и его взвод пошли на прорыв оборонительных рядов троянцев. Да, боевая собака, так я тогда называлась. Выглядела я как неаполитанский мастиф. Что довольно забавно, учитывая, что Неаполя тогда и в помине не было, не говоря уж о мастифах. Нет, Рима тоже не было. До этого было далеко: я приняла участие в осаде Трои, после чего спрыгнула с борта корабля Одиссея, позорно дезертировавшего из-под стен осажденного города (в «Илиаде» Гомер, разумеется, все напутал, ведь он был слеп и толком ничего не мог разглядеть). Прямо в море. Мы как раз проплывали недалеко от берегов нынешней Италии. Пораженные моряки кричали вслед, что я – воплощение Посейдона, который снизошел до того, чтобы помочь грекам воевать под Троей. Мне было плевать на них: к тому времени я почувствовала, что пора мне заняться собой, например – ощениться. Естественно, для этого мне следовало познакомиться с симпатичным псом, желательно средних размеров (говорю же, от великанов и героев у меня болит голова). И что-то говорило мне: в Италии я этого пса встречу.
Встреча и в самом деле состоялась: правда, спустя тридцать лет после моей незапланированной высадки в Италии. Наконец я встретила этого красавца – он оказался волком – и понесла от него, дав начало новой породе. Правда, молоко у меня оставалось и после того, как я выкормила потомство. На счастье, подвернулись двое малышей со странными именами: Ромул и Рем. Я выкормила и их, после чего покинула Италию. Иногда я переживаю за малышей: мне кажется, что чересчур вспыльчивый Ромул может плохо обойтись с братом. Надеюсь, у них все нормально.
Почему я увидела своего волка спустя тридцать лет высадки в Италии? Почему не сразу?
Дело в том, что на побережье, едва встряхнувшись, я встретила человека. Он с трудом брел по песку и был слеп. Я без особого труда узнала Гомера. Старик был истощен и явно надеялся на скорую смерть. Боги этого не хотели, иначе я бы с ним не встретилась. Следующие тридцать лет я была поводырем Гомера, совершившего поистине титанический подвиг. Он дожил до ста лет. Вы не представляете, насколько это уникально для Древней Греции.
Как я уже упоминала – и об этом говорится во всех учебниках истории, – Гомер был слеп. Но с рождения он таковым не был. Во время осады Трои, свидетелем коей Гомер стал, старик (тогда – семидесяти лет от роду) еще кое-что различал правым глазом, почти ничего не видя левым. Говоря языком современности, Гомер был страшно близорук. Это-то и послужило причиной многих неточностей и ошибок, допущенных великим Старцем в его «Илиаде». Признаюсь, я нисколько не жалею о том времени, что провела, будучи собакой слепого, на дорогах Италии и Греции. Было интересно и познавательно. Я не раз сравнивала лжеца Гомера с философами Греции. Сравнение было в пользу слепого.
– Хорошая собачка, – первое, что сказал он, нащупав мою шею, когда мы встретились на побережье, – останься хоть ты со мной, раз люди меня предали.
Вот так, очень банально, мы стали друзьями. Хотя правильнее сказать: я стала его другом. Ему всего лишь был нужен поводырь. Что поделать, мы, собаки, всегда ожидаем от людей слишком многого. Итак, Гомер приютил меня, как я приютила его. У него не оставалось выбора: люди его предали и покинули. Как из-за чего? Ах, этого в учебниках истории еще нет? Хорошо, я даю вам возможность пополнить главы по Древней Греции.
Гомер, разумеется, не был художником и творцом. Иначе говоря, он не писал поэм. По крайней мере до семидесяти лет. Он был простым писцом. Хронологом. Его взяли в состав экспедиции на Трою для того, чтобы Гомер просто записывал события осады. Грубо говоря, вел дневник боевых действий. Журнал. Естественно, о близорукости старика никто не догадывался: иначе бы его не взяли. А сам Гомер свое плохое зрение старательно скрывал: это был его последний шанс. Больных и увечных в Греции не берегли. Его ждала неминуемая смерть от голода на родине, где он уже лет пять перед осадой Трои не мог найти никакой работы. Хроникеры тогда никому не были нужны. Поэтому за возможность поплыть к Трое за питание и два золотых в месяц Гомер ухватился накрепко. Мы могли бы сказать, что Гомер продал свое перо. Но Гомер тогда еще не писал в нынешнем смысле этого слова. Он всего-навсего записывал. Поэтому Гомер продал перо, которого не было.
Надо отдать ему должное: старик держался все семь лет осады. Он изо всех сил делал вид, что прекрасно осведомлен о тонкостях боевых действий (еще одна ложь – Гомер был сугубо гражданской штафиркой). Он старательно что-то черкал в своем журнале. Вожди (по-нынешнему – генералы) были довольны. Но, к сожалению, на самом деле Гомер не мог различить в суете схваток и столкновений ровным счетом ничего. Поэтому он… нет, даже не выдумывал… а просто домысливал. Например, во время схватки Ахиллеса с Гектором вокруг драчунов поднялось столько пыли, что и хорошо видящий человек ни черта бы не разобрал. Что уж говорить о Гомере. Поэтому бедолага приплел в схватку и богов. То есть Гомер вписывал в журнал то, что ему казалось, а не то, что он видел.
Еще бы. Ведь он не мог видеть.
Тем не менее все были довольны, глядя, как Гомер сидит по вечерам у своей палатки, что-то карябая на пергаменте. Летописец наших войск – с гордостью говорили о нем вожди. Особенно любил Гомера Ахиллес.
– Ты уж напиши про то, как я сегодня отдубасил этих долбаных троянцев, старик, – просил он, посмеиваясь. И отправлялся пить вино.
Сам Гомер никогда не расспрашивал Ахиллеса о том, что происходило в гуще сражения. Ведь Гомеру платили деньги за то, чтобы он сам это видел.
И потом, интервью как жанр тогда еще не вошло в моду.
В общем, довольно долго и довольно удачно Гомер записывал события у Трои – творец решил конкретную задачу, поставленную перед ним самим бытием: он просто-напросто выжил. Семь лет питания и постоянного жалованья. А потом все кончилось, и как это обычно бывает, кончилось внезапно. Я узнала об этом, когда проснулась и побрела к миске, куда для бойцовых собак греки сваливали всякую всячину, оставшуюся после их вечерних попоек. У палатки Гомера наблюдалась какая-то возня. Я подбежала поближе и залегла под чьим-то плащом, надеясь не упустить ничего интересного. Ахиллес бился в истерике, крича:
– Какой Зевс? Какая Афина? Это я, я сам, лично, своими руками, забил этого несчастного троянца! Неужели ты, старик, думаешь, что я плачу тебе деньги для того, чтобы ты выдумывал сказки?! Нет, я плачу тебе за то, чтобы ты честно записывал все здесь происходящее! Стало быть, вот уже седьмой год я плачу тебе ни за что!
Ахиллес, как и все древние греки, был человеком крайне скупым. Деньги, уплаченные им Гомеру, приводили героя в отчаяние. Ведь на это золото можно было бы купить как минимум табун лошадей. Или дюжину женщин. Или пить на них лет семь, что, собственно, Гомер и делал.
Монотонно причитая, Ахиллес, больше в эти мгновения похожий на бабу, чем на легендарного героя, несильно бил Гомера по лицу. Старик недоуменно хлопал глазами, старательно прикрываясь. Видел он – повторюсь в который раз – очень плохо, поэтому все попытки защитить лицо от ударов, сыпавшихся и справа и слева, были неудачными. Да-да, Ахиллес просто-напросто надавал Гомеру зуботычин. Воины, окружившие старика и героя плотным кольцом, смеялись.
– Не я ли тебе, Ахиллес, говорил, – крикнул какой-то пожилой копьеносец, – что толку от этих поэтов в войске нет?
Хоть Гомер и занимал скромную должность летописца маленького городка Энелаиды (откуда его и взяли с собой воины), все знали, что в молодости старик баловался стишками. Ахиллес взвыл, бросил Гомера на землю, подобрал свиток и начал, подрагивая ноздрями, громко читать:
– «Так вопиял он, моляся; и внял Аполлон сребролукий, – руки героя задрожали, он все громче читал, – быстро с Олимпа вершин устремился, пышущий гневом, лук за плечами неся и колчан, отовсюду закрытый; громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали, в шествии гневного бога: он шествовал, ночи подобный. Сев наконец пред судами, пернатую быструю мечет, звон поразительный издал серебряный лук стреловержца. В самом начале на месков напал он и псов празднобродных; после постиг и народ, смертоносными стрелами; частые трупов костры непрестанно пылали по стану…»
Воины гоготали. Вынуждена признать: Гомер и в самом деле нафантазировал. В этой стычке, которую описал слепец так красиво, все было не так. Бог Аполлон в ней никакого участия не принимал. Просто стрелки Ахиллеса – ровно сто пятьдесят откормленных и хорошо обученных бойцов, – умело маневрируя, так засыпали стрелами троянцев, что локальная стычка была выиграна. И приписывать этот успех Аполлону – с точки зрения людей, выигравших сражение, – означало просто-напросто украсть у них победу. Тем более победу в глазах потомков, которые будут читать этот текст. В этом воины были солидарны с Ахиллесом.
Ахиллес не желал видеть ничего в летописи осады Трои о богах, чувственных переживаниях и прочем, как он выразился, дерьме. Ему нужна была точная хроника. Ее он мог бы затем, в доказательство своих полководческих талантов, предъявить очередному нанимателю. Да, конечно, Ахиллес сражался за деньги.
Ахиллес почитал еще немного, затем снова побил Гомера, велел солдатам обобрать летописца и объявил, что увольняет слепого. Гомер к вечеру того дня и в самом деле стал слепым: от волнений и побоев остатки зрения ему отказали.
– Мой господин, – униженно просил Гомер Ахиллеса, который остался в памяти людей лишь благодаря ему, Гомеру, – не соблаговолите ли вы вернуть мне хотя бы те жалкие остатки бумаги, которые вы взяли у меня. Ведь для вас они никакой ценности не представляют…
Ахиллес ничего не отдал. Он поступил так из мести. Ведь бумагу можно было продать и жить на эти деньги около года. Ахиллес не хотел, чтобы Гомер жил еще год. А на рукопись ему было плевать.
Текст «Илиады» для героя «Илиады» никакой ценности не представлял.
Текст «Илиады» не представлял никакой ценности и для Гомера.
Просто он, как и предполагал Ахиллес, намеревался продать пергамент. Стереть запись (ту самую «Илиаду») с него, а потом продать его другим, более удачливым хроникерам. Но Ахиллес был зол. Он не отдал Гомеру «Илиаду» и тем самым спас одно из величайших произведений мировой литературы. Конечно, он и не думал ничего спасать. Он сунул свиток в свои вещи и забыл.
Гомера взяли с собой на корабль воины, отплывавшие домой за подкреплением. Штормом их отнесло к берегам Италии. Там они, потеряв всякую надежду вернуться домой, высадили Гомера на пустынное побережье и отплыли. Еды слепому солдаты не оставили. Им самим не хватало. На счастье, Гомеру подвернулась я. И мы побрели с ним по дорогам Италии, зарабатывая на хлеб всякими россказнями. Получалось не очень хорошо. Пришлось брать вопросы обеспечения нас питанием в свои лапы.
Я научилась ходить на задних лапах, гавкать три раза, когда следовало отвечать «да», и два раза, когда – «нет».
Говорящая собака? Нет, это чересчур. Гомер был по горло сыт чудесами. Я старалась не бередить его ран. Ровно тридцать лет длились наши скитания. Гомер все просил смерти, но никак не мог получить ее. Бедняга не понимал, что человек не умирает, пока не выполнит свое предначертание. Его предначертание состояло в том, чтобы написать еще и «Одиссею». На исходе тридцатого года – когда жить Гомеру оставалось всего ничего, около шести месяцев, – мы увидели у побережья корабль. Греческий! От радости я залаяла так громко, что Гомер понял: где-то поблизости соотечественники.
Они и впрямь оказались греками. Приплыли сюда, чтобы обменять немного зерна на волчьи шкуры, которые добывали в огромных количествах племена, позже основавшие Рим. И первое, что сказал один из торговцев, когда увидел нас:
– Граждане, взгляните на слепца с собакой! Ну вылитый Гомер!
Граждане – все они оказались афинянами – посмеялись. Точно, до чего же ты, нищий, похож на Гомера. Каково же было их удивление, когда Гомер сказал им, что он и в самом деле Гомер.
– Неужели ты не умер, величайший из поэтов? – спросил торговец маслом.
И рассказал Гомеру обо всем, что последовало после его изгнания.
Все было как обычно. После того как Ахиллеса под Троей все-таки убили, кто-то из мародеров, опоздавший к разделу имущества покойного, удовольствовался сумкой, в которой лежала «Илиада». Солдат не мог соскоблить записи так, чтобы не изувечить пергамент. Ведь тогда бы он ничего не заработал. Поэтому солдат продал пергамент с текстом «Илиады» за полцены пергамента, который был бы чистым и потому стоил бы дороже. Кто-то из переписчиков, купивших пергамент, прочитал текст и начал его тиражировать.
За пятнадцать лет Гомер стал заслуженным артистом Древней Греции.
Величайшим из величайших. Поэтом века и, как оказалось, последующих тысячелетий. О нем стали слагать легенды, его именем клялись поэты, о нем мечтали женщины, его бюсты наводнили Аттику. В общем, он стал очень популярен, мой слепец. Более того, мужланы, которые радостно гоготали, наблюдая, как Ахиллес избивал Гомера за выдумки и бредни про богов, по возвращении на родные острова стали говорить: так оно и было! Этот Гомер прав! Вот молодчина! Мы сами, сами видели!
– Популярность пришла слишком поздно, – сказал Гомер.
Он сказал это с горечью. Купцы, окружившие его, верили Гомеру, когда тот сказал им, что является Гомером. Ведь Гомер, которому они поверили, читал любые строки, какие ни попросишь, из «Илиады» Гомера. Поэт, цитирующий сам себя. Для них это было в диковинку. Купцы накормили Гомера и, что очень важно для слепца, лет десять не пившего вина, напоили его. Глядя, как поэт подрыгивает ногой в такт пошловатой флейте, я чувствовала легкую грусть. Понимала, что скоро мы расстанемся. Мой удел – сопровождать одиночек.
Ведь одиночество для людей это ад, а я – сторожевая собака Ада, и мое имя Цербер.
Я глядела на пьяного Гомера и тосковала. Неужели к этому он стремился, мой слепец? Пьяные лица греков, глядевших на слепца с восхищением и обожанием, ничуть не отличались от тех рож, что окружали его в момент избиения Ахиллесом. Те же блестящие глаза, те же красные рты, та же винная вонь из пастей. Я начинаю ненавидеть людей, когда их становится много. Кто-то из греков спошлил и к Гомеру стал ластиться юнга. Старец обхватил юношу за ляжку и гнусно зачмокал дрожащими губами. Корабль потряс взрыв хохота. Я спрыгнула в воду и поплыла к берегу. Как тридцать лет назад. Только на этот раз на берегу было пусто.
Позже я узнала, чем все закончилось для Гомера. Он вернулся в Грецию с купцами и прожил еще полгода в замке Одиссея. Тот, как я уже говорила, трусливо бежавший с поля боя под Троей, был вынужден прятаться в течение тех самых тридцати лет. Как и Гомер. Только Одиссей прятался добровольно. Ему было бы стыдно объявляться на родине до официального окончания Троянской войны.
Одиссей приютил Гомера – само собой, не из жалости или из уважения к гению, – и старик умер на Итаке. Зачем это понадобилось Одиссею? Все просто. Царь прекрасно понимал, что в глазах современников он уже не реабилитируется. Никто, естественно, не поверил его россказням о сиренах, Аиде, островах Цирцеи и Калипсо. Я же говорила: греки были удивительно практичным народом. Да, они поклонялись богам, но между делом. И конечно, никакими человеческими чертами они богов не наделяли. Это дело рук поэтов. Их, кстати, возненавидели философы.
– Поэты, – говорил Платон значительно позже описанных мной событий, – подорвали уважение к естественному порядку вещей, сочинив сказки о якобы человеческих страстях Зевса и прочих богов.
Само собой, Платон в Зевса не верил. В отличие от естественного порядка вещей. Что-что, а вот это Платон уважал. Зевс, в отличие от Платона, верил в себя. Но и в естественный порядок вещей – тоже. Поэтому Платон прожил долгую и счастливую жизнь.
Стало быть, за шесть месяцев пребывания на Итаке Гомер сочинил «Одиссею». Причем я хочу отметить условия, в которых он творил это второе в своей жизни великое произведение. Да, второе.
Юношеские стихи, конечно, не в счет.
«Одиссея» писалась совсем не так, как «Илиада».
Неизвестный Гомер творил «Илиаду» наспех, толком не понимая, что у него получится. От него требовали хроники. Он ее, в своем понимании хроники, и создал. Гомер до конца не понял, что сотворил шедевр. Это объяснили ему люди.
«Одиссею» творил популярный и известный Гомер.
Величайший поэт. Он работал уже на публику. Гомер писал «Илиаду» в спешке, сидя на земле, в свете уходящего дня. «Одиссею» писали, собственно, писцы. Гомер лишь диктовал. Тоже наспех, но уже понимая, что творит литературу, творит для последующих поколений. Одиссей сказал ему об этом, а Гомер был слишком наивен, чтобы не верить тому, что ему говорят. То была простоя сделка. Кров и пища в обмен на произведение.
– Но мы, Одиссей, – сказал как-то Гомер, – идем против истины, когда пишем о сирене. Ведь ты сам признаешь, что никогда не встречал ее.
– О мудрый, из чьих уст льется мед слов, – как обычно, грубо польстил Одиссей, – не важно, что писать, важно – о чем. Важно – как ты это делаешь, величайший.
Гомер остался доволен. Он совершил ошибку. «Илиаду» писал Гомер-реалист. Человек, на самом деле видевший (пусть это ему и казалось, но он же этого не знал) то, о чем пишет. Пусть то, что он видел, не соответствовало тому, что видели другие. Событий «Одиссеи» Гомер не видел, и они ему даже не казались.
Он их выдумывал.
Гомер ступил с единственной возможной для писателя (это я вам как Цербер говорю) тропы мистического реализма и стал банальным сочинителем сказок. «Илиада» превзошла «Одиссею». Это тем более странно, что «Илиада» была написана раньше. Гомер никогда ничего больше не создал. Он умер. Никогда не говорите гению, что он гений. Иначе он будет стараться быть гением, а это уже невозможно.
На этом, кажется, все. Насколько я знаю, Гомер никогда не вспоминал обо мне. Люди неблагодарны. Великие поэты не исключение.
…Гомер приснился мне в то утро, когда я увидела, наконец, Прометеуса. Он, невысокий, коренастый молдаванин, с необыкновенно грязным рюкзаком некогда оранжевого цвета, поднимался вверх по дороге к Лаку Рошу. Я попробовала встать. Все-таки Прометеус направлялся к Аиду, а я, как порядочный Цербер, обязана встречать там людей.
Едва встав – от утреннего тумана у меня отсырело в костях, – я нехотя гавкнула и спустилась к ручью. Прометей смотрел на меня, недоуменно подняв брови. Выглядела я и в самом деле ужасно. Совсем не похожа на Цербера. Старая, облезлая сука с выпавшими зубами, пятнистая там, где шерсть еще не окончательно поседела.
Да еще эта проклятая икота! Это все корм. Сухой корм для собак, которым потчует меня циклоп.
Я много раз просила его не покупать этих проклятых сухарей, в которые производители добавляют наркотической дури. Но он, насмотревшись телевизионной рекламы, вбил себе в голову – собаки обожают корм «Чаппи». Обожают, и все тут. Поэтому с 2002 года мне покупают только сухой собачий корм. Не сказала бы, что это привело меня в восторг. Ведь первые восемь тысяч лет своей жизни я, как и всякий друг человека (вы нам и в самом деле нравитесь), питалась нормальной собачьей едой. Мясо, овощи, злаки, хлеб, в общем все, что только можно съесть. Да, мы, как и люди, всеядные. И соображаем так же быстро, как вы. Интересно только, почему именно вам удалось взобраться на вершину этой самой эволюции?
Может быть потому, что вы придумали сухой корм для собак раньше, чем мы придумали его для людей?
Давайте-ка я сразу внесу ясность: этот корм, после того как полакаешь воды, разбухает в животе. Поэтому ничего больше есть не хочется. Вы просто экономите на нас. В этом все дело. Остальное – радость, восторг, и якобы куски бекона – выдумка создателей рекламных роликов. Ей верят лишь дураки.
Циклоп и есть дурак. Безграмотный румынский крестьянин – сирота, получивший свое имя в роддоме от остроумного врача. Этот одноглазый старик вот уже сорок лет пасет овец. А я, на этот раз овчарка, помогаю ему. Надо отметить, что Циклопу удалось разбогатеть, и к тому времени, как я увидела Прометеуса, мой хозяин был владельцем уже двухсот овец.
Наконец я переборола изжогу и подобралась к Прометеусу поближе. Ручей шумел так сильно, что мне пришлось приподнять уши.
– Хорошая собака, – он погладил меня, и мне стало легко, как с Гомером, – а где у нас тут место будущей работы? Все овец сторожишь? Ну, сторожи.
И пошел вверх по дороге. Я потрусила с ним. Прометеус развел руки, показывая, что у него с собой нет ничего съестного. Я не отставала. Через час мы были на площадке у входа в замок Дракулы. Я, как и подобает Церберу, встала перед Прометеусом и оскалила пасть. Прометеус склонил голову и снова взглянул на меня. Если бы я прожила тысяч на пять лет меньше, то непременно удивилась бы необычайному сходству Прометеуса с Гомером. Одни черты.
Высокий, очень высокий лоб, блестящие, глубоко посаженные глаза, чуть кривой нос, тяжелая нижняя губа, сросшиеся брови. И волосы – курчавые. Казалось, Прометеуса слепил тот же скульптор, что изготовил бюст Гомера. Но я-то знаю, что все они, эти герои, похожи. Более того, они находятся в непосредственной родственной связи друг с другом. Все благодаря суккубам.
Передо мной стоял прямой потомок Гомера.
И он должен был меня обмануть, чтобы я пропустила его в Аид. Такие уж у нас, бессмертных, правила. Гомер с этой задачей непременно бы справился. Не знаю как, но он бы меня обманул. Был в нем, несмотря на все удары судьбы, этакий эллинский задор. Жадность познания мира людьми, еще не изведавшими этот мир. Но глаза Прометеуса, хоть и блестели, были тусклы. Он даже не пытался меня обмануть – просто стоял, опустив плечи, и ждал, когда я отойду в сторону. Я поняла, что он устал и не хочет ничего придумывать. Он утратил жажду познания, утратил стремление блеснуть умом и коварством, утратил желание быть. Какой-нибудь Одиссей лет так десять тысяч назад непременно бы что-то учудил. Бросил бы мне в пасть клейкую массу, подсунул питье с сонным раствором, отвлек бы, а потом рассказывал бы об этом на пиру, смеясь и бахвалясь. Этот – Прометеус – ничего не хотел. Он просто ждал. Я отошла и потащилась вниз, не оглядываясь. Он был последний герой, виденный мной. Мне было очень горько, я спускалась от замка к долине и жалобно скулила. Было понятно: мир близится к полной гибели.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?