Читать книгу "Гамаюн. Жизнь Александра Блока."
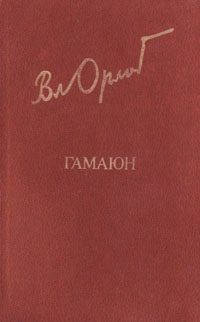
Автор книги: Владимир Николаевич Орлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Сам «гриф» – Соколов (Кречетов) произвел впечатление невыгодное: человек внешний, плохой поэт, дешевый фразер, сытый и самодовольный присяжный поверенный, притворяющийся демонистом. Зато привлекла внимание жена его, Нина Ивановна Петровская, в черном бархатном платье до пят.
Это тоже одна из любопытнейших теней русского символизма. Она писала неважные рассказики, но не в них суть дела. Она как бы воплощала дух декаданса в самой своей личности, в самом своем поведении. Человек глубоко несчастный, душевно совершенно неустроенный, постоянно находившийся на грани катастрофы, она обладала поистине редчайшей способностью осложнять жизнь – свою и чужую. Страшно запутанные романические отношения связывали ее одновременно и с Андреем Белым и с Валерием Брюсовым (вся любовная лирика в сборнике «Stephanos» обращена к ней, она же – инфернальная Рената в романе «Огненный ангел»).
Блок почувствовал нечто вроде симпатии к этой темной и несчастной душе, – в дальнейшем встречался с нею в Петербурге, она даже приезжала в Шахматово.
Переполненный впечатлениями, накануне отъезда из Москвы Блок писал матери: «Я думаю с удовольствием только о нашей квартире в Петербурге. Видеть Мережковских слишком не хочу. Тоже – всех петербургских «мистиков»-студентов. Все это – в стороне… Пьяный Бальмонт отвратил от себя, личность Брюсова тоже для меня не очень желательна. Хочется святого, тихого и белого. Хочу к книгам, от людей в Петербурге ничего не жду… Но будет так много хорошего в воспоминании о Москве, что я долго этим проживу… Нельзя упускать из виду никогда существования Москвы, всего, что здесь лучшее и самое чистое».
Но на поверку выходит, эта вера в чистоту и неколебимость лучших москвичей (то есть соловьевцев) тоже оказалась иллюзорной. При всей пылкости взаимных заверений назревал конфликт, и он оказался тем более острым, что назревание его своевременно замечено не было. Тут опять же сказалась «редчайшая разность» (не только в поведении, но и в умонастроении) между Блоком и его экспансивными друзьями.
Усилиями Андрея Белого и Сергея Соловьева в кружке «аргонавтов» Блок был возведен на пьедестал своего поэта, «волею судеб призванного быть герольдом, оповещающим шествие в мир религиозной революции», осуществителем «конкретного соловьевского дела».
Особенно усердствовал Сергей Соловьев, носившийся с идеей «грядущей теократии». В его истолковании идея эта приобретала характер настолько комически-бредовой, что, право, трудно поверить в серьезность его проповеди. Он чуть ли не готовился объявить «первый вселенский собор» соловьевской церкви, где «начало Петрово» была бы представлено им самим в качестве «первосвященника», «начало Павлово» – Андреем Белым в звании «царя» и «начало Иоанново» – Александром Блоком в роли «пророка».
Соловьевцы-«аргонавты» тщились вовлечь Блока в свои «гипертрофии» (как выразился впоследствии Белый) – и делали это с большим шумом и суетой, которые Блоку с младых ногтей были ненавистны. Более того они бестактно вторглись в его личную жизнь, сделав ее предметом болтливого обсуждения в своем кругу. Подобно Зинаиде Гиппиус, они задавались нелепым вопросом «Кто для Блока невеста? Коль Беатриче, – на Беатриче не женятся, коли девушка просто, то свадьба на «девушке просто» – измена пути».
Вся эта ахинея («мальчишеская мистика», как позже скажет Блок) оставалась бы игрой распаленного воображения и не заслуживала бы даже упоминания, если бы, к несчастью, не наложила свою печать на реальные отношения и судьбы живых людей
Даже свадьбу Блока его экзальтированные поклонники пережили как некую священную мистерию. Сережа Соловьев вернулся из Шахматова в полной ажитации. «Соловьевство и тут присутствовало», – говорит Белый, добавляя, что Сережа после этой «эпохальной свадьбы» ждал «наступления нового теократического периода, мирового переворота». Это кажется невероятным, но Соловьев в самом деле убеждал себя и других, что с этой свадьбой «кончится все трудное и темное». Он писал Блоку: «В то время, когда ты венчался, я с поразительной ясностью увидел то «горчичное зерно», которое покроет весь мир своими ветвями». В соответственном тоне он воспел свадьбу Блока в нескольких стихотворениях, в печать не отданных, но получивших известное распространение в московских кружках:
Ликуй, Исайя, ликуй!
Ликуй, пророк Иммануила!
Се – дева в таинство вступила.
Пророка, церковь, именуй…
–
Раскрылась Вечности страница.
Змея бессильно умерла.
И видел я, как голубица
Взвилась во сретенье орла…
«Сережа ликует – в сюртуке с цветами с нашей свадьбы», – сообщает Блок матери из Москвы.
Подобная суета переходила границу меры и такта. Недаром Брюсов иронически заметил, что из-за свадьбы Блока в Москве «подняли слишком много шума». Замечание Брюсова нужно оценить в контексте его полемики с соловьевцами относительно целей и задач поэзии. Брюсов отстаивал автономию поэзии, возражал против попыток сделать ее «служанкой» религии и мистики. Документом этой полемики служит стихотворение Брюсова «Младшим», написанное весной 1903 года, сразу после литературного дебюта Блока, и вошедшее в сборник «Urbi et Orbi» с эпиграфом: «Там жду я Прекрасной Дамы». Мотив «свадьбы» возник в этих стихах, конечно, не случайно:
Они Ее видят! они Ее слышат!
С невестой жених в озаренном дворце!
Светильники тихое пламя колышат,
И отсветы радостно блещут в венце.
А я безнадежно бреду за оградой
И слушаю говор за длинной стеной.
Голодное море безумствовать радо,
Кидаясь на камни, внизу, подо мной.
За окнами свет, непонятный и желтый,
Но в небе напрасно ищу я звезду…
Дойдя до ворот, на железные болты
Горячим лицом приникаю – и жду.
Там, там, за дверьми – ликование свадьбы,
В дворце озаренном с невестой жених!
Железные болты сломать бы, сорвать бы!..
Но пальцы бессильны и голос мой тих.
Друзья Блока не преминули позлословить по этому поводу. «Брюсов не понимает шуток, – писал Блоку Сергей Соловьев. – Кажется, он обиделся, когда я заметил, что не ожидал, что Валерий Яковлевич во время твоей свадьбы в растрепанном виде прибежал в Тараканово, бесновался у дверей, прильнув на этот раз к болтам, и пропечатал обо всем этом в сборнике».
Назойливое вторжение зачастую совершенно посторонних людей в его личную жизнь раздражало Блока, вселяло в него ощущение неловкости. Вежливо, но настойчиво уклонялся он от непрошеного амикошонства, которым грешили иные из «аргонавтов».
Бесноватый и прилипчивый Эллис произвел на него впечатление отталкивающее, и он признавался Белому: «Нет, знаешь ли, Боря: Льва Львовича я выносить не могу!»
Впоследствии и Белый согласился, что в его кружке было немало репетиловщины, что «душевная мистерия» сплошь и рядом оборачивалась «сценой из "Балаганчика"», отчего Блок начинал «темнеть и каменеть».
Друзья чуть ли не насильно тащили его то к епископу Антонию, то в кружок молодых религиозных философов и анархиствующих экстремистов, а ему все это было вовсе не нужно и неприятно: «Между этими всеми людьми – что-то тягостное… Нет, мне не нравится это… Не то!»
Поздно осознав бестактность своего тогдашнего поведения в отношении Блока, Андрей Белый к месту припомнил те трудновыносимые формы «дружбы», которые в свое время сложились в бакунинско-станкевичевском кружке: «Мы с С.М.Соловьевым были теми «Мишелями», которые в многостраничных письмах по всем правилам гегелевской философии анализировали интимные отношения Станкевича к одной из сестер Бакунина… И был прав, может быть, Александр Александрович, выставив впоследствии непрошеных теоретиков воплощения сверхличного в личной жизни – в виде дурацких «мистиков» своего "Балаганчика"».
Слишком позднее прозрение! Тогда, в январе 1904 года, ни Белый, ни Сергей Соловьев не заметили, что в Москву приехал вовсе не «герольд религиозной революции», а просто двадцатитрехлетний поэт, настроенный, правда, мистически, но обо всем, в том числе и о мистике, имевший свое мнение. Они не заметили, что Блок не терпел нецеломудренной мистической болтовни и что за всяческими «теориями» он видел еще и самое простое – человеческое, житейское, и с любовью подмечал его мельчайшие приметы: «Но в Москве есть еще готовый к весне тополь, пестрая собака, розовая колокольня, водовозная бочка, пушистый снег, лавка с вкусной колбасой».
Произошло недоразумение, непонимание – и именно на этой почве отношения Блока с соловьевцами дали первую, поначалу еще незаметную трещину.
Нет спору, Блок и сам был виноват в недоразумении, ибо не решился или не счел нужным внятно сказать о том, что ему не нравилось, и, внутренне сопротивляясь навязанной ему роли, внешним образом молчаливо принял ее. Да и стихотворные обращения Блока к Белому, тоже давали повод к недоразумению.
Неразлучно – будем оба
Клятву Вечности нести.
Поздно встретимся у гроба
На серебряном пути…
И тогда – в гремящей сфере
Небывалого огня —
Дева-Мать отворит двери
Ослепительного Дня.
А вернувшись из Москвы, он написал стихотворение «Сторожим у входа в терем…», с эпиграфом из Белого: «Наш Арго!», которое можно было понять как обращение ко всем «аргонавтам»:
В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.
Белый так и понял – как призыв к «конкретному братству». И ему нужно было пережить весь сложный, трудный опыт своей «дружбы-вражды» с Блоком, чтобы в конце концов признать: «Заря убывала: то был совершившийся факт; зари вовсе не было: гасла она там – в склонениях 1902 года; 1903 год был только годом воспоминаний».
… Через день после возвращения Блоков в Петербург началась русско-японская война.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
БУРЯ И ТРЕВОГА
…характер образуется в борьбе.
Гете
ГЛАВА ПЯТАЯ
ПЕРЕКРЕСТОК
1Быстро шла в рост столица громоздкой империи Российской. В 1904 году население Петербурга достигло без малого миллиона шестисот тысяч, иначе говоря – со времени, когда появился на свет Александр Блок, увеличилось почти вдвое.
Все дальше уходили в прошлое времена патриархальные, неторопливые. Жизнь набирала скорость, – все куда-то заспешили, задумываться стало некогда. Уже затрещали первые автомобили – радость и горе XX века, – им разрешалось пробегать в час не более двенадцати верст. Появились иллюзионы со смешными, судорожно дергающимися фигурками.
С каждым годом росли блеск и нищета Санкт-Петербурга.
Все так же строг и величествен был его парадный фасад – закованные в гранит берега Невы, темно-багровые, цвета бычьей крови, молчаливые дворцы с балконами, «куда столетья не ступала ничья нога».
По-прежнему сохранял город облик военной столицы – с частой барабанной дробью, медью оркестров, тяжким шагом пехоты, слитным топотом конницы.
Вычищены, вылощены были старые центральные кварталы – части Адмиралтейская, Казанская, Литейная. От торцовой мостовой остро пахло дегтем, и по-особому глухо цокали по ней копыта. Тот, кто еще застал Петербург, навсегда запомнил и этот запах, и этот звук.
Здесь на всех перекрестках торчали монументальные городовые в белых перчатках, из подворотен выглядывали дворники в чистых фартуках, в подъездах дремали обшитые позументами швейцары, – оберегали покой и достояние хозяев. Здесь царили аристократия и плутократия – Шереметевы, Юсуповы, Стенбок-Ферморы, Орловы-Давыдовы и на равных правах с ними Путиловы, Абамелек-Лазаревы, Утины, Гинзбурги, Елисеевы…
Но настоящая, быстрая, хваткая жизнь шла не здесь.
Невский проспект оставался, как и в гоголевские времена, «всеобщей коммуникацией» Петербурга. Запруженный толпой суетливых или праздношатающихся людей, он весь был в пролетках либо санях, в дребезжащих конках и крикливых вывесках, безобразно заляпавших здания по самые крыши. Почему-то чаще всего попадались вывески дантистов и фотографов – словно петербуржцы только и делали, что вставляли зубы, чтобы потом увековечиться.
Когда Блок, случалось, проходил по Невскому, дважды – и справа и слева – вывески назойливо напоминали ему об однофамильцах, тех самых, которыми кололи его обыватели и благонамеренные газетчики: «Товарищество на паях Жорж Блок» (лифты, пишущие машины, весы, велосипеды, станки) и «Банкирский дом Генрих Блокк» (с двумя «к»).
Это была старинная, почтенная и скромная банкирская контора. Ее уже властно отодвинули на задний план большие банки, один за другим возводившие на петербургских улицах свои гранитные цитадели, – Азовско-Донской, Волжско-Камский, Русский торгово-промышленный, Русский для внешней торговли.
Сверкал витринами Большой гостиный двор по всем своим шести линиям. Торговый дом «О-Гурмэ», на Большой Морской, предлагал ежедневно поступающие из Парижа и Остенде морскую рыбу, устриц, лангустов и омаров, английскую баранину и московских молочных поросят. Неподалеку торговали цветами из Ниццы. Тяжелыми шторами отгораживались от улицы дорогие рестораны – Донон, Контан, Мало-Ярославец, широко распахивали двери общедоступные Палкин и Доминик. Блудницы в громадных шляпах танцующей походкой прохаживались возле диетического бара «Квисисана»…
А там, где кончался этот сытый и нарядный, то могильно молчавший, то, как улей, гудевший Петербург, на все четыре стороны раскинулись в горбатом булыжнике, в пыли и серой мгле заставы – Нарвская, Московская, Невская, бесконечные проспекты Выборгской стороны, деревянная Охта, голый остров Голодай. Дымили, грохотали, заглатывали в ворота тысячные толпы гигантские по тем временам заводы. Бойко торговали более чем три тысячи питейно-трактирных заведений.
Скудно жил, тяжко работал, топил горе в вине, погибал от чахотки трудовой люд. Как раз в 1904 году городские власти затеяли санитарно-врачебное обследование петербургских трущоб. Вот один из множества примеров: в двух тесных комнатах с кухней, без воды и электрического освещения, в смрадной духоте (окна на нужник и выгребную яму) ютилось пятнадцать человек взрослых и детей, в каждой комнате по две семьи. Из двухсот с лишним обследованных жильцов-одиночек только восемнадцать спали на отдельной кровати.
Война грянула почти для всех внезапно и на первых порах не слишком затронула жизнь Петербурга. Бои шли где-то страшно далеко, за тридевять земель. Сведения о них просачивались скупые и противоречивые.
2Вскоре, впрочем, все прояснилось.
Война была развязана аферистами, теснившимися вокруг царского трона. Предполагалось, что это будет небольшая и, конечно, успешная «военная прогулка», сулящая громадную добычу. О противнике представление было самое смутное, о накопленной японцами мощи даже не подозревали. В правящих кругах самозабвенно предавались хвастовству: русские-де закидают японцев шапками. Помимо всего прочего, заправилам царской России война представлялась панацеей от внутренних неустройств. «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война», – убеждал министр внутренних дел Плеве военного министра Куропаткина.
Действительность опрокинула все расчеты. Военные действия начались вероломным нападением японского флота на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, и сразу обернулись бедой: в минной атаке были серьезно повреждены броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич» и крейсер «Паллада». В тот же день в бухте Чемульпо в неравном геройском бою погибли «Варяг» и «Кореец». Память о них до сих пор живет в народной песне: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает…».
Поначалу, как повелось, власти пытались организовать патриотические демонстрации, но ничего путного из этой затеи не вышло. «Здесь патриотизм цветет только в газетах; на улицах и в обществе – насмешки. Война не популярна», – уже на четвертый день войны писал Горький из Петербурга. Проезжая через Новгородскую губернию, он наблюдал драматические сцены призыва запасных – с отчаянно-залихватскими песнями рекрутов и воющими бабами: «Как будто страну посетила чума: всюду плач и рыдание».
Каждый день телеграф приносил известия о тяжелых неудачах, преследовавших русские войска. В осажденный Порт-Артур был послан адмирал С.О.Макаров, крупнейший русский флотоводец, – на его опыт и инициативу возлагалось много надежд. Но 31 марта грянула новая беда: Макаров повел Тихоокеанскую эскадру в бой, и тут же флагманский броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине и через две минуты затонул вместе с Макаровым, его штабом и почти всей командой. Только облако пара долго клубилось над пучиной, поглотившей лучший корабль русского флота.
Блок писал в эти дни Андрею Белому: «Меня «Петропавловск» совсем поразил». Ему мерещилась страшная картина: люди, «расплющенные сжатым воздухом в каютах, сваренные заживо в нижних этажах, закрученные неостановленной машиной».
Японцам удалось высадить на материке три армии и развернуть наступление. Бездарные царские генералы с треском проигрывали сражение за сражением – Ялу, Тюренчен, Вафангоу… В мае японцами был захвачен порт Дальний. Назначенный командующим сухопутными силами Куропаткин, генерал опытный, но робкий, снабженный в дорогу тысячами иконок, самоуверенно обещал победу, но в августе бестолково проиграл кровопролитный четырехдневный бой под Ляояном.
Куропаткин горделиво
Прямо в Токио спешил…
Что ты ржешь, мой конь ретивый?
Что ты шею опустил?
«Эта идиотская, несчастная, постыдная война – какой-то дикий кошмар». С этими словами Горького перекликаются слова Блока: «…все на Дальнем Востоке – кошмар и ужас вслед за ужасом». Разные, далекие друг другу люди твердили об одном. Так думала, так говорила вся оглушенная, обманутая, оскорбленная Россия.
Двенадцатого декабря комендант Порт-Артура генерал Стессель предательски сдал врагу упорно, в течение ста пятидесяти семи дней оборонявшуюся крепость. Стало ясно: война проиграна, хотя впереди были еще новые катастрофы – Мукден и Цусима. «Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма», – сказал Ленин. Началась агония старой России.
Позорная война, показавшая все ничтожество режима, всю его несостоятельность, послужила мощным катализатором революционного процесса. В июле бомба, брошенная в Петербурге, возле Варшавского вокзала, эсером Егором Сазоновым, в клочки разнесла главного охранителя престола Плеве. Ликвидация этого «вреднейшего государственного животного» (по кратчайшему, но исчерпывающему определению Блока) сильно возбудила общественное мнение. В ноябре на Невском проспекте стихийно возникли демонстрации под лозунгами: «Долой войну!» и «Долой самодержавие!». В декабре забастовала Сампсониевская мануфактура, где рабочий день длился одиннадцать с половиной часов, а месячный заработок ткача не поднимался выше пятнадцати рублей.
В новый, 1905 год Россия вступала в состоянии глубочайшего кризиса. Поэзия, как и положено ей, сразу уловила дыхание надвинувшейся исторической бури. Валерий Брюсов, в ту пору еще находившийся в плену великодержавных иллюзий, писал в новогоднем стихотворении:
3
Весь год прошел как сон кровавый,
Как глухо душащий кошмар,
На облаках, как отблеск лавы,
Грядущих дней горит пожар.
Как исполин в ночном тумане,
Встал новый год, суров и слеп,
Он держит в беспощадной длани
Весы таинственных судеб…
Для Блока 1904 год оказался промежуточной полосой. Что-то оборвалось, а заново еще не завязывалось. Все сильнее наплывало на него новое – незнакомое, тревожное, манящее, обнадеживающее, но этому новому мешало, сопротивлялось, тянуло назад то, чем так напряженно жил он все эти годы.
В некоторой растерянности, оговариваясь и недоговаривая, писал он Сергею Соловьеву (8 марта): «Наступает что-то важное для меня, и именно после наших мистических встреч в Москве. Во всяком случае, могу формулировать (донельзя осторожно) так: во мне что-то обрывается и наступает новое в положительном смысле, причем для меня это желательно, как никогда прежде». Далее – о новых своих стихах, которые уже насторожили Соловьева резким несходством с «белыми лилиями»: «Пишу стихи длинные, часто совершенно неприличные, которые, однако, нравятся мне больше прежних и кажутся сильнее. Не ругай за неприличие, сквозь него во мне все то же, что в прежнем «расплывчатом», но в формах крика, безумий и часто мучительных диссонансов».
… В Шахматово молодожены приехали рано, в апреле. Весна выдалась поздняя, затяжная. То и дело выпадал снег, приходилось топить печи. Сразу погрузились в хозяйственные заботы, самые прозаические. Московских мистических бдений будто и не бывало.
Письма к матери разрастаются в подробнейшие отчеты – как доехали, какой нашли усадьбу, как хорошо выглядят лошади, какой великолепной ветчиной накормила их скотница Дарья. Дальше – о неудачном заграждении пруда, испорченном цветнике, чистке сада, о борове «с умным и спокойным выражением лица», о телках, петухе, курах, гусях и индюках, снова о лошадях, о необходимости пригласить землемера, о покупке быка, пахоте, заготовке льда и дров. Главная тема – «шестнадцать розовых поросят», – в первом же письме он возвращается к ним семь раз, а в следующем уточняет: «Поросят четырнадцать, а не шестнадцать». И лишь вскользь, как о чем-то случайном, сообщается: «Я написал две огромные рецензии в Новый путь».
В деловые письма «шахматовского помещика» диссонансом врываются беглые упоминания о приезде Сергея Соловьева («Разговоры были довольно растерзанные, ничего цельного») или о том, что Соловьев с Белым, оказывается, сфотографировались за столиком, на котором рядом с Библией были водружены портреты Владимира Соловьева и Любови Дмитриевны. (Фотография сохранилась – московские мистики сидят напряженные, очень юные, усатые, в аккуратных сюртучках.) Блок сообщает об этом между делом, в приписке, и воздерживается от оценки и комментария. Поросята и гуси, как видно, занимали его больше.
Вскоре в записной книжке появляется такая заметка: «Теперь побольше ума. Отказаться от некоторого. Между тем – летом утратить кое-какие памяти, укрепиться, отрезветь, многое сопоставить – прочесть и передумать». И далее – уж совсем неожиданно (правда, в тоне вопроса): «Примирение с позитивистами? Всякие возможности». Он хочет «прийти в здоровое состояние», учить наизусть хорошие стихи – Пушкина, Лермонтова, Брюсова, – это тоже способ отрезвления.
Дела литературные вызывали больше чувство досады, нежели удовольствия. Правда, Виктор Сергеевич Миролюбов, душевный человек, пригласил его в свой широко расходившийся «Журнал для всех» и даже заплатил гонорар (первый в жизни, поскольку в «Новом пути» и в «Северных цветах» молодых авторов печатали из одной чести). Но в «своем», казалось бы, «Новом пути» и стихи и рецензии залеживались, бесконечно откладывались. Перцову пишется (но не посылается) раздраженное письмо: «Если почему-либо для печатанья моих стихов встречаются препятствия, то я, не входя в таинственные для меня причины этого, прошу Вас, по примеру прошлой зимы, совсем не печатать их».
Возникают соображения попутные: не лучше ли заняться работой скромной, но постоянной и надежной, пойти служить, исправлять должность, стать, например, учителем русской словесности. Кстати, открылась неплохая вакансия в Академии наук – помощник библиотекаря под началом академика Шахматова, со сторублевым окладом.
Возвращению в «здоровое состояние» больше всего помогали хозяйствование и физический труд. Блок любил и умел работать – и топором, и пилой, и косой, и лопатой. Работа всегда одна, говаривал он, «что печку сложить, что стихи написать».
Первым делом Блоки занялись устройством жилья. Они обосновались отдельно, во флигельке, стоявшем при самом въезде в усадьбу. Домик из четырех крошечных комнат, расположенных вокруг печи, с сенями и крытой галерейкой, тонул в сирени, жасмине, шиповнике и ярких прованских розах. При флигеле был свой, огороженный сад. Здесь Блок соорудил широкий дерновый диван, окрещенный «канапэ» – по стишкам А.Т.Болотова («К дерновой канапэ»), разностороннего литератора XVIII века, о котором Блок как раз в это время писал зачетное сочинение для университета. По бокам «канапэ» были посажены молодые вязы, привезенные из Боблова, на лужайке разбит цветник… В заветном бабушкином сундуке нашлись пестрые ситцы, бумажные веера, старинные шали, – все пригодилось для убранства комнат.
Стихи шли туго. Впрочем, в первых числах мая было написано нечто новое, не похожее на то, что он писал раньше, совершенно свободное по стиху и пленительное по тончайшей словесной живописи:
На перекрестке,
Где даль поставила,
В печальном весельи встречаю весну.
На земле еще жесткой
Пробивается первая травка.
И в кружеве березки —
Далеко – глубоко —
Лиловые скаты оврага.
Она взманила,
Земля пустынная!
–
И кресты – и далекие окна —
И вершины зубчатого леса —
Все дышит ленивым
И белым размером
Весны.
Он учился смотреть – чтобы увидеть. «Знаешь ли, в хорошее, глубокое лето мне удавалось иногда найти в себе хорошую простоту и научиться не щадить красок спокойных и равномерных, – писал он Белому. – Здесь никто не щадит красок. Деревья и кусты, небо, земля, глина, серые стены изб и оранжевые клювы гусей». И сам он жадно хотел овладеть всей палитрой красок, которые так обогащают чувство связи с родиной, с ее природой.
Однако сосредоточиться, собраться, уйти в хорошую простоту ему мешало мучительное ощущение чего-то недосказанного, недоговоренного, фальшивого. «Аргонавты» насильно венчали его на царство, которым он не владел, и его не отпускало сознание, что от него чего-то ждут и что он обязан как-то ответить на ожидания, а ответить нечем.
Тут к месту рассказать одну маленькую, но забавную историю.
В Шахматове пожаловала странная старушка – Анна Николаевна Шмидт. В миру она была скромной репортершей «Нижегородского листка», – ее хорошо знал и прекрасно зарисовал в своих воспоминаниях Горький. Нищая, хлопотливо выбивавшая копеечный гонорар и вечно погруженная в чужие заботы, среди нижегородских обывателей она слыла человеком не от мира сего, блаженной, просто полоумной. Вокруг нее образовался религиозный кружок, в который входили извозчики, мастеровые, какой-то совестливый тюремный надзиратель, пожарник. Церковные власти смотрели на кружок косо, как на рассадник сектантства и еретичества.
Но мало кто знал, что Анна Николаевна не только написала обширное сочинение о «Третьем Завете» (напечатанное много позже), но и считала себя не кем иным, как земным воплощением самой Софии Премудрости, и в этом качестве переписывалась с Владимиром Соловьевым, видя в нем самом перевоплощенного Христа. Судя по письмам Соловьева, он относился к своей пылкой почитательнице опасливо и уговаривал ее не очень верить в «объективное значение известных видений и внушений».
Так вот эта одержимая старушка, прочитав весной 1903 года стихи Блока, разволновалась до крайности: она решила, что стихи относятся к ней, и потребовала личной встречи с поэтом. Блок не откликнулся, а Сергей Соловьев разъяснил Анне Николаевне, что стихи о Прекрасной Даме «обращены не к ней». Тем не менее год спустя нижегородская София Премудрость без обиняков известила Блока, что прибудет к нему для «большого разговора».
Блок растерялся, но уклониться от встречи не сумел. Длинный разговор состоялся в Шахматове в присутствии Любови Дмитриевны. С ее слов известно, что Блок отмалчивался, а Анна Николаевна, нужно думать, догадалась, что уверовать в ее воплощение он не собирается.
Немного погодя Блок придумал шуточное заглавие статьи, будто бы написанной Анной Николаевной для «Нового пути»: «Несколько слов о моей канонизации». Больше они не встречались, – вскоре, меньше чем через год, старушка умерла.
Эпизод сам по себе случайный и пустяковый. Однако каково же было посягательство совершенно сторонних людей на душу и волю Блока. Что же говорить о людях близких…
Отношения с ними неудержимо осложнялись. Сергей Соловьев заметил, что весной 1904 года «собственно и кончаются светлые воспоминания» о его дружбе с Блоком: «Письма его становились холоднее». Переписка с Андреем Белым продолжалась столь же интенсивно, так же была полна взаимных заверений в бесконечной любви и нерушимой дружбе, но и в ней все больше давало о себе знать то, что Блок назвал «различием темпераментов».
Пока Блок молчал, думал, копал канаву и строил забор, Белый кружился белкой в колесе суеты и суесловия. В его нервных, неумеренно восторженных письмах, уснащенных фразистой лирикой неважного стиля, нет-нет да и пробивалась нота недоумения и раздражения по поводу новых стихов Блока: «Чувствую я, что Ты находишься на каком-то «междудорожьи» и молю господа о ниспослании Тебе сил…» В таких стихах, как «Обман» с его фантасмагорическими персонажами и образами («пьяный красный карлик не дает проходу…», «плывут собачьи уши, борода и красный фрак…»), он подметил «страшную опасность»: «Лик безумия сходит в мир…»
То же самое мерещилось и Блоку. Но из переписки побратавшихся поэтов ясно видно, что, говоря об одном, думали они о разном. Для Белого «лик безумия» был знаком приближения апокалипсического Зверя, затмения «зорь», крушения надежд, а Блок и от него ждал совсем другого: «Он разрешит грозу и освежит…»
«Аргонавты» все еще не отдавали себе ясного отчета – куда поворачивает поэт, рукоположенный ими в герольды грядущего духовного возрождения. Ах, если бы они знали, в чем признавался он новому задушевному другу!
Александр Блок – Евгению Иванову (15 июня 1904 года): «Отрицаясь, я чувствую себя здоровым и бодрым, скинувшим с себя тяжелый груз, отдалившим расплату. Именно так говорил, например, с Анной Николаевной Шмидт, которая, допускаю, все, о чем говорит, – знает. Но я не хочу знать этого… Я в этом месяце силился одолеть „Оправдание добра“ Вл.Соловьева и не нашел там ничего, кроме некоторых остроумных формул средней глубины и непостижимой скуки. Хочется все делать напротив, назло. Есть Вл.Соловьев и его стихи – единственное в своем роде откровение, а есть «Собр. сочин. В.С.Соловьева» – скука и проза».
И это было не случайной обмолвкой, не следствием минутного раздражения, но выношенным убеждением. В стихах Соловьева Блок видел и «сочность», и «жизненную силу», а в его теориях – одни мертвые догматы, за которыми сквозило уже нечто совершенно чужое, враждебное, неприемлемое – «рясы, грязные и заплеванные, поповские сапоги и водка».
Через три дня было написано стихотворение, в котором Блок грустно и благодарно простился с «Возлюбленной Тенью»:
Вот он – ряд гробовых ступеней,
И меж нас – никого. Мы вдвоем.
Спи ты, нежная спутница дней, —
Залитых небывалым лучом…
Сказано ясно: «меж нас – никого», «мы вдвоем». Будущее было еще за семью печатями: «Мы – окрай неизвестных дорог».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































