Текст книги "Лягушки"
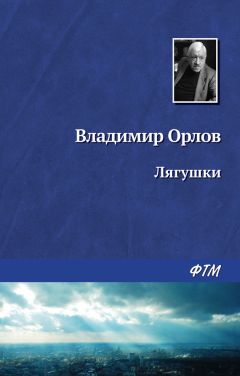
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
16
У дверей в зал Тортиллы его подхватил под руку гарсон. Словно бы пребывал здесь в засаде. А ведь мог, исполняя очерченные промыслом функции, препроводить Ковригина к выходам в туманы, болота и трясины. Нет, к Ковригину были по-прежнему добры (или снисходительны).
Что настораживало.
– Отчего же вы так скоро? – удивился и будто бы расстроился гарсон. – Неужели вас не увлекли действия и смыслы? И что же вы не взяли, пусть даже напрокат, прогулочный факел и не осветили им хотя бы уголок Лабиринта? Для вас была бы скидка…
– Передайте многоуважаемому Костику мои извинения, – сказал Ковригин. – Спасибо за благосклонность. Утомился от ряби сегодняшних впечатлений. А завтра – наиважнейшие дела. Отойду от них – и непременно к вам! Закажу два факела и огненную деву к ним…
– Будем ждать-с! – обрадовался гарсон. – Зайдёте к нам, спросите меня!
Была протянута визитная карточка. Ковригин прочитал: «Ресторан мсье Жакоба „Лягушки“. Лучший ресторан на перекрестье времен и материков. Ответственный гарсон-консультант зала имени товарища Тортиллы Дантон-Гарик Саркисян».
– И ещё, – сказал Саркисян. – Как достойно проявившему себя посетителю, наш зал имеет полномочия вручить вам традиционный сувенир.
Теперь в руках Ковригина оказалась книга «Повседневная жизнь в замках Луары в эпоху Возрождения».
– И всё же зря вы, Александр Андреевич, так поспешаете, – с печалью произнёс Саркисян (а ведь отказывался и от Саркази и от Саркисяна, но кто же он, как не Саркисян). – Посидели бы ещё часок. Ну хотя бы минут сорок. Раки бы мы вам ещё сварили. В Сосьве вода чистейшая… Придёте, а там какая-нибудь неловкость… Лишняя вовсе… И медь ещё не надраена!
– А на кой мне нужна надраенная медь! – осердился Ковригин. Но сразу же попытался смягчить тон. – Я устал. Пойду почивать.
– Конечно, конечно. Я вас понимаю, – поклонился ответственный гарсон-консультант и отбыл в сторону кухни.
«Ещё и медь! Ещё и Александр Андреевич! За кого они меня принимают? – не мог успокоиться Ковригин по дороге в „Слоистый Малахит“. – Как за кого? Инкогнито из Москвы. За него и принимают… Ещё и книгу всучили, мне теперь бесполезную. Но ведь что-то имели в виду… И придётся путешествовать по замкам Луары, выискивая намёки или подсказанные смыслы…»
А ведь прав оказался гарсон-консультант и добродетелен.
Ковригину бы проскочить в «Слоистом Малахите» мимо дверей в гостиничный ресторан быстренько – и в лифт, и к себе – на третий этаж. А он вышагивал к лифту, вышагивал именно не поспешая, ко всему прочему и важничая. И напоролся.
– Ба, Василий! И ты здесь! – Ковригина схватила за локоть властная рука. – А ты-то что здесь делаешь?
Остановила Ковригина Звезда театра и кино пленительная Натали Свиридова.
А из ресторана выходили сытно и весело отгулявшие московские гастролёры и, надо понимать, столпы культурной жизни Среднего Синежтура. Ковригин деликатно дергал руку в надежде, сославшись на дела, удрать в одиночество стодолларового номера. Но скоро понял, что Натали его руку не отпустит и не из-за накала возбуждённых в ней чувств, а из-за опаски не удержаться рябиной прямоствольной и рухнуть на пол.
– Как он любил меня в детстве! – воскликнула Натали. И сейчас же уточнила: – В моём босоногом детстве. Василий был уже студентом, а я невинной школьницей в белом переднике (в пору «белого передника» Натали получала диплом в Щепке, бросала мужей и имела роли). Он писал и посвящал мне что-то ужасно трогательное, у меня текли слёзы. Вася, что ты посвящал мне? Ах, ну да, венки сонетов! Венки…
– В переводе Маршака, – хмыкнул один из коллег Натали по чёсу, трагик и любовник, народный, из Маяковского, и тут же стал сползать по дверному стояку.
– Не брюзжи, противный, – будто бы возмутилась Свиридова и чмокнула ехиду в щёчку. – Вася, дай я и тебя чмокну в щёчку!
Местные элитные жители смотрели на Ковригина настороженно, коллеги же Натали отнеслись к нему без интереса. Двое из них и не были способны на какой-либо интерес, тем более углублённый, они искали поддержку у вертикальных плоскостей и несущих конструкций здания. Третий, Головачёв (этот, в отличие от других заезжих знаменитостей, в театрах не играл, а был лишь Звездой кино, его портреты украшали стены в семейных домах и общежитиях), пока стоял надёжно, курил и молчал. Умно молчать в кинодрамах был его конёк. Причем молчал он, предъявляя на экране профиль истинного героя, супермена и мачо в разнообразных костюмах, часто – форменных: гусарских, гестаповских, чекистских, железнодорожной охраны, в комбинезоне механизатора, в помятом с пятнами халате приёмщика цветного металла ну и т. д. Состояния души его героев и их незаурядные мысли передавали обычно закадровые чужие голоса, отчего персонажи Головачёва становились уж совсем значительными и умными. И сейчас Головачев молчал и думал, но так, чтобы все, и утомленные тяжестями банкета, и случайные люди, пересекавшие холл, видели (а потом и рассказывали знакомым), какой он мудрый, благородный и красавец в своём молчании. («Что он делает у Стоппарда-то?» – подумал Ковригин).
– Свиридова, – сказал Головачёв. – Долго мы тут будем торчать? Пора, пора девицам в номера! У нас там запасы сухого и мокрого пайка!
Звёзды «и театра» мычанием одобрили слова Головачёва. А комик Пантюхов, тот и вовсе поднял большой палец. И смог произнести:
– Из тонких парфюмов соткана моя душа. Цитата. Но и новых парфюмов требует.
– Да погодите вы! – воскликнула Свиридова. – Какие вы ненасытные! У Пантюхова вон пузо отрастает! Набок сваливается! Скоро поручат играть Фальстафа. А я Сашеньку не видела сто лет и три года!
– Ты его только что называла Василием, – сказал Головачёв.
– Василием? – задумалась Свиридова. – Может быть… Васенька, что же ты не пришел на банкет? Ты был на нашем спектакле?
– Я только приехал, – сказал Ковригин.
– А зачем?
– Мне нужно в Журино.
Люди из синежтурской свиты Звезды стали переглядываться.
– Командировка от журнала «Под руку с Клио». Пишу для них эссе, – сказал Ковригин. – И отец жил там два года в эвакуации. Много рассказывал. Меня давно тянуло съездить и посмотреть…
– Са… То есть Васенька – известный литератор. И просветитель, – Свиридова обратилась к народу. – Вы наверняка читали его сочинения. Да, да, Ольга Максимовна, тот самый! И вы запомните его имя. Александр… То есть Василий… – тут Свиридова запнулась. – Надо же, склероз… Старость – не радость. Васенька, не подсказывай… Сейчас вспомню. Караваев! Василий Караваев! Васенька, извини, что я запамятовала на секунду.
– Какие уж тут могут быть извинения! – воскликнул Ковригин. Сам готов был перекреститься. Пронесло! Хотя, что значит – пронесло? Куда пронесло? И от чего пронесло? Потом разберёмся…
– Да, тот самый Караваев! – не могла утишить пафос Свиридова. Но и слезу обнародовала: – Я школьница была, а он мне такие сонеты посвящал… Венки целые…
– В переводе Маршака и Щепкиной-Куперник, – на секунду поднял веки первый любовник Сутырин, он же трагик. – А ты, Караваев, пойдешь сейчас с нами в номера. К сухим и мокрым пайкам! О них напомнил ундерштурмбундер Головачёв. Чудище заговорило.
– Спасибо за приглашение, – сказал Ковригин. – Но не смогу. Есть срочное дело. Да и умотали сивку кривые дорожки…
– Ну, как же! Караваев! Ты меня разлюбил, что ли? – капризно-властное неслось ему в спину.
– Разлюбить Натали может только скотина! Ну, ещё голубой, если он при том и маньяк, – услышал Ковригин резолюцию любовника и трагика Сутырина. – Нимфу хрупкую, как тростник колышимый ветром… Обижать её нельзя…
– Нам больше достанется, – заключил Головачёв.
– Головачёв, ты хоть занимался когда-нибудь техникой речи? – к радости Ковригина (тот стоял у лифта) трагик переключился на творческие изъяны Звезды кино. – Тебя и в быту пора озвучивать Гошей Куценко и этим, как его прости Господи, Чонишвили, а в кокетливых случаях и самой Литвиновой Ренатой.
Прекрасно произнесёнными («отточенными») матерными словами ответил трагику Головачёв.
А Ковригин, не дождавшись лифта, ушмыгнул на лестницу, номер свой замкнул на два оборота, табличку «Прошу не беспокоить!» (Европа всё же, четыре звезды на бороде швейцара!) водрузил на чугунный набалдашник дверной ручки.
Знал, что после сцены у ресторана не заснет. Ложиться не стал и правильно сделал. Напротив душевой поселенцу под кровом «Слоистого Малахита» отводилась комната, квадратом метров в пять, с табуреткой, столиком, тефалевым чайником на нём и зеленоватой пепельницей из местного камня (но явно – не малахита). Кухня не кухня, а место для гладильной доски. А так же для чаепития и принятия прикупленных в магазинах напитков и яств. Тут же стоял и холодильник. Ковригин положил на столик сувенирные замки Луары с их повседневностью, достал из чемодана приёмник в надежде посидеть тихо, успокоиться и кое-что обмозговать.
Но скоро понял, что и успокаиваться нет нужды. Встреча с Натали Свиридовой не взволновала его всерьёз. Не взволновала. В этом неволнении постанывала печаль. Но это была словно бы не его печаль, не Ковригина. Красивая (подробности её нынешней красоты после угощений в зале Тортиллы Ковригин не был в состоянии исследовать и воспринять), так вот, красивая женщина с шеей Натальи Гончаровой (о чём любила напоминать) была, как и некогда, избалованно-благородно-капризная, а сегодня – и в кураже, но чужая. Да, чужая! И обыкновенная. Со сколькими такими обыкновенно-чужими женщинами доводилось встречаться Ковригину! Ковригину стало жалко своих давних романтических видений, ещё сегодня казалось – напрочь забытых: вот, мол, пройдут годы, и она поймёт, как ошибалась, увидит его на белом жеребце и будет страдать, плакать, уткнувшись в уже мокрую подушку с валансьенскими кружевами… Какими идиотами бывают молокососы! Лучше бы они со Свиридовой не повстречались в Синежтуре! Жила бы всё-таки в нём, пусть и где-то в подвале, в погребах его натуры, пусть и неизвестно зачем, некая иллюзия. Теперь нет иллюзии! Натали в его, Ковригина, юности, а чтобы ужесточить отношение к тогдашней блажи, посчитаем, в его запоздалом отрочестве, сверкала украшением из фольги на новогодней елке. На той ёлке она так и осталась висеть. И надо было серьёзно отнестись к совету гарсона Саркисяна и не поспешать.
Так размышлял Ковригин, посиживая на табуретке перед чайником. Чайная комната напомнила ему теперь «ковригинский» уголок кухни в коммунальной квартире. Там по ночам он любил читать (а где ещё-то?) и пописывать. Поначалу как бы играя в бумагомарание, а потом и всерьёз… Заварил чай и в блокноте принялся записывать вчерашние, дорожные, и уже синежтурские наблюдения.
В дверь постучали. Сначала деликатно постучали, потом нагло-требовательно забарабанили. Ковригин дверь открыл. Перед ним стояла Натали Свиридова. Теперь – в шёлковом халате, серебристые и золотые водопады на чёрном. Полы халата при нетерпеливых движениях Натали распахивались, открывая прекрасные колени. Да и верх халата был свободен в своих показах красот Звезды театра и кино.
– Караваев, я к тебе, – сказала Натали.
– Зачем? – вырвалось у Ковригина.
– Это вопрос не мужчины, – нахмурилась Натали.
– Проходи, – сказал Ковригин.
– Ты уже валялся?
– Нет, – сказал Ковригин.
– Значит, бельё у тебя свежее, – сказала Натали. – И прекрасно. Я высплюсь у тебя.
– С чего бы вдруг?
– Эти скотины напились до чёртиков в моём номере, трагик с комиком, грязные ботинки не сняли, улеглись на моей постели, храпят. А генерал Люфтваффе партайдружище Головачев, губы облизывая и пыхтя, начал меня тискать. Я влепила ему пощечину и удрала. Что ещё может поделать слабая женщина?
Свиридова замолчала.
Молчание это можно было истолковать и как приглашение верного поклонника и слуги к рыцарским подвигам. Но порыва подняться на четвёртый этаж и разносить по квартирам загулявших мэтров у Ковригина не возникло.
– Значит, ты не возражаешь, если я займу твое ложе? – Нисколько не возражаю, – сказал Ковригин. – А я…
– А ты можешь лечь со мной, – сказала Свиридова. – Я же вижу, что у тебя не номер, а клетушка…
Натали стелила постель, давая наблюдателю возможность оглядеть её и соблазниться ею. Лет пятнадцать назад для Ковригина не было на свете прекраснее и желаннее женщины. Впрочем, тогда ему бы и в голову не пришло потребности сравнивать её с кем-то. Она была одна… Теперь же он смотрел на Натали спокойно, да, дама интересная, яркая, схожая с той, прежней, и, видимо, потерявшая в передрягах звёздных обстоятельств простоту и категоричность восприятия жизни. Она уложила подушки, повернулась к Ковригину, провела пальцами по его груди.
– Какой ты стал здоровый. А был худой мальчонка. Ма-аленький. Рёбра торчали… Да… Завтра с утра улетать…
– А я… пожалуй… – Ковригин будто бы охрип, но тут же сладкое сомнение было им отменено и базальтовым утверждением прозвучало: – А я посижу за столом. На новом месте всегда не спится. И записать кое-что необходимо…
– Ну, смотри, Караваев!.. – Натали, пожалуй, была раздосадована.
И они разошлись. Ковригин – к чайному столику. Натали – к свежему белью. Ковригин решил – у чайного столика и заснёт, коли будет невмоготу. Но пока был ещё возбужден и принялся записывать случаи сегодняшние. Пожалел, что из упрямства не брал в поездки ноутбук. Мол, в ноутбуке всё пойманное памятью и чувствами окостенеет, а потом и обзаведётся решётками, выпускать что-либо живое и на время забытое не позволит. А заглянешь и через десять лет в исписанный тобой блокнот или в тетрадку измызганную, и всё оживёт, вспыхнет, возникнут запахи и краски… Ковригин сидел и писал, локоть намял, чай пил, завёз пакетики «Ахмада», ни разу не заглянул в «Замки Луары», хотя стоило бы заглянуть, чтобы сообразить, зачем месье Жакобу или тритонлягушу Костику понадобились в сувенирные преподношения именно эти замки. Замки Луары Ковригин посещал, у каждого из них торчал по нескольку часов, и полагал сейчас, что впечатления его вряд ли помогут совместить особенности королевской жизни с повседневностью Среднего Синежтура.
И всё же открыл подаренную ему книгу.
Будто бы был намерен оборониться ею от того, что происходило в единственной комнате (зале) стодолларового номера. А там что-то вздыхало, постанывало, бранилось, словно бы призывы слышались… «Ничего, – думал Ковригин, – перетерпим… Завтра съедут, и скатертью им дорога…»
Но тут ему пришлось поднять голову. Из коридора на него смотрела Натали Свиридова. Полусонная, с неубранными волосами, в чуть ли не распахнутном халате, но и в эти мгновения – дива дивой.
– Караваев, ты издеваешься надо мной! – заявила Свиридова, и было видно, что она сердита. – Уже два с лишним часа не могу уснуть, а он даже не изволит… Хорошо. Если ты сегодня не в настроении, мог хотя бы расположиться рядом со мной, у изголовья, и почитать свои замечательные сонеты…
Свиридова уселась на подоконник, закурила.
– Наталья Борисовна, – сказал Ковригин, пытаясь успокоить себя, – вы находитесь в заблуждении, возможно вызванном и моими неуклюжими умолчаниями. Никогда в жизни я не сочинял какие-либо сонеты, а значит, и не мог посвящать вам венки или читать их на ночь у изголовья. И фамилия моя вовсе не Караваев.
– То есть как? А кто же тогда Караваев? И где сонеты? – Не знаю, кто такой Караваев. Но только сонеты и Караваев – это не я.
– Но ты на кого-то похож…
– У меня, наверное, клишированное лицо. А у вас было множество поклонников. Их и сейчас, видимо, множество.
– Черт-те что! Свинство какое! Он – не Караваев! – Свиридова соскочила с подоконника, сигарету швырнула на пол. – Обидели одинокую женщину! И тебе не стыдно?
– Стыдно, – сказал Ковригин.
Теперь Свиридова была не просто сердита. Она была в гневе. Леди Макбет. Ноздри её раздувались.
– Сейчас разгоню эту дурью кампанию! Богема! Как маленькие!
И она отважной воительницей отправилась сражаться с дурьей кампанией.
Ковригин хотел было продолжить записи, но, увы, не выходило…
К тому же в дверь его начали ломиться.
– Открой, русиш швайн, гитлеровский прихвостень, каратель! Что ты слелал с лучшей женщиной! Сейчас пристрелю как пса смердящего! На кол посажу! Куда вы меня тащите? Я генерал Люфтваффе!..Не трогайте меня!.. Вы что, не узнаёте меня? Я – генерал Люфтваффе!..
И всё же Головачёва сумели куда-то отволочь. В коридоре стало тихо.
Ковригин разделся и рухнул в согретую Натали Свиридовой постель. Одеяло и подушки пахли ландышами. В ландышах Ковригин сейчас же утонул и растворился.
17
Стыдно-то было стыдно. Но и не совсем.
Всё-таки мелкий, мерзкий человечек, живший в нём где-то, в неведомых Ковригину подпольях, порадовался, вскочил, подпрыгнул, руки потёр и утих. Но может, и позже будет подпрыгивать и руки потирать? И не раз? Мол, тобой брезговали, над тобой издевались, и теперь вот такой поворот парохода!
Но какой такой поворот? Каким таким угощением судьбы он удостоен? Случаем на гастролях. Женщине обрыдли партнёры по чёсу, удрала от них, сама не зная зачем, к будто бы некогда влюблённому в неё юнцу, может, в заблуждении, что он и теперь юнец и по-прежнему сплетает ей сонеты из васильков и ромашек. Получалось, что в славе своей она осталась неудовлетворенной и недокормленной, ну, и её это дело, для него же дурман прошёл давно, думать же о каких-либо реваншах было бы скучно и не в его натуре. Жил он в спокойном отдалении от Натальи Свиридовой. Вот и хорошо…
И теперь утренние мысли о Свиридовой быстро были отогнаны бытовыми соображениями. Надо было купить билет на вечерний спектакль. Билеты, выяснилось, продавались и внизу, возле регистратуры. Но здесь имелись в виду покупатели состоятельные, и им предлагались места в первых рядах. А Ковригину хотелось засесть где-нибудь в уголке, там же пересидеть, перетерпеть и до финальной сцены…
– Это вам надо в кассах театра или в городских киосках…
Театр имени Верещагина снова напомнил Ковригину чистопрудненский «Колизей» – «Современник», из гостиничных же буклетов ему стало известно, что в пятидесятые годы здесь процветал и шелестел фольклорными юбками Дворец культуры обозостроителей. К удивлению своему, Ковригин узнал, что именем своим театр был обязан вовсе не художнику-баталисту с раскольничьим кустом на подбородке, а гладко выбритому господину с чёрной бабочкой, Виктору Васильевичу Верещагину, просвещенному заводчику из купчин, городскому Голове и местному Савве Мамонтову… Театральные кассиры мялись, мол, всё распродано, не говоря уже о местах в «уголочках», якобы какие-то нездешние комиссии ожидаются, чуть ли не от «Золотой маски», и от Станиславского, чуть ли не он сам, и от Гильдии актеров. И ещё какие-то гости понаехали, ансамбль прославленно-поздравительный «Генофонд» с ними, в буфетах уже изобилие. При этом намекали на какого-то Эсмеральдыча, с ним, мол, возможны постановки и решения всех проблем. Вопрос Ковригина: «А кто такой Эсмеральдыч?» вызывал оцепенение театралов. «Вы, что, приезжий, что ли?» – с испугом спрашивали Ковригина. «Я проезжий, – отвечал Ковригин. – Из Сыктывкара в Оренбург».
Мог бы назвать и Аягуз.
Но создавалось впечатление, что и в Аягузе про Эсмеральдыча непременно должны знать.
Разыскал Эсмеральдыча Ковригин в сквере возле чугунного бюста заводчика Верещагина. Плотный, шестидесятилетний мужчина, в картузе лионского таможенника, чувствовалось, что весь в шерсти, сидел в солидной будке (на боку её надпись: «Афроамериканцам скидка 75 %») в позе и должности (подтверждалось и реквизитом) чистильщика обуви. Исходил от него пьянящий дух гуталина. К добыванию Ковригиным пера Жар-Птицы Эсмеральдыч отнесся с пониманием, но сразу выкинул вперед кустистые же пальцы: «Десять номиналов!» «Ну, уж нет!» – запротестовал Ковригин. Если бы пьеса была не его, он бы, может, и не протестовал. Но десять номиналов – за свой же текст! «Вот потому-то у нас в городе нет приличной команды класса „Астон Виллы“ или, на крайний случай, „Ливерпуля“, – вздохнул Эсмеральдыч. – На вшивый театр ещё наскребаем, а на футбол – извините!» Доводы Эсмеральдыча показались Ковригину убедительными, и он сунул в гуталиновые руки десять номиналов…
– Если будете ставить на Хмелёву, – совсем уж доверительно зашептал Эсмеральдыч, будто картой пиратского клада желал одарить Ковригина, – можете и ошибиться. А вот об Ярославцевой подумайте. Если что, могу оказаться полезным…
– Премного благодарен, – сказал Ковригин. – Обязательно буду иметь в виду…
Что он обязательно будет иметь в виду, недоумевал Ковригин, кто такие Хмелёва и Ярославцева? Вроде бы фамилии эти он читал в афише «Маринкиной башни» на бульваре Маяковского. И рядом с гуталиновой будкой висела афиша. Но тут исполнители ролей перечислялись «посписочно», и узнать, кто кого играет в спектакле со сверканием меди, не было возможности. «Узнаем вечером», – подумал Ковригин.
Выходило, можно было предположить, что в Синежтуре изобрели и театральный тотализатор, на актёров здесь делали ставки и, видно, создали систему подсчёта очков, по какой и производили выплаты в кассах. Почему бы и нет? Чем труженики Мельпомены были хуже скаковых лошадей?.. И Ковригин отчего-то решил, что разъяснения к подсказкам Эсмеральдыча он отыщет в программке спектакля…
Впрочем, провинциальный картуз осведомлённого Эсмеральдыча, как и его особое отношение к афроамериканцам, всё ещё казались Ковригину сомнительными. Метрах в двадцати от будки чистильщика, для Москвы – музейной, Ковригин остановился, достал билет и принялся изучать его в опасении, что проезжий из Сыктывкара в Оренбург был справедливо признан местными мошенниками растяпой.
Нет, билет был правильный. Один в один с билетом в благородный храм Камергерского переулка. Особенными на нём были лишь слова: «Балкон, правый уголочек». Не правая сторона, а «уголочек». А Ковригин и искал место в «уголочке». Угодили. Уважили. К синежтурским же отклонениям от обиходов Ковригин начал привыкать.
Встав под чугунный, опять же с узорами, козырек крыльца булочной, Ковригин позвонил Дувакину:
– Пётр Дмитриевич, где деньги? Я вшив, голоден и нищ.
– Три часа как выслал.
– И что же не позвонил?
– Твоё приключение, а не моё. И твои корыстные заботы.
– Ну, спасибо. Кстати, мне повстречалась здесь Натали Свиридова. С кампанией. Играли Стоппарда.
– И что?
– Ничего, – сказал Ковригин. – Повстречалась, и всё. Сегодня они уехали. Может, в Москву. Может, продолжать чёс.
– Я рад за тебя, – сказал Дувакин.
– А я-то уж как рад! – рассмеялся Ковригин. – Да, и ещё, кстати. Тут рядом усадьба Журино. Думаю, съездить туда.
– Съезди, – согласился Дувакин. – За свой счёт.
Ни слова не было произнесено сегодня о сестрице Антонине и о том, обеспокоена она его отъездом или нет. Значит, не обеспокоена. И это никак не тронуло Ковригина. Зато он собрался обозвать Дувакина тираном, скупердяем, Гобсеком, да так, чтобы о бессовестном московском издателе узнал весь Средний Синежтур, но превратности жизни заставили его утихнуть, сжать губы, а лицом повернуться к стене булочной. Мимо него по отмытым дождём плиткам тротуара явно в направлении театра имени Верещагина прошествовала с аршином в спине самодержавная Натали Свиридова, только что инспектировавшая Семёновский полк. За ней проследовал генерал Люфтваффе Головачёв с отмытым под душем и вскинутым в небеса бронзовым профилем, а за тем – проплелись бурлаками удрученные тяжестями быта звёзды театра и кино Пантюхов с Сутыриным.
«Так, – сообразил Ковригин. – Надо бежать в гостиницу, изъять там подачку Дувакина, про спектакль до вечера забыть и пуститься в беспечное путешествие по светлому пока Синежтуру! А то ведь эдак изведёшь себя ожиданием…»
К удивлению Ковригина, деньги Дувакина в Синежтур прибыли. Пересчитывая их, Ковригин впустил в себя глупейшее соображение, при этом для него чуть ли не унизительное: а на банкет-то денег не хватит. «На какой банкет? – удивился самому себе Ковригин. – На какой такой банкет!?» В осыпавшиеся жёлтыми и багряными листьями времена, когда драматурги были большими и богатыми, а в драмах их, и даже в их трагедиях, лучшее боролось с хорошим, банкеты после премьер выходили куда более яркими и ароматными, нежели сами премьеры. Ковригин слышал о лукулловых пирах драмодела Софронова, стряпавшего одну пьесу за другой. У того банкеты шли в семи суточных актах.
Ковригин заскучал.
И расстроился.
Но сразу понял, что расстроился не из-за того, что не наскребет денег и на паршивенький фуршет (может, сама «Маринкина башня» не тянула и на фуршет с сидром). Нет, его расстраивало и тревожило иное: как бы он ни уговаривал себя относиться к пустяковой ситуации со смешком, пусть даже если она и угостит его конфузом, он то и дело всё же взбудораживал себя и нервничал, будто был творец с претензиями…
Купил себе место в «уголочке», вот и сиди в «уголочке». А пока – в город!
И Ковригин, с оглядками, мелким шажком, – не нарваться бы на звёзд театра и кино, отправился на привокзальную площадь.
День показался ему серым, но из-за скользящих, сдуваемых ветром нитяных струй, при возникающих на минуты там и тут в небе голубых прогалинах, его можно было признать и перламутровым. Однако эта волнообразная перламутровость Ковригина не умиляла. Вчера, как он понимал, его возбудили лирические восприятия неизвестного ему города с ожиданием скрытых в сумерках тайн и неопределённостей. Сейчас же он глядел на Синежтур глазами делового приезжего. А дело было у него одно, вчерашний же романтический город преобразовывался лишь в бытовое приложение к этому делу.
«Опять! Идиот! – урезонивал себя Ковригин. – Мы вроде бы договорились… Или тебя здесь заколдовали? Хватит!»
А сам думал, в каком наряде явится на спектакль и не купить ли в аптеке упаковку валидола. «Есть же фляжка, – вспомнилось Ковригину, – с тираспольским коньяком…»
Делового же приезжего Синежтур, выходило, нынче не особо радовал. Вокзал, оказалось, стоял на южном ребре-окаёме Блюдца, и в ясный день город от него можно было бы увидеть во всех подробностях. Но сейчас из всех подробностей глаз приезжего человека выхватывал прежде всего трубы с дымами, тяжёлые вертикали домен, градирен, коксовых батарей, придававших городу вид созидательно-солидный, но пожалуй, что и угрюмый. Развлекаться в таком городе полагалось бы со степенностями и оглядкой на моральные устои. «Маринкина башня» театра им. Верещагина была обречена стать спектаклем печально-драматическим. Впрочем, судьба Марины Мнишек этому и не противоречила…
И вчерашние весёлости, вызванные знакомством Ковригина с историей площади имени Каменной Бабы, сегодня улетучились. Единственно, что удивляло теперь Ковригина: отчего вблизи рельсов и паровозов поставили не чугунную бабу, что было бы логично при здешних привилегиях чугунам, а бабу каменную? Но когда Ковригин обошел и оглядел мраморное творение, признанное им Каллипигой, свои удивления он отменил.
Ничем мрамор не уступал чугуну.
Конечно, временная каменная баба соответствовала неаполитанскому варианту Афродиты-Каллипиги лишь своим прекрасным оголённым задом. Но оказалось, что эллинка и спереди, не менее задорно-обнажённая, была хороша, и не зря ей на не оговоренный пока срок доверили украшение площади. Из гостинничных же буклетов Ковригин узнал, что для дворца в Журине из Италии привезли копии греческих и римских мифологических персонажей, исполненные в семнадцатом веке. Что за красотка дежурила теперь на гранитном пьедестале, исследователи ещё не выяснили. В инвентарных же книгах бывшего дома отдыха «Журино», нынче частного владения, она числилась «женским телом осенних купаний» (может, и оголилась ради того, чтобы войти в воду). Дневному тщательному осмотру Ковригиным каменной бабы что-то мешало. Мелькали соображения из стереотипов: на кого же она похожа? Не на Лоренцу ли Козимовну – раз от италийских копиистов? Не на Марину ли Мнишек – раз тут семнадцатый век? Почему бы и нет? Но уж точно не на Натали Свиридову, проще была мраморная девушка, улыбчивая даже, и вовсе не надменная, не проглотившая аршин, а будто – облако переливчато-нежное… Но вдруг тут не обошлось без Хмелевой и Ярославцевой?.. Может, их-то лица и предвидели четыре века назад мраморных дел мастера? На кой им какая-то Лоренца! Или тем более Марина Мнишек, случайная и вовсе не мраморная строчка в истории! А он, Ковригин, так и не поставил ни на Хмелеву, ни на Ярославцеву, игнорируя подсказку чистильщика Эсмеральдыча! Куда и кому ставить? Надо же, какие перескоки глупостей происходили в нем сейчас! И всё из-за нетерпения! Из-за неуправляемого взрослым человеком очумелого нетерпения. Старания Ковригина истребить его в себе были судорожны, оно вспухало и дёргалось в нём…
А не напиться ли, подумал Ковригин, и немедленно? Нет, обещал ведь себе поглазеть на Падающую башню, вот от каменной бабы иди и задери вблизи Башни голову. И ведь пошёл. Причём не отдаляясь от вчерашнего троллейбусного маршрута № 1, а спускаясь к центру Блюдца соседними улочками и переулками. Успел заметить, что на востоке, за прудом, поднимаются (или уже поднялись) здания в двадцать, а то и поболее этажей. Значит, деньги в городе и впрямь были. Спустился к Плотине. Оказалось, что башни у Плотины – две. Одна – известная историкам и искусствоведам, Падающая, эта – за Плотиной, во владении Турищевых. И вторая, городского значения, – прямо у южного края Плотины, как бы вертикальное завершение её, со синежтурскими курантами в верхнем ярусе. Чадо уже известного Ковригину заводчика Верещагина. Ночью и утром Ковригину доводилось слышать звоны и мелодии общедоступного будильника и надзирателя за беспорочным ходом времени в здешнем пространстве. Надзирал он и за расплавленным и остывшим металлом, а для синежтурцев – несомненной материей, на ощупь и в полётах философических категорий. Свидетельством местных представлений о смыслах и целях бытия (по разумению Ковригина) была увиденная им широченная чугунная лестница, спускавшаяся от городского обрыва к Плотине (теперь – и мосту) и к серо-снежным волнам Заводского пруда. Не такая изощренно-замковая, как Шведский кремлевский взвоз в Тобольске, не такая всемирно-прославленная, как Потёмкинская, но не менее примечательная из-за своих художественных совершенств и особостей. Ступени её, правда, пришлось заменить камнем, прежние зимами обледеневали, металл вёл себя зловредным проказником, заставлявшим горожан скользить, ломать конечности и рёбра. Но четыре смотровые площадки сохранились, и Ковригин постоял на каждой из них. Синежтурское литье ценилось в уровень с каслинским, и если верить буклетам, получало призы на Всемирных выставках. И художники-кузнецы здесь были хороши. По прихоти Верещагина и даже по его карандашным подсказкам, сюжеты оград, перил и чугунных («с просветами») картин на смотровых площадках мастера создавали сказочно-басенные, порой и с оживлением мифологических персонажей. «Аниматоры», – пришло в голову Ковригину. Он остановился на второй, наиболее просторной видеоплощадке, крытой восьмиугольным шатром, схожим с завершением Василия Блаженного, но не глухим, а с узорчато-проникающими с небес световыми пятнами и влагами. «Ба, да и тут в узорах Верещагина есть нечто мне известное…» Ковригина отвлекли японцы. Или китайцы. В углах смотровой площадки стояли кормушки и поилки. В них барменами суетились медведи, подпоясанные красными ямщицкими кушаками (эти, между прочим, разливали медовуху) и оленихи-важенки в белых передниках и с голубыми бантами на надбровных буграх. Служители сервиса предлагали заезжим людям сувениры и печатную продукцию. Так вот, японец, в руках у него был листок с фамилиями и циферками, на смеси русского с ошметками конотопской мовы поинтересовался у Ковригина, на кого ставить: на Хмелёву или на Ярославцеву? «Я-то тут при чём!» – возмутился Ковригин. «Ну как же! Вы же ведь Ковригин!» А уже подскочили другие японцы или китайцы, требовали, чтобы Ковригин сказал им честно, на кого ставить: на Хмелёву или на Ярославцеву. Хватали его, тянули куда-то, будто он сейчас же должен был вернуть северные территории. Ковригин вскричал чуть ли не истерически, что сам он не будет ставить ни на Хмелёву, ни на Ярославцеву, а уже поставил на Древеснову. Изумлённые японцы расступились и дали Ковригину сбежать на третью смотровую площадку. Там он замер, будто невидимый, прижавшись к чугунному столбу. Успокоившись, обнаружил, что под обрывом, чей срез был укреплён бетоном подпорной стены, имеется вполне благоустроенная набережная, с пляжами, сейчас пустыми, лодочными станциями, выложенным плиткой променадным тротуаром и множеством кофеен и мелких развлекательных заведений. Живое было место в городе дымящих труб, прямо какая-то земля Санникова с неожиданной, будто южной растительностью. Желтели каштаны, краснели канадские клёны и, будто кипарисы, поднимались от воды высоченные, в пышных шубах, можжевельники. Санаторные цветники с агавами, багровые дорожки ботанического сада примиряли с трубами и были будто бы способны вызволить житейские настроения от свирепостей северных непогод. Может, микроклиматом одарила природа южный берег пруда. Или – проще того! – трубы обогрева были подложены под цветные плитки набережных тротуаров. Или… А не прорыты ли до набережной ходы лабиринтов ресторана «Лягушки», прогретые флюидами и эффектами от промасленных факелов подземных путников и их сопроводителей? Да мало ли на какие тепловые фокусы был способен месье Жакоб ради коммерческих добыч! «Вспомнил! Вспомнил!» – сообразил Ковригин. А вспомнил он без всякой связи со впечатлениями от набережной о том, что привиделось ему в узорах чугунного шатра. Сцена, появившаяся некогда на костяном боку чибиковской пороховницы! Каким макаром стала она одним из сюжетов (или таинственных знаков) городского транспортного сооружения? Но явно проявился в чёрном узоре и профиль женщины, и Ковригин был уверен теперь, что это профиль и привокзальной каменной бабы, причём нос у неё совершенно не эллинский (хотя и эллинский при прелестях её тела был бы хорош), нет, это был нос северной женщины с чуть заметной вздернотостью или вздорностью кончика носа Беаты Тышкевич (уступка его, Ковригина, Марине Мнишек, что ли, или Софье Алексеевне? Фу ты, глупости чугунно-синежтурские!).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































