Текст книги "Лягушки"
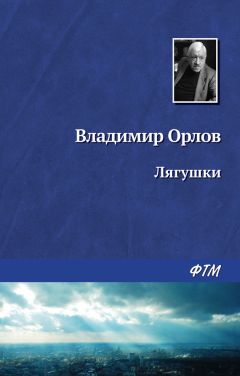
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– А голодные ботсванские граждане остались без обеда, – вздохнул Ковригин.
– Что вы на это скажете? – спросил Белозёров.
– А что тут сказать? – пожал плечами Ковригин. – Совпадение и есть совпадение. И нет в нём никакой странности.
Зазвенело во второй раз.
– Единственная к вам просьба, – сказал Ковригин, – если столкнётесь с публикатором Блиновым, не говорите ему об этом совпадении.
– Буду молчать, как баба на площади! – рассмеялся Белозёров.
И подмигнул Ковригину.
Дамам сопровождения было указано следовать вниз, но они, радостно-восторженные, успели подскочить к Ковригину, сине-ресничная Долли даже с хихиканьем ущипнула ему бок.
– Проказник, – зашептала Долли заговорщицей, – я ещё в поезде поняла, что вы едете к нам не просто так… А может, Древеснова приманила вас чем-нибудь? Ну, тогда вы шалун… Но с ней держите ухо востро! Это, я вам доложу…
– Александр Андреевич, – сказала Вера, Ковригину показалось – с нежностью, – желаю вам успеха сегодня… Ни пуха, ни пера…
– Милые барышни, – сказал Ковригин, – очень прошу, ни с кем не делиться своими предположениями хотя бы до конца спектакля.
– Конечно, конечно! – воскликнула Долли. – Понимаем! Инкогнито! А мы – две каменные бабы! Чтобы и вам хотелось! Проказник!
И барышни упорхнули к местам, указанным в билетах.
19
С третьим звонком Ковригин пробрался в свой уголок.
Внизу были заняты все приставные стулья.
«Ну, Юлик Блин! Ну, Блинов!» – свирепел Ковригин. Ему было сейчас не до зрителей на приставных стульях, не до спектакля. Разглядел в темноте избавленной от занавеса сцены три кривобоких вертикальных сооружения, видимо, три башни, а в центре между ними на лобном, надо полагать, месте – плаху с вбитым в неё топором (позже выяснилось, что это и не плаха, а деревянная колода, прикупленная театром в мясном ряду городского рынка, оттуда же происходил и топор). Из шепота соседей Ковригин понял, что начало действа оттягивают в ожидании неких персон, которые вот-вот должны были появиться в Директорской (звучало – будто в Императорской) ложе справа от сцены. Но что были теперь Ковригину эти персоны! Его волновал Блинов, друг и душеприказчик! Хорош гусь! Объявил покойником. Отправил под ноги разъярённых слонов. Подал на стол оголодавших туземцев. С чего бы вдруг? Чувство юмора имел мизерно-сомнительное. На внятные розыгрыши не был способен. На мистификации – тем более. Мелкий безобидный неудачник… Но, видимо, в истории с его, Ковригина, пьесой искал и нашел выгоду. Любил плакаться, выказывать себя жертвой обстоятельств эпохи и вызывать жалость. Небось слёзы выдавливал из себя перед решающими людьми – и по поводу собственных крушений, и по поводу потери (или пропажи без вести) лучшего друга. И стал публикатором и душеприказчиком. Наверняка и права на пьесу теперь у него. Можно представить, какие чудеса были произведены в Синежтуре с текстом пьесы. Странно только, что этот самопровозглашённый лучший друг не приставил к пьесе своё имя. Скорее всего, опасался чего-то. А может быть, в использовании имени пропавшего автора поблёскивала своя выгода. При этом был брошен намёк о возможной литературной мистификации. И тут выходила выгода. Мистификации и ожидания снятия покровов с тайн нас приманивают… Но что он сидит сейчас на балконе? Надо бежать вниз, искать Блинова, поставить паршивца на место, а то и в морду плакальщику дать! При народе!
Однако что из этого получится? По всей вероятности, конфуз. И хорошо, что он, Ковригин, в Москве раздумал звонить Блинову. Разгорячился и был намерен расспросить о судьбе своего студенческого сочинения, по юношеской дури затеянного. Да и советов ожидал. Раздумал, правда, из боязни, что сестрица Антонина выпытает у Блинова о поездке брата именно в Средний Синежтур. (А у неё и нужды не возникло выпытывать.) И тогда он не знал о проделках однокурсника с его пьесой. Теперь, полагал Ковригин, у него есть преимущество засады. И оно требует хладнокровия.
Впрочем, какое такое преимущество? Сам-то он, Ковригин, каков во всей этой ситуации? Олух Царя Небесного! И более никто! Единственный машинописный экземпляр от барских щедрот, и вследствие сытости застолья, отдал Блинову, шубой соболиной одарил неудачника из Перми, сирого, нищего, убогого, но однокашника. Про соболиную шубу, конечно, не думал, плащиком от едких влаг прикрыл, но тот и плащиком был доволен. И посмеялся наверняка над идиотом Ковригиным. Сам Ковригин рукопись пьесы не нашел, не исключено, что тетрадь с ней (в ученическую клеточку была) давно порвали и выкинули. Текст пьесы он не помнил. Не помнил даже её названия. И ведь по пьяни да и в благодушии удачливого (в те дни) москвича мог, зачеркнув посвящение «Н. С.», нацарапать: «Посвящается Юлию Блинову». А потом ещё и в приступе великодушия бумажку какую-нибудь подписать с передачей Блинову прав на публикацию! И что он теперь приволокся в Синежтур? Кем он сидел сейчас в своём «уголочке»?
Самозванцем. Лже-Ковригиным. Лже-автором. Совпадением, какому и предстоит остаться совпадением.
– Острецов! – зашептали вокруг. – Острецов!
Люди, сидевшие в первых рядах балкона, стали приподниматься, бинокли скашивать вниз и вправо.
– Прибыл! Раскланивается.
А Ковригин вспомнил, что и прежде слышал или читал нечто об Острецове. Не о форбсовом кавалерстве прибывшего в Директорскую ложу и не о его финансовом расположении во вселенной. Про это-то он незаинтересованным обывателем («нам-то что!») знал от ТВ. Нет, на ум ему сейчас пришел какой-то другой Острецов. Или другие Острецовы. И связаны они были с Яхромой и близким душе Ковригина Дмитровским уездом. И с давними временами. Мысль об Острецовых сейчас же была сметена мыслью о прибытии Марины Мнишек в Дмитров из Тушина для смотра войск гетмана Сапеги. Ковригин написал эпизод знакомства Марины (ей было тогда уже двадцать лет) с Яном Сапегой, но в пьесу его не включил…
Ковригин ощутил, что начинает вспоминать текст пьесы. Или текст этот заново рождался в нём. И для него (или – в нём) оживала ЕГО Марина Мнишек.
Ковригин разволновался. Его стала бить дрожь.
Он полагал просидеть спектакль ироническим наблюдателем. Сейчас же в нем возникла физическая потребность сбежать из зала и спрятаться, зарыться где-нибудь, хоть бы и в гостинице под одеялом. О Блинове Ковригин забыл. Страх животный холодил его. Страх подобный приходил к нему редко. Да и то – уже после обвальных событий, когда осмысливалась опасность (случалось – и смертельная) произошедшего. Нынче же страх накатил на него накануне события. Страх чего? Ковригин и сам не мог понять – чего? Позора? Позор уже прожёг его пятнадцать с лишним лет назад после прочтения пьесы блистательной Натали Свиридовой. Болезненная боязнь чьего-то мнения? Но не было в зале театра имени Верещагина никого, чье мнение было бы теперь особенно важно Ковригину. Тщеславием к тому же он не маялся. И житейских удач от спектакля в Синежтуре не ждал. А ощущение того, что вотвот произойдет с ним дурное, удар хватит или ещё что, не уходило. В антракте сбегу, постановил Ковригин. Рука его поползла во внутренний карман пиджака. Фляжки с тираспольским коньяком там не обнаружилось. Забыл в номере. Знак! Это знак, решил Ковригин. Предложение терпеть и вытерпеть. Даже и после антракта.
Однако успокоиться никак не мог. Теребил листочки программки, подергивал ногой, вызывая недовольство соседей. Невротик. Чернота зала угнетала его ожиданием непредвиденного. А ведь был вроде бы готов к фокусам и пошлостям любых, и здешних, понятно, режиссёров, они и в Москве фокусничают и разводят пошлости, был готов и к коммерческим уловкам, к неуважению текста, к дилетантизму лицедеев из самодеятельности. Теперь же всё это заранее вызывало его тревогу и раздражение.
Но вот светотехники высветили сцену, и на ней стали передвигаться и разговаривать люди. И Ковригина будто ударной волной прижало к спинке кресла.
Так и просидел он весь спектакль, часа три (режиссёр отменил антракты, и зал их отмену вытерпел), был в состоянии футбольного страдальца, не фаната-юнца, горлопана, опоенного и обкуренного, а настоящего болельщика, явившегося на финальную игру в Кубке Чемпионов СВОЕЙ команды. Утонул в чужой жизни и в собственном напряжении, исключавшем какие-либо мысли, кроме мелких боковых соображений, тающих тут же. (Скажем, подумалось на секунду: откуда добыты исторические костюмы, даже и для статистов? Выяснилось позже, что они закуплены, почти задаром, за копеечку, в трех соседних областных городах, там опустели оперные театры, ставившие некогда Мусоргского и Глинку.) Будто бы сам был среди бояр, польских посольств, донских казаков Заруцкого, гама и свар мятежных лагерей, паники, интриг, амурных радостей завезённых из Польши фрейлин (все в ссылках вышли замуж) дочери сандомирского воеводы, полагавшей, что она имеет право подписывать послания – «Марина императрица» (а в посланиях этих горевали слова: «Всего лишила меня превратная фортуна…»). То есть три часа Ковригин соучаствовал в десятилетних событиях Смуты и в возбуждении жил лишь чувствами. Будто третьеклассник на спектакле в Детском театре, был способен вскочить и выкрикнуть спасительные советы людям семнадцатого столетия. Чего от себя, циника, не ожидал и над чем позже посмеивался. «Надо же! Этакое со мной случилось!..» Оценочные соображения пришли к нему лишь после спектакля, и то не сразу. Нельзя сказать, что они были беспристрастно рассудочными. Нет, они давали повод Ковригину укорять себя: «Снисходителен ты, братец, снисходителен… Конечно, ты ожидал худшего, это понятно, но тем не менее… Сам собой удивлён и фыркаешь, надувшись. А в одном случае ты просто увлёкся. И, возможно, зря…»
Этот «один случай» ещё придётся разъяснить…
Да, Ковригин пребывал в удивлении. И от собственного текста, а текст был его, то есть в принципе – его, он его вспомнил, как вспомнил и название пьесы. И от того, как в театре отнеслись к его пьесе.
Укор по поводу снисходительности впечатления был справедлив. Но что поделаешь, человек слаб. Конечно, многие ожидания Ковригина подтвердились. Вышло так, что дубовая колода и топор не зря были приобретены именно в мясном ряду рынка. Колода по ходу действа побывала и лобным местом, и троном Папы, и возвышением для речей смутьянов, и позорной лежанкой, на которую бросили искалеченное тело самозванца, да – мало ли чем. Но главным образом и долго она служила по назначению – на ней рубили мясо (в программке сообщалось, что роли мясников исполняют приглашенные мясники городского рынка такие-то). Историки и писатели привычных направлений, А. С. Пушкин, например, в «Борисе Годунове», связывали действия и затеи воеводы Юрия Мнишека, не последнего человека в Речи Посполитой, с интересами Ватикана. Речь Посполитая и теперь никуда не пропала, но для Синежтура католические мотивы оказались, видимо, не слишком важны. Известные по учебникам деятели монах-бернардинец Бенедикт Анзерин, ксёндз Франтишек Помасский и нунций Рангони, уместившиеся и в пьесе Ковригина, не столько, как бы им полагалось, занимались делами Папского престола, сколь были озабочены в Синежтуре продвижением польского мяса, а с ним и бычьих хвостов в Россию. Да и сам Папа в письме к Марине, поздравляя её с обручением, назвал польское мясо первым и главнейшим для неё делом. А мясные лоббисты в Краковском сейме пообещали шустрому воеводе и дельцу Юрию Мнишеку миллионы и владения в Московии, и тот бросился в авантюру со странным типом, вообразившим себя сыном Грозного Ивана. К типу этому странному, не разгаданному и поныне, нигде не относились всерьёз, а ушлый князь Адам Вишневецкий держал его за шута и «учинил на колесницах ездить людно», будто императора Рима. Ради мясных миллионов Юрий Мнишек включил в авантюру и малолетнюю романтически настроенную дочь Марину. Но польское мясное дело прогорело. В Москве, уже на третий день свадьбы, то есть Веселия Марины, по свидетельству немецкого хроникёра Конрада Буссова, Самозванец приказал русским поварам приготовить польское кушанье – варёную и жареную телятину, для московитов еду – нечистую, те сразу поняли, что царь-то – странен и подозрителен, чужак, но «молча стерпели, выжидая удобного случая»… А через пять дней Самозванец был убит и растерзан. Мясные лоббисты сумели пропихнуть в Московию лишь краковскую колбасу… Но Смута продолжилась.
Вот тут-то и понадобились режиссёру (или продюсеру? или спонсорам?) дубовая колода и мясники с городского рынка. Мясо, а потом и колбасу они рубили артистично, почти без слов, но с выражениями. Свойства мяса на колоде изучали православные попы, санитарные дьяки в служебных кафтанах с кошелями в руках, а также простой вороватый народ. И понятно стало Ковригину, почему пожарник Вылегжанин в телефонном разговоре назвал спектакль «Польским мясом».
Если бы Ковригин сидел на балконе, как и настраивал себя, ироническим наблюдателем, он, возможно, похихикивал, а то и хохотал бы. Если бы он попал в верещагинский зал театральным простаком-ретроградом, он бы воскликнул: «Позор! Халтура!» – и удалился бы на свежий воздух. Но он пребывал в уважительном волнении. Или даже в томлении души (эко как пафосно и с последствиями насморка названо!). Ну и что, говорил себе. Ну, отсебятина. Ну, интермедии, со своим отношением к истории и людским делам. А сколько такой отсебятины в вахтанговской «Турандот»! И осовременивается эта отсебятина то и дело. И зритель, даже и самый тонко-придирчивый, не морщится. Потому как – не скучно и талантливо. Насчёт талантливости «Маринкиной башни», решил Ковригин, пока будем помалкивать, но интермедии в ней принять можно. А они и далее следовали по ходу спектакля. Вот Марина, еще в Москве, печалилась в присутствии отца, нет здесь, мол, привычных лососей и вин, а к столу являлся тут же дипломат Афанасий Власьев, заменявший год назад в Кракове при первом обручении Марины жениха, царевича Дмитрия, и заявлял: «Вот вам, пожалуйста, прекрасный коньяк „Камю“ из варшавских крыжовников!». «А ведь мог быть и из елабужских подушечек! – отмечал про себя Ковригин. – И молодец Марина не потребовала грузинских вин, они к лососям были бы нехороши…» Запорожские казаки, взявшие сторону Самозванца, носили оранжевые шаровары, а двое из них рыжие оселедцы превратили в плетеные косицы, украсили ими бритые лбы, горлопанили, трясли зелёными бумажками с мордами в бакенбардах и звали на майдан. Всякой шантрапы было много в Тушинском таборе Лжемитрия II, эти буянили, требовали жалованья, здесь не обошлось без братишек в тельняшках и анархистов батьки Махно, мушкеты (рушницы) они приделывали к тачанкам и орали перед окнами царицы Марины: «Любо, братцы, любо!» (в театре остались костюмы и реквизит от пьес Вишневского Всеволода, доносителя на Булгакова, отчего же и их не пустить в дело?). Да и какая Смута могла обойтись без шаровар, братишек, анархистов и мошенников? Как и без возбужденных свободами дам! Не Марину Мнишек имел в виду сейчас Ковригин, не Марину! Опять же пожарником Вылегжаниным были обещаны танцы, весёлая музыка, красивые и задорные девушки. Для их массовок (в программке сообщалось) пригласили группу поддержки местной баскетбольной команды. Было ради чего ходить в Синежтуре на баскетбол! Замечательно смотрелись девушки в бальных костюмах (Польский акт «Ивана Сусанина» с полонезами и мазурками), прекрасно выглядели они и в купальниках, отменявших на время скуку Тушинской таборной жизни. Гремела и обещанная музыка. На свадьбу Дмитрия и Марины прибыли из Польши тридцать музыкантов, но их жанровое направление не устроило московских ценителей искусств, и дерзкие гости были перебиты. Ну и так далее. Удивило Ковригина лишь одно. Уже в Москве он начал ожидать сверкания меди. Но никакого сверкания меди не случилось. И еще. Ковригин так и не понял, отчего спектакль называется «Маринкина башня».
Но всё это были мелочи. И они Ковригина не коробили.
Если и коробили, то чуть-чуть. Как эстета. Или отчасти как непременного столичного сноба.
Но главного они не отменили. И не перечеркнули.
Текст пьесы, за вычетом интермедий-отсебятин, остался его, ковригинский (ну, актёры его кое-где перевирали, это ладно). И суть сочиненного им зрителю была доставлена. Пусть порой в упаковке из фольги с рыжими крапинками.
Пятнадцать лет назад он желал угодить Натали Свиридовой, совершенству, произведению природы и искусства, на какое он позволял себе взглядывать лишь издалека. Но вскоре забыл про угождения. Ради Натали была лишь использована форма драмы. Ковригина тогда вобрала в себя история «гордой полячки» (кстати, папаша её, Юрий Мнишек, был чех, но это не столь важно). Его удивили открывшиеся ему обстоятельства её жизни и несправедливость отношения к ней потомков. Вполне возможно, что он и сам в своем увлечении был несправедлив и напридумывал никогда несуществовашую женщину. Но похоже, он влюбился тогда в сочиненную им Марину и убедил себя в том, что она была такая и никакая другая, интуитивно-учуянный им образ угадан верно. А прав он или не прав в своих оценках, не имеет значения.
Пьесу он назвал – «Веселие царицы Московской».
После гибели Отрепьева и погрома поляков в Москве, подданных Речи Посполитой, в их числе и королевских послов, прибывших на свадьбу Марины и царя Дмитрия, из Московии не выпустили, они стали ссыльно-пленными. Возникла переписка между Москвой и Краковом об их судьбе, в Москве царствовал хитрован, можно сказать, и мошенник Василий Шуйский, и слово «свадьба» из важных бумаг исчезло, было заменено «веселием». Московская свадьба семнадцатилетней Марины и стала для неё «веселием» на девять дней, а первая брачная ночь – «Радостью». Такие существовали понятия.
А через четыре года в послании к королю Сигизмунду III Мариной были вписаны слова: «Всего лишила меня превратная фортуна…»
Веселие царицы Московской вышло полынным.
Школьник Ковригин образование получал и в Большом театре.
Гордую полячку у Мусоргского в сцене у фонтана озвучивали меццо-сопрано. Как правило, это были дамы крупные, если не громоздкие, широкие в плечах и в бёдрах, в весе и в возрасте, иные и за пятьдесят, с агрессивными интонациями дрессировщиц. Такой и впечаталась Марина Мнишек в сознание восьмиклассника Ковригина. На самом деле в дни знакомства в Самборе с московским царевичем, чудесно спасенным, она была пятнадцатилетняя девчонка, хрупкая, воспитанная в строгости католических привычек, игравшая в куклы (уже в ярославской ссылке, в девятнадцать лет, при очередных напастях и погромах, готова была отдать свои драгоценности ради спасения «игрушки» – маленького арапчонка). У Пушкина в сцене у фонтана царевич объявляет Марине о своем самозванстве, её это мало волнует, её волнует Московский престол. Свидетельств этому ни в каких доступных ему источниках Ковригин, сочинявший драму, не нашёл. Отец, а потом и другие взрослые, государственные мужи по преимуществу, ввели девочку в сюжеты своих авантюр жертвой. Монетой разменной. Понимала ли она это? Вряд ли. Московия была для неё тридесятым государством, досадно, если ещё и сказочным. А представленный ей в Самборе кавалер, ищущий поддержки влиятельных панов, мог её увлечь и вызвать девичьи грёзы. Принц не принц, а всё же царевич. Ладный, ловкий, теперь сказали бы – спортивный, галантный в разговорах, ходок, имевший успех у женщин (Юрий Мнишек был озабочен интересом «тестя» в Москве к красавице Ксении Годуновой), а по убеждению Ковригина, и обладавший несомненными гипнотическими способностями и энергетикой (экстрасенсорикой?) – иначе как объяснить превращение за два года одинокого чернеца в Московского царя. Конечно, такой кавалер мог произвести впечатление на юную пани. Воспитанная монахами в благочестии, Марина, считал Ковригин, лишь после Московской свадьбы перестала быть девственницей – «Радость свершилась», и прожила со своим первым мужчиной неделю. А потом – крах. И новые авантюры папаши, Юрия Мнишека. Оживший царь Дмитрий в Тушинском таборе наёмников. Вернуться из ярославской ссылки в Самбор Марине и её окружению не дали, уворовали и привезли в Тушино. Нужен был её титул, обеспеченный венчанием в Кремле и целованиями креста. Мертвым Марина мужа не видела, некая надежда возникла в ней. По дороге в Тушино Марина в карете «радовалась и пела». Но при встрече с тушинским героем увидела: человек этот ей неведом. Будто бы даже был приставлен Мариной к груди кинжал, мол, умру, но не соглашусь с обманом. И всё же папаша, ради своих выгод и якобы выгод Речи Посполитой, уговорил, улестил дочь, неизвестно, какими доводами, признать тушинского вора царем Дмитрием Ивановичем, притвориться его женой, при условии отказа им от супружеской жизни до поры, пока не будет возвращен Московский престол. «Мнишек продал свою дочь», – написал Н. Костомаров, кстати, относившийся к Марине с неприязнью…
Явление Тушинского вора, «царика», чудно и темно. Откуда он взялся, не открыто до сих пор. По одной из версий – это был «хитрый парень», учивший детей попа в Шклове под Могилёвым на Белой Руси, выгнанный попом за шашни с хозяйкой дома и пустившийся во все тяжкие. Отрепьев был истинно Самозванец и судьбу устраивал САМ, поначалу в одиночку. Шкловский хитрый парень был – Кем-то-званец. Кукла в вертепе Смуты. Жил подсказками и повелениями (и на деньги) личностей влиятельных, корыстных, с гонором тщеславия, но полагавших, что и они озабочены судьбами двух государств – Руси и Польши. Правитель он был слабый, неудачливый, и от сознания своих слабостей, неудач и унижений – мстительный и жестокий. Жила Марина в таборе среди мародёров, наёмников без совести и принципов, пропойц, пускавших в мужских застольях дурные слухи о ней, разорителей и без того нищих земель. Существование её было мерзким, но всё же проходило оно в присутствии и под покровом отца. Но вскоре после того, как тушинское воинство присягнуло на верность царице Марине, Юрий Мнишек отбыл в Польшу. То ли устал от попыток добыть Московский престол. То ли накормился выторгованными обещаниями новых земель и денег. Будто бы пристроил дочку при завидном муже и был таков. Более Марина его не видела. Впервые Марина осталась одна в чужой стране и одна во взрослой жизни (был ей двадцать один год). «Воплощенная покорность» вышла из тени отца и вынуждена была совершать самостоятельные поступки. Тогда-то и проявился темперамент «гордой полячки». Повлиять на события в Московии она никак не могла, но всё ещё находилась в заблуждениях. Упомянутая выше фраза из письма к королю Сигизмунду «Всего меня лишила превратная фортуна…» имела продолжение: «…одно лишь законное право осталось при мне, скреплённое венчанием на царство, утверждённое признанием меня наследницей и двукратной присягой всех государственных московских чинов». Ей бы вернуться в шляхетскую жизнь, а она была уже избалована царскими почестями и полагала, что имеет на них права. А никому уже не была нужна – ни королю Сигизмунду (а потому позволила себе едко ему надерзить), ни циникам-панам, ни русским людям. И никак не могла (а, видимо, уже и не желала) выйти из навязанной ей игры. Несчастная одинокая женщина. Одиноким узником чужих игр ощущал себя так и не ставший ни правителем, ни воином, некогда учителишка и бродяга, Лжедмитрий II, укрывшийся в Калуге. С этими двумя одиночествами и случилось непредвиденное многими. От учителишки детей попа (посчитаем, что он им был) остались нежно-жалостливые записки со словами «моя-с птичка любименькая… верь, моё сердце…» – он звал в них Марину в Калугу. Двое в жестокую для них пору искали опору друг в друге. А в Марине вызревала страстная женщина. Гормоны ли тут причиной, неудовлетворённые ли потребности организма, инстинкты ли самки? Кто знает. Не исключено и то, что никчёмный полководец и политик обладал иными мужскими достоинствами. На польской гравюре семнадцатого столетия вид у него, с кудрями из-под меховой шапки, самый что ни на есть куртуазно-завлекательный. Этакий красавец. Так или иначе Марина бросилась из Тушина в Калугу через Дмитров (в Дмитрове с саблей в руке успела повести осажденных на защиту крепости). Да что бросилась! «Чем мне, русской царице, с таким позором возвращаться к моим родным в Польшу, лучше уж погибнуть в России. Я разделю с моим супругом всё, что Бог нам предопределил». Свидетельство всё того же немца Конрада Буссова: «…приказала сделать себе из красного бархата костюм польского покроя, надела его, вооружилась ружьём и саблей, а также надела сапоги и шпоры и выбрала хорошего, быстрого коня». Февраль, снег, красный гусарский мундир на белом, красиво. Запомнилось на века. Трясла створки ворот, требовала пропустить к Царю Московскому…
А дальше… А дальше рутина таборного быта, ничем не лучше Тушинского. Интриги, смерти, грабежи, пьянки, самодурство и жестокость «мужа», заступничество за невиновных, безнадёжье, страхи, переписка с враждующими сторонами, возможности погибели каждый день. С одной лишь особенностью. Ожидание ребёнка… Естественная материнская радость женщины и дурость привыкшей к царским почестям бабы. (Ковригин полагал, что слово «баба» к Марине Мнишек, особенно к той панночке, что парила и будто бы плескалась в его воображении, не могло быть применимо, но его знакомые дамы со схожими химерами и претензиями были для него именно бабами, а потому и слово возникло в нём без логических крыльев). Марина жила с упованием, что из лона её появится «царевич», а не «царевна». Коли бы родила девочку – конец всем упованиям. Девочка на Руси ничего не значит. Сколько великокняжеских и царских дочек нам неизвестны. Лишь похоронены где-то в соборах владетельного рода. Марина родила мальчика. Назван он был Иваном Дмитриевичем. Через три года мальчика в государственных интересах казнили. И чем же этот мальчик, крещенный по православному обычаю, удивлялся возмущенный студент Ковригин, был перед русским народом виноватее канонизированного Дмитрия Угличского? А при рождении его (опять же Конрад Буссов): «…русские вельможи с её дозволения и согласия взяли у неё и обещали воспитать его в тайне, чтобы он не был убит следователями, а если Бог дарует ему жизнь, стал бы государем на Руси. Её же, царицу, в то время содержали и почитали по-царски». За месяц до рождения «царевича» на зимнем поле под Калугой (гоняли зайцев) Тушинский властитель был мстительно разрублен (именно разрублен) ногайским татарином Урусовым, чье вызволение из тюрьмы (сидел за убийство, но плакались за него жена и дочери) выпросила у мужа царица Марина. Хороши народные определения. На что и напросилась… И осталась Марина в свои двадцать два года (студент Ковригин считал сроки, Марина Мнишек была старше его уже на три года) царицей-одиночкой. И положено ей было судьбой погибнуть через три года. А прежде – побывать не где-нибудь, а в Астрахани и на Яике (могла бы оказаться и в Кызылбаши, то бишь в Персии). Самбор-Краков-Москва-Калуга-Астрахань и смерть в Москве, в Ивановском монастыре, в кручине и тоске по казненному сыну. И по казненным, теперь уже совершенно ложным, можно сказать и маниакальным амбициям. Трагический маршрут блестяще начавшейся жизни. А казнили её сына, Ворёнка (ему не исполнилось четырёх лет), в метельный день, он плакал и спрашивал: «Куда вы меня несёте?», несли его к виселице, он был лёгок и мал, толстой верёвкой из мочала не смогли как следует затянуть узел, и полузадушеного ребенка оставили умирать на виселице. Историческая неизбежность. А вот в жизни гордой полячки взрослые дяди, отправившие её сына на виселицу, были будто бы заинтересованы. Государю (а им уже стал Михаил Романов) и боярам для обличения вражеских неправд «надобна она жива». И якобы, вопреки слухам, её не топили, не морили голодом и стужей. В грамотах она была уже объявлена причиной, «от которой всё зло Российскому государству учинилося». Но ведь могли, и содержа узницей, использовать всё той же разменной монетой в новых играх и интригах. А она взяла и померла. И было ей двадцать шесть лет.
Последние месяцы Марины были фантасмагорией мытарств в компаниях с разбойниками, с беглыми буйными казаками, гонений, бегств, изнуряющетщеславных всплесков её будто бы провиденческого предназначения, страхов за себя, но главное – за жизнь ребёнка, Ивана Дмитриевича, и не за ребенка просто, а за гаранта её и своего величия, носителя судеб великих стран. И никак не желал согласиться студент Ковригин с мнением современников Марины, а потом и позднейших историков, о том, что дочь сандомирского воеводы и есть – главная злыдня Смуты. Не с неё началась Смута, и не она была движетелем Смуты…
Автор, до сих пор поглядывавший на Александра Андреевича Ковригина со стороны, посчитал нужным допустить здесь некое пояснение. Текст своей пьесы по ходу спектакля Ковригин, конечно, вспоминал, но приведенные выше его соображения о Марине и её судьбе были давнишние, студенческие, отчасти забытые, отлетевшие по той причине, что и сама Мнишек удалилась (или была удалена) из его интересов и томлений, но теперь-то выходило, что они никуда и не отлетели, а жили в нём и по сей день. И, естественно, не было сейчас у Ковригина никакой необходимости при горячем-то восприятии им происходящего на сцене укреплять впечатления логическо-словесной арматурой. Это уж автор постарался сделать за Ковригина. Возможно, и зря. И в моей передаче возникли упрощения взволнованно протестных чувств и мнений студента Ковригина, нырнувшего в Историю.
А Ковригин наблюдал уже, как вписанная чьим-то карандашом в программки Древеснова П. П. в отрепьях нищенки вместе с другими нищенками из баскетбольных развлекательниц поёт и отплясывает вблизи дубовой колоды, на колоде же, на виселице при ней, раскачивается тряпичная кукла. А может, это были и не нищенки, а мрачно-нервные снежинки и хлопья зимней московской вьюги… А вот ноги Древесновой казались красивыми. Хотя и чуть полными в икрах. Если доверять биноклю…
Действо, надо понимать, подходило к концу…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































