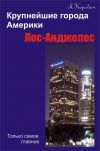Читать книгу "Мос-Анджелес. Избранное"

Автор книги: Владимир Паперный
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Високосный год
Мне было 15 лет. Я был трудным подростком. Вместо школы проводил все время в кафе «Артистическое» в проезде МХАТа (сейчас Камергерский переулок), где вокруг легендарного Асаркана сидела разношерстная компания актеров, режиссеров, искусствоведов, художников, журналистов, поэтов и лиц без определенных занятий. Там можно было встретить Олега Табакова, Игоря Квашу, Олега Ефремова, искусствоведа Наталью Крымову, художников Юло Соостера и Юрия Нолева-Соболева. Там можно было встретить прозаика Павла Улитина. Там же иногда появлялся замшелого вида футурист Алексей Крученых.

Кафе «Артистическое», 1960-е
Однажды вечером в дверях кафе появился Анатолий Эфрос. Он не любил этой богемной компании и заехал по дороге с «Мосфильма», чтобы забрать жену, Наталью Крымову.
– Толя, посиди с нами пять минут, – попросила Крымова.
Ему притащили стул, и он с недовольным видом втиснулся между нами.
– Что у вас там происходит? – продолжала Крымова. Эфрос тогда готовился к съемкам фильма «Високосный год» по роману Веры Пановой «Времена года».
– Да вот, – ответил он, – никак не найдем мальчика на роль Сережи Борташевича.
– А какой тебе нужен мальчик?
– Какой? Ну… вот вроде этого, – и он показал на меня.
– Ну и возьми этого, – сказала Крымова.
Эфрос быстро повернулся ко мне.
– Ты актер?
– Нет.
– Играл когда-нибудь?
– Нет.
– Учился на актера?
– Нет.
– Можешь завтра приехать на «Мосфильм» к 10 утра?
– Могу. Завтра школа, но можно прогулять.
Как я потом узнал, отсутствие актерского образования резко повысило мои шансы. Эфрос ненавидел актерские штампы. Когда фильм уже вышел, он рассказывал Асаркану:
– Из-за того, что Смоктуновский гениальный актер, а Вадик совсем не актер, все остальные мне кажутся жутко фальшивыми.
Во время съемок его главной задачей было сохранить мою актерскую невинность. Он не давал мне никаких указаний и запрещал съемочной группе требовать от меня чего бы то ни было.
– Скажите ему, чтобы вставал точно на этот крест на полу, он не попадает в кадр, – кричал оператор.
– Ваша проблема, – отвечал Эфрос, – двигайте камеру.

Кадры из фильма «Високосный год», 1961. Режиссер Анатолий Эфрос, сценарист Вера Панова, оператор Петр Емельянов, композитор Карэн Хачатурян, художник Евгений Свидетелев
– Скажите ему, чтобы говорил громче, – кричал звукооператор, – ничего не записывается, все придется переозвучивать.
– Значит будем переозвучивать, – неумолимо отвечал Эфрос.
Для полного реализма, или неореализма, он настоял, чтобы я снимался в моей собственной одежде – к большому неудовольствию директора картины, который должен был платить мне, точнее, моим родителям за аренду.
Была, возможно, и еще одна причина, почему он выбрал меня для этой роли. Анатолий Васильевич родился в Харькове, его родители работали на авиационном заводе. Его всегда тянуло к детям из интеллигентных семей. Как-то много лет спустя я пригласил его на детский самодеятельный спектакль, где я участвовал как художник. Он приехал с сыном Димой, и они оба вели себя как дети: хохотали и хлопали в ладоши. Когда я спросил, что ему понравилось, он ответил:
– Больше всего понравилась аудитория – хорошо одетые молодые люди с интеллигентными лицами.
Два факта – отсутствие у меня актерского образования и наличие «интеллигентных родителей» – решили дело.
Я уже знал, что буду сниматься вместе с великим Смоктуновским. После роли князя Мышкина в театре у Товстоногова он уже считался гением. Каково же было мое разочарование, когда выяснилось, что в сценарии нет ни одной сцены, где участвовали бы мы оба. Две сюжетные линии сценария – Куприяновых и Борташевичей – почти не пересекались. За полтора года съемок я так и не познакомился с великим актером.
Как-то весной приезжаю на очередное переозвучивание. Вхожу в гигантский павильон тон-студии «Мосфильма». В противоположном конце студии, в двухстах метрах от меня, стоят Эфрос и Смоктуновский и оживленно разговаривают. Я замираю. Дальше происходит следующее. Смоктуновский видит меня, говорит что-то Эфросу и быстрыми шагами идет через всю студию. Подходит, наклоняется ко мне и говорит своим трагическим голосом князя Мышкина:

Анатолий Эфрос
– У меня к вам очень большая просьба. Когда закончится озвучивание, не уезжайте, пожалуйста, сразу. Мне надо с вами очень серьезно поговорить.
Все два часа озвучивания я провел как в тумане. Он хочет со мной поговорить. Как актер с актером. Хочет поделиться профессиональными секретами. Или, наоборот, чтобы я с ним поделился. Что бы это ни было, свершилось. Эти полтора года прожиты не зря.
Вот, наконец, озвучивание закончено.
– Где Смоктуновский? – спрашиваю ассистента режиссера.
– Уехал.
Когда Эфроса спрашивали, что представляет собой Смоктуновский как человек, он обычно отвечал так:
– Смоктуновский – это такой тонкий инструмент, который мгновенно подстраивается к собеседнику и выдает именно то, что тот хочет услышать. Что за этой изменчивой оболочкой и есть ли там вообще что-нибудь, мы, скорее всего, никогда не узнаем.
Видимо, произошло следующее. Смоктуновский поймал мой восторженный взгляд и сразу понял, каких именно слов я от него ждал. Добросовестно, с выражением, произнес этот текст и тут же забыл обо мне.
Когда в 1992 году в Лос-Анджелес приехал спектакль по пьесе Энквиста «Из жизни дождевых червей», я поразился, какая пропасть была между поразительной игрой Смоктуновского и игрой просто хороших актеров. После спектакля я подумал, не стоит ли зайти за кулисы и выяснить наконец, о чем он хотел со мной «очень серьезно поговорить» 31 год назад. В последний момент решил оставить загадку неразгаданной и не зашел.
2012
Как я написал письмо Белле Ахмадулиной
В начале 70-х моя младшая сестра Таня и я сняли зимнюю дачу у вдовы писателя Лукницкого в Переделкино. Я после развода оставил квартиру жене и сыну, Таня не хотела жить с родителями, и мы оба хотели жить здоровой деревенской жизнью.
На соседней даче жила Белла Ахмадулина со своим юным и беспутным мужем Эльдаром, недолго, впрочем, удержавшимся в этом статусе. Как получилось, что у известной поэтессы не было на даче телефона, а у вдовы он был, я не знаю, но несколько раз в день Белла забегала к нам звонить, и в результате мы с Таней оказались невольными хранителями большого количества ее личных тайн (которые, разумеется, умрут вместе со мной).
Возникло что-то вроде соседской дружбы. Когда к ней приезжала подруга-парикмахерша, Белла звала нас с Таней на бесплатную стрижку. Подруга обычно не возражала или делала вид, что не возражает, она дорожила статусом придворной дамы. Когда к Белле приходили гости, она часто приглашала и нас. Хорошо помню один такой вечер.
– Смотрите на них, – запела Белла своим поэтическим голосом, когда мы вошли, – это брат и сестра. Ведь это только в девятнадцатом веке такое могло быть: брат и сестра. Ведь только у Тургенева, правда?
– А ты знаешь, где я твоего Мишу Луконина видел? – сказал вдруг пьяный Эльдар. – В гробу.

Белла Ахмадулина
– Эльдар, – нежно пела Белла, – ты должен думать о своем творчестве, о своем сценарии, смотри, к нам пришли брат и сестра…
Так пролетел примерно год. Литфонд СССР, владелец дачи, решил отобрать ее у вдовы, и нам пришлось съезжать. Стало ясно, что дружба с Беллой вне дачного соседства и телефона долго не протянет. И тут мне пришла в голову идея перевести эту дружбу в художественно-поэтический жанр. Я решил написать Белле письмо, демонстрирующее, что я незаурядная творческая личность.
Это письмо где-то сохранилось в моем архиве. С одной стороны, журналистская добросовестность требует, чтобы я его воспроизвел. С другой стороны, мне стыдно: я перечитывал его несколько лет назад – оно было претенциозным, натужным и абсолютно бездарным. К счастью, решения принимать не пришлось – письма в той папке, где ему полагалось быть, сейчас не оказалось. Видимо, какой-то тайный доброжелатель его уничтожил. Помню начало:
О, как пугает и привлекает меня этот Дом Напротив,
за Зеленым Забором, возле Вонючей Канавы…
Ответ пришел быстро. В «Литературной газете» появилась поэма Ахмадулиной «Дачный роман», в которой были описаны и мы с Таней, и мое письмо. Все основные факты пересказаны в поэме достаточно точно, кроме моего письма. Во-первых, Белла его опоэтизировала, во-вторых, сделала его объяснением в любви (судя по литературному качеству моего письма, это была не любовь, а скорее суетное желание дружить со знаменитостью). Вот письмо в интерпретации Беллы:
Затем пришло письмо от брата:
«Коли прогневаетесь Вы,
я не страшусь: мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.
Зачем, простак недальновидный,
я тронул на снегу Ваш след?
Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился – еле видный,
доныне излучает свет
ладонь…» – с печалью деловитой
я поняла, что он – поэт,
и заскучала…
Дальше в поэме появляется Пушкин, в которого влюблена она, но, поняв, что имеет дело с поэтом, Пушкин тоже начинает скучать:
Не отвечает
и думает: – Она стихов
не пишет часом? – и скучает.
Поэма кончается вариацией на тему стихотворения ее предыдущего мужа. У Евтушенко:
О, кто-нибудь, приди, нарушь
Чужих людей соединенность
И разобщенность близких душ.
У Ахмадулиной:
Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.

Белла Ахмадулина
В последующие годы мы неоднократно встречались, но никогда не упоминали ни моего письма, ни ее поэмы. Я как-то приехал брать у Беллы интервью для статьи «Писатели и вещи» и сфотографировал ее на фоне коллекции граммофонов ее третьего (или четвертого, если считать Эльдара) мужа, Бориса Мессерера. Последняя встреча произошла в Лос-Анджелесе. Я услышал, как Белла шептала хозяйке дома, указывая на меня:
– «Дачный роман» – это про него.
Тридцать лет назад она превратила мое глупое и претенциозное письмо в поэзию, тем самым как бы исполнив мое желание возвыситься до ее уровня. Теперь смотрела на меня как на свое творение.
Сегодня из четверых персонажей поэмы в живых остался я один.
2010
Асаркан
1
По своим последствиям Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 года можно сравнить только с высадкой английских пуритан на скалу Плимут в бостонском заливе. В Москве стали появляться одетые в джинсы фарцовщики, немытые бородатые философы, абстракционисты с фломастерами и горящими глазами, сильно пьющие джазовые саксофонисты, голодные подпольные поэты и тому подобные невиданные существа. Моя первая любовь Оля Карпова была в самом центре этой цивилизации, во-первых, потому что ее старшая сестра Таня, учившаяся в инязе, как раз в это время бросила своего фарцовщика и связалась с абстракционистом, во-вторых, потому что Оля и Таня жили в Доме правительства.
Квартира на десятом этаже прямо над кинотеатром «Ударник» некогда принадлежала их бабушке скульптору Марии Денисовой. Ей были посвящены строчки Маяковского «приду в четыре сказала Мария». Бабушка со стороны отца, Анна Самойловна Карпова, была в свое время ректором ИФЛИ. Поскольку мои родители учились в ИФЛИ, а отец к тому же был специалистом по Маяковскому, можно сказать, что наша встреча с Олей была предопределена судьбой.
Как-то осенью 1959 года Оля позвала меня на очередное сборище в их квартире. Для меня поездка к Оле на метро от «Красносельской» до «Библиотеки им. Ленина» всегда была выходом в высший свет. Мы оба учились тогда в девятом классе, но в разных школах. Оля училась в центре, ее подругами были Лена Щорс и Алла Стаханова, внучки советских знаменитостей. Я же жил в пролетарском районе. Когда недалеко от нас открылась английская школа, моя мама, как настоящая комсомолка 30-х годов, категорически отказалась меня туда отдать, потому что там будут учиться «дети привилегированных родителей». В результате моими друзьями стали сын дворничихи-татарки и брат сидевшего уголовника.

Асаркан, коллаж автора
Олина квартира представляла собой одну огромную комнату-студию, больше ста квадратных метров, при входе была прихожая с крохотной кухней – предполагалось, что члены правительства будут брать еду на фабрике-кухне, находящейся в этом же доме. Стены украшены абстрактной живописью Олиного дяди, Юры Титова. Сейчас вся студия была до отказа заполнена странно одетыми людьми. У стены на коврике сидел бородатый босой человек. Раскачиваясь, он бил в африканский барабан и произносил монолог, в котором попадались слова «дзен-буддизм» и «Лао-Цзы». Все вместе – босые ноги, борода, барабанный бой, шаманские интонации, незнакомые слова – произвели на всех присутствующих, включая меня, гипнотическое впечатление. Когда бородач замолк, наступила тишина, которую нарушил худой, лысый, слегка оборванный молодой человек, сидевший в углу. Он негромко, но так, чтобы слышали все, произнес:
– Все это можно прочесть в третьем зале Ленинской библиотеки…
И после точно выдержанной паузы добавил, чуть скривив губы:
– …правда, без барабанного боя.
После этого он встал, повернулся к сидящему рядом с ним юноше и сказал:
– Пошли отсюда.
Оба встали и, переступая через сидящие и лежащие тела, стали пробираться к выходу.
Эффект от этой реплики и драматического ухода был, пожалуй, даже сильней, чем от монолога. Нельзя сказать, что реплика лысого была более интересной, чем барабанный бой, но ей он как бы присвоил себе весь монолог, показав, что все это давно ему известно и неинтересно, и ушел, лишив всех возможности задавать какие бы то ни было вопросы. По режиссерскому мастерству реплика близка к лучшим сценам из романов Достоевского, как потом выяснилось, его любимого писателя.
2
– Мы должны ходить в кафе «Артистическое», – объявила Оля через несколько дней. – Таня сказала, что там собираются интересные люди. Там даже бывает Асаркан.
– Кто это?
– А вот тот лысый.
Ни в каких кафе я до этого не бывал и, что там делают, не знал. Но Оля тогда была моим главным учителем жизни, и я безропотно согласился. Мы пришли в кафе. Красавица Таня сидела там в окружении друзей. Она небрежно помахала нам рукой, но за свой столик не пригласила. Мы сели в стороне и заказали кофе. Я нервно теребил в кармане деньги. Через какое-то время появился небритый Асаркан в сопровождении подростка-мулата. Они присоединились к Таниной компании.
Вид у нас с Олей был, наверное, испуганный и растерянный. Через какое-то время Таня сжалилась и помахала, чтобы мы пересели к ним. Мы взяли наши чашки с «крем-кофе» (так тогда называли эспрессо) и пошли к их маленькому столику у окна, за которым уже сидело человек пятнадцать. Кое-как вдвинув свои стулья, мы сели. Асаркану это явно не понравилось.
– Пошли отсюда, – мрачно сказал он мулату, – тут слишком тесно.
Похоже, что эффектный уход был его излюбленным приемом. Мы с Олей сидели подавленные: мы что-то такое сделали, что не понравилось великому Асаркану.
3
Оля была не из тех, кто привык сдаваться без боя, и мы продолжали мужественно ходить в «Артистическое» после школы и пить там противный горький кофе. Однажды, месяца через три, мы сидели с Олей за столиком где-то в середине зала, а компания Асаркана, как всегда, сидела за столиком у окна. Вдруг произошло нечто странное: Асаркан вдруг обратился к нам через весь зал:
– Ребята, идите к нам, чего вы там сидите одни.
Мы с Олей стали оглядываться: к кому это он обращается?
– Сюда, сюда, – продолжал Асаркан.
Мы пересели за их столик, потом Асаркан сказал свое «пошли отсюда», и мы вышли с ним на улицу. Все это время Асаркан говорил. «Самый главный талант, – говорил он, – это не способность писать стихи или картины, это талант быть человеком. Мало кому удается».
Этот монолог Асаркана продолжался много лет, в какой-то момент мы с Олей включились в этот монолог, и он стал диалогом, иногда очень конфликтным, потом Оля вышла за него замуж и родила Аню, а потом Асаркан уехал в Чикаго.
4
Он всегда агитировал за отъезд и даже обсуждал самые фантастические планы бегства из СССР. Когда появилось окно в виде израильской эмиграции, все друзья и знакомые стали интересоваться, когда же он наконец подаст заявление. На что он отвечал следующее:
– Я вот уже три года всех спрашиваю, где калининское отделение милиции, и никто не говорит. Как я могу взять оттуда справку, если никто не хочет мне сказать, где оно находится. Но даже если представить себе, что я каким-то чудом собрал все справки (у меня, кстати, нет свидетельства о смерти родителей) и сделал ремонт в квартире (а без этого не выпишут), дальше начинается самое трудное: надо вносить сорок рублей. А где я их возьму?
Друзья и знакомые были уверены, что стоит только нашему Асаркану пересечь границу, как мировая прогрессивная общественность тут же поднимет его на пьедестал. Он будет сидеть где-нибудь в кафе «Флориан» на пьяцца Сан-Марко в Венеции и произносить монологи, а толпы учеников и поклонников записывать их и тут же публиковать. Поэтому друзья и знакомые сами собрали все справки, сами сделали ремонт в его комнате и сами внесли сорок рублей. После чего Асаркану ничего не оставалось, кроме как положить в пластиковый пакет блок сигарет «Шипка» и последний номер итальянской газеты «Унита», сесть в самолет и улететь.

Асаркан в своей комнате, 1980
5
За несколько месяцев до его отъезда я позвонил Оле, у которой был день рождения. Подошел Асаркан.
– Вадик? Давай быстрей сюда. Тут мясо жарят. Его насаживают на специальные палочки и окунают в кипящее оливковое масло. Все это нагревается спиртовкой и называется «фондю». Этот аппарат притащила Диса. Они еще с Олей тут изготовили шесть соусов по французскому рецепту из ингредиентов, которые тоже притащила Диса. Шесть бутылок «Божоле». Давай быстрей, а то все сожрут!
Я поехал только на следующее утро. Позвонил в дверь около двенадцати. Мне долго не открывали, похоже, что все спали. Через некоторое время мне открыл Асаркан и остался сидеть на кухне (она же прихожая). Оля выползла минут через двадцать. Вид у обоих был опухший. Стол был не убран. Стояли недопитые рюмки и грязные тарелки.
– Зря вчера не приехал, – мрачно сказал Асаркан.
– Ничего, – сказала Оля, – мясо осталось и соусы остались…
– Очень плохо, что остались, – злобно проворчал Асаркан, – надо, чтоб ничего не осталось. Ничто не должно повторяться. Ему сказали, чтоб вчера приезжал, а он не приехал.
– Я же прямо с самолета…
– Молчи. Не приехал. И теперь ему ничего давать не надо. Вчера был целый ритуал, было мясо, были соусы, все сидели вокруг этой машины, а теперь ничего этого не будет.
– Будет, будет, – сказала Оля, – я сейчас поставлю кастрюльку с маслом на газ.
– Вот, вот! – закричал Асаркан. – Именно кастрюльку. А вчера был специальный медный сосуд, и не на газ его ставили, а на спиртовку.
– Никакой разницы, – вставил я.
– А, черт с вами, – махнул рукой Асаркан, – я пошел спать.
Но не ушел, а, наоборот, стал жарить мясо в кастрюльке.
– А я бандероль от Зиника получил из Лондона, – гордо объявил я.
– Все бандероль от Зиника получили, – сказал Асаркан жуя. – Все. Какой там у тебе набор? Что? Кингсли Эмис? Знаю я этот набор. Плохой набор. Что еще? Лондон в картинках? Плохой набор. Самый плохой. Другие, впрочем, еще хуже.
6
На Новый год мы с Яником сделали себе подарок: выписали Асаркана из Чикаго в Лос-Анджелес. Трудно представить себе более неудачный поступок. Вся затея оказалась крайне мучительной и для нас, и для него. Когда ему сообщили об этом приглашении по телефону, он стал говорить примерно следующее: ну вот, я так и знал, что что-нибудь в этом роде случится, теперь все пропало, я, конечно, не напишу вовремя свое сочинение для «Нового Русского Слова», они вовремя не пришлют чек, мне нечем будет заплатить за квартиру, с хозяином я объясниться по-английски не сумею – катастрофа, хуже этого ничего не могло случиться.
Мы с Яником, слушая этот текст, полагали, что так и надо, что не может же Асаркан просто так взять и сказать: «Спасибо, детки, уважили старика», – и приехать. Надо же ему покапризничать, поломаться, чтобы в конце концов вышло, что не мы ему дарим билет, а он нас одаривает своим согласием. Наш Фома Опискин так и должен себя вести, думали мы, а в душе он рад. Мы ошибались. Ему действительно не хотелось ехать. Ему совсем было неинтересно увидеть все то, что мы хотели ему показать: горы, океан, фривеи, бензоколонки, университеты, компьютеры, теннисные корты, библиотеки, телефоны, французские кафе, китайские рестораны, космополитическую толпу в Вествуде, – всю эту нашу знойную калифорнийскую жизнь. Главное, конечно, нам хотелось показать нашу включенность в эту жизнь, адаптированность, автоматизм пользования ею. Это как когда-то в Москве, когда ты видел приезжего, с ужасом вступающего на эскалатор в метро – у него с грохотом падают сумки, а сам он, вцепившись в поручень, с трудом удерживает равновесие – тут ты на секунду осознавал свой собственный автоматизм, чтобы тут же снова о нем забыть.
Это желание демонстрировать свою адаптированность и свой автоматизм само по себе достаточно суетно. Хуже то, что Асаркан меньше чем кто бы то ни было может служить аудиторией для такого демонстрирования, просто потому что он сам абсолютно не включен и не адаптирован, а чья-то демонстративная адаптированность ничего, кроме естественного раздражения, вызвать у него не может. Он никуда не ходит, практически никого не видит, ничего не делает, только круглосуточно смотрит телевизор и время от времени пересказывает телепередачи на страницах «Нового русского слова», при этом всегда что-нибудь путает, потому что плохо понимает по-английски.
Приехав в Лос-Анджелес, Асаркан, естественно, захотел не слушать, а говорить. Но это уже было невыносимо для нас. Когда он ходил по Москве и пересказывал итальянские газеты или редакционные сплетни из «Недели», это было интересно, потому что он сообщал некоторую не всем доступную информацию. Что же он рассказывает здесь? Про содержание и тип верстки новой газеты «Ю-Эс-Эй Тудей» – первой в истории общеамериканской (а не местной) газеты. Автоматы по продаже этой газеты стоят на каждом углу, опускай монету и читай – только не хочется и нет времени, хватает и нашей «Лос-Анджелес Таймс», журналов «Тайм», «Смитсониан», еще каких-то детских, которые мы выписываем, двух десятков архитектурных, которые я получаю на работе, да еще кучи каких-то непрошеных листков, брошюр, памфлетов (в английском смысле) и информационных бюллетеней, которые иногда переправляются из почтового ящика в мусорный нераскрытыми. Можно ли меня увлечь еще одной газетой!
Пересказ популярных телевизионных передач тоже слушать не слишком интересно. Телевидение в Америке – это как наркотик: оно затягивает. Есть, конечно, специальные каналы и специальные передачи, от которых вроде бы даже можно поумнеть, но этим надо специально заниматься: устанавливать специальные антенны, следить за программами, а у нас пока до этого руки не доходят. Поэтому главная задача: стараться смотреть как можно меньше и стараться, чтобы дети смотрели как можно меньше, если же их оставить на произвол телевидения, то они будут его смотреть 24 часа в сутки и заметно отупеют. Проверено. Поэтому Асаркан, с увлечением пересказывающий сериал типа «Чарлиз Энджелз» или рекламу картофельных хлопьев, производит примерно тот же эффект, как если бы он в Москве сказал: «Сегодня прочел передовую “Правды”, там очень интересно ставится вопрос о необходимости дальнейшей химизации сельского хозяйства, очень правильная и своевременная постановка вопроса». В этом смысле Асаркана и мулатку Вику постигла в Америке одинаковая судьба – оба потеряли свою уникальность. Вика – внешнюю экзотику. Асаркан – уникальность образа жизни.
Его московская уникальность состояла в том, что он вел образ жизни опустившегося бродяги, принадлежа в то же время к высшим сферам – редакции, театры, закрытые просмотры и т. п. Финансовый статус мало кого интересовал. Здесь же он оказался принадлежащим к категории «неспособных работать» и получающих вэлфер. Это дно. Он оказался в компании мексиканских фермеров, нелегально перешедших границу, так и не сумевших выучить английский, спившихся автосборщиков из Детройта, негров-наркоманов, состарившихся проституток. Тот факт, что данный получатель вэлфера умеет писать статьи в русские газеты, никакого ореола здесь ему не прибавляет. У американцев – потому что их мало волнует сама по себе способность писать, тем более на непонятном языке. Русских – потому что большинство из них бессознательно усвоило американскую систему ценностей.
И Вика, и Асаркан пытаются компенсировать утерю уникальности тем, что обрушивают на собеседника некоторый авторитетный, с их точки зрения, текст, с помощью которого они хотят удержаться на поверхности. Вика пишет письма на 20 страницах, 10 из которых переписаны из Ветхого Завета и 9 из Нового. Асаркан не выпускает из рук «Ти-Ви Гайд» – самое массовое издание в США. Это не так глупо, как может показаться. Пафос массовой культуры мог бы найти себе поддержку среди некоторых американских искусствоведов. Но, во-первых, мода на массовую культуру (как, впрочем, и на оборванность и небритость) прошла. Во-вторых, надо знать английский язык.
Асаркан всю жизнь повторял строчки Есенина-Вольпина: «А когда пойдут свободно поезда, я уеду из России навсегда». А когда они действительно пошли, деваться было некуда, надо было становиться жертвой идеи, садиться и ехать. И пересказывать «Ти-Ви Гайд». Но во всем этом есть элемент подвига. В результате мы, так называемые ученики асаркановского колледжа, из категории «всех-этих-яников-зиников-вадиков», тем или иным способом оказались «там», и из нас когда-нибудь произрастет новая субкультура младоасарканцев, и мы на площади перед Капитолием поставим наш собственный монумент: отлитые из бронзы газету «Унита» и пачку «Шипки».
2007