Читать книгу "Путешествия по розовым облакам"
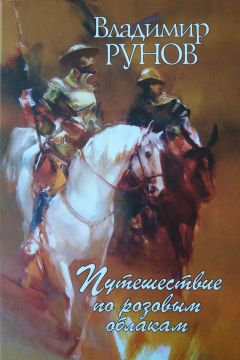
Автор книги: Владимир Рунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Катим раскованно, без охраны, что вообще-то не положено, да, честно говоря, непостижимо. Глава края, все-таки! Его предшественники себе такого не позволяли, особенно самый первый, Василий Дьяконов. Того однажды на подъезде к Горячему Ключу я встретил даже в бронежилете. Видать, тем самым подчеркивал, какие опасности исходят от нелюбимых им «коммуняк». Дьяконов не принимал их на уровне патологии, хотя в коммунистическую партию рвался с «младых ногтей», работая еще инструктором крайкома комсомола. Там, говорят, и затаил злобу, поскольку рано взяли, но рано и выгнали. Якобы за какие-то проделки с талонами на дефицитные товары, предназначенные для молодых гидростроителей. Что-то к рукам «прилипло». Увы, такое бывало и не только с ним…
Но это опять по поводу, поскольку в ту весеннюю пору, вторую в губернаторстве Кондратенко, свет в конце тоннеля уже забрезжил. Главное и основное – на знаменитых кубанских черноземах стали исчезать ржавые налеты заброшенности. Затарахтели тракторные пускачи, ожили фермы. Уже нигде не слышно воплей некормленного-непоенного скота. Да и природа, словно спохватившись, откликнулась на усилия очнувшихся от «перестроечного шока» земледельцев густым раскатом озимых. Души крестьянские оттаивали, а у Николая Игнатовича так в первую очередь…
– В этом году, думаю, будет получше, – сдержанно, но соглашался со мной, хотя еще недавно обрушение дорогого его сердцу сельхозпроизводства воспринимал как личную трагедию.
В первый же месяц его губернаторства, будучи руководителем ГТРК «Кубань», я летал с ним в качестве обычного репортера. Это была его идея – запечатлеть в документальном фильме реальное состояние дел в «жемчужине России», опрокинутой в состояние тонущего корабля, получившего гибельную торпеду в самое уязвимое место, ее сердце – кубанскую станицу.
К этому месту я бы припомнил, как в шестидесятые годы знаменитый газетный «киллер» Юрий Черниченко, по команде свыше, в полном смысле размазал по страницам газеты «Советская Россия» (орган ЦК КПСС) первого секретаря Краснодарского крайкома КПСС Георгия Воробьева. Статью назвал весьма симптоматично – «По кораблю ли плавание?» Имея в виду, что «капитаном» одного из самых могущественных советских «кораблей» – Краснодарского края, Воробьев был никудышным.
Это была явно заказная несправедливость, ибо накануне Кубань «за успехи в социалистическом соревновании и выдающиеся достижения в сельском хозяйстве» была удостоена ордена Ленина. Но кому это сейчас интересно, поскольку у власти уже Брежнев, и он знал, что Воробьев проявил нерешительность, не поддержав его заговор против Хрущева. И «корабль», где Георгий Иванович капитанствовал несколько лет, тут же стал плохим…
Но к этому надо добавить, что тот же Черниченко, который в горбачевскую перестройку вошел в еще большую известность совершенно безудержной демагогией и даже организовал собственную так называемую «Крестьянскую партию» (хотя крестьянином был только в бреду), гибель всей «советской агрофлотилии» воспринял как закономерный крах всей колхозно-совхозной системы. Он и коммунистом-то был до тех пор, пока ему было выгодно. Таких тогда оказалось полным-полно, в том числе и в Краснодарском крайисполкоме, где я лет пятнадцать служил на небольшой должности.
– Сукин сын, вот он кто! – гневно утверждал Кондрат. – Я ведь ему наш фильм «Времена года», демонстрирующий весь масштаб рукотворного развала самого могучего в стране сельхозпроизводства и вызывавший у нормальных людей крайнее потрясение, показывал. Что ты думаешь, он пожал плечами и изрек, что это исторически оправданная неизбежность… Ну, не мерзавец ли? Народ, который прошел через страшные испытания и опустошающие голодухи, хотя и догадывался, что дела на Кубани неладны, но чтобы до такой степени? А он видите ли: «Историческая неизбежность»!
– Дай Бог, чтобы на сей раз ничто или никто не помешал! – сдержанно и как-то очень по-крестьянски (а он был по роду и сути подлинным селянином) молвил губернатор. Было видно, что хоть немного, но сердце успокаивалось.
Путь в Крыловскую из Краснодара не близок, говорим о разном, в том числе затрагиваем еще недавно крамольное. Горбачева, например. Когда Николай Игнатович слышал это имя, тут же начинал клокотать, считая, что «Горбатый» – главный виновник всех наших бед.
– Конечно он! – безапелляционно восклицает «Батька». – Помнишь, – и, резко повернувшись, спрашивает, – «бабий бунт»? Вот тогда я уже понял, что это только начало, – но вдруг рассмеявшись, добавил, – меня даже в заложники взяли…
– Как?! – воскликнул я.
– Очень просто… Получилось, что в это время на «хозяйстве» остался один Азаров. Он звонил в Москву, чтобы хотя бы приостановить мобилизацию резервистов. Когда к крайкому я подтянулся, то площадь уже гудела, что твой майдан. Вот тогда, – Кондратенко поднял палец и как-то особенно этим жестом подчеркнул что-то глубинное, – я воочию рассмотрел, как из-за спин безумствующих баб выходят уже совсем иные типы. И даже не типы, а просто вражеские морды… Вдвоем с Азаровым пытаемся вести переговоры с Москвой, и, когда ему потребовалось уйти, мне мягко, но вполне очевидно сказали, что я останусь до тех пор, пока не появятся результаты «народного протеста» – «Конечно, мы вам верим, но все равно не отпустим!» Так и просидел, пока Азаров снова не появился…
– В то время, – Кондратенко непривычно оживился, – у меня вообще начинался любопытный период жизни. Я ведь происхождением из казачьего рода, где если и обращались к народной мудрости, то нередко: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся…» Отца практически не помню, он пропал в Крыму во время гибельных красноармейских десантов сорок второго года, мать всю жизнь в колхозе. Это она меня, молодого да звонкоголосого, накачивала подобными сентенциями. А я уже в гору иду – район возглавляю. 1 мая и 7 ноября на трибуне, здравицы в честь праздников через микрофон выкрикиваю. Приеду, бывало, после демонстрации в родную пластуновскую хату, где каждый уголок знаком, энергичный, полный сил, размашистый такой. А мама, только вдвоем остаемся, погладит меня по голове и говорит тихо-тихо:
– Ты, Коленька, поосторожнее будь!
– Чего так! – удивляюсь, – сейчас-то кого бояться? Посмотри, какие дела разворачиваются! – имея в виду, конечно, успехи нашего Динского района. А она потихоньку, прямо в ухо шепчет:
– Э-э, милый! От тюрьмы да от сумы не зарекайся…
– А я, неразумный, хохочу весело… Да кто бы мне тогда сказал, что наступят времена и против меня, руководителя огромного края, легко и просто возбудят уголовное дело, да еще за измену Родине? Дикость какая-то!
Ведь так стало… И возбудили, и в прокуратуру ходил, пытался выяснить у следователя: «Какой родине я изменил? Та, которая была или та, которая явилась ей на смену. И когда это я был членом ГКЧП, если о нем, как и все, узнал по радио?»
– Так вот еще в январе 1990 года, за полтора года до того самого ГКЧП, стал понимать, – продолжает «Батька», – что наступает время, когда власть в стране представляют никчемные люди, не способные реагировать даже на спонтанные всплески народного гнева, как тот «бабий бунт». Ни понять, ни оценить причины этого события, ни предложить народу ничего, кроме своей собственной растерянности. Неужели было неясно, что самый простой путь разжечь междоусобицу, особенно у нас, на Кавказе, где вся история пропитана кровью – это пытаться разрешить обиды двухсотлетней давности?..
Кондрат уже кипел неподдельным негодованием:
– Вижу, как абсолютно беспомощный, мало что понимающий Полозков, (он таки появился), покорно выполняет все понукания наглеющей толпы, послушно ходит с теми женщинами куда-то опять звонить, кого-то униженно просить. Зато у микрофона, перед телекамерами (активисты бунта заставили, ведь все это безобразие транслировать на край) уже появились люди, которые не только поняли, но и хорошо знают, как вести себя в подобных случаях. И призывы откровенно антисоветские зазвучали. Глядишь, вот-вот «к топору» начнут звать… Кто тогда мог предполагать, к чему дело клонится?.. А через год и мне в изменниках Родины пришлось побывать!
Николай Игнатович вдруг весело всплеснул руками, словно давным-давно, в какой-то другой жизни с ним произошел случай из комедии несуразных положений. А прошло всего лишь лет пять…
– Да-а! – мысленно протянул я. – Это сейчас вы такой благодушный, а тогда, когда (да заодно и мне, руководителю краевого радио) стали предъявлять обвинение в пособничестве ГКЧП и грозить уголовным преследованием, было совсем не до смеха. Упоенные успехом победители ГКЧП «ведьм» бросились искать с первых минут. Я запомнил это на всю жизнь.
Трагически гибнет Зоя Боровикова, глава знаменитого Курганинского района, где снимались «Кубанские казаки»; Дьяконов показательно передвигается в бронежилете, во всех кабинетах его ставленники, типажи, словно ожившие персонажи фильмов Михаила Рома об октябрьском вооруженном восстании. Только там большевики в коже, а тут вообще непонятно кто и непонятно в чем? Особо безумствуют вузовские преподаватели, в мгновение ока превратившиеся в непоколебимых демократов, объявив себя просвещенными светочами новой эпохи.
Кабинет председателя крайсовета занимает доцент университета, археолог по профессии, солидный такой мужчина средних лет в больших роговых очках под широким лобным пространством. Че он там будет копать, неизвестно? Но некоторые из «вчерашних», особенно «партейных дам», уже спешат объявить археолога «обостренной совестью эпохи» и заверяют его в верности новым идеалам. Ни больше, ни меньше!.. А ведь еще вчера то же самое говорили Полозкову. Чудны дела твои, Господи!
– Ну ладно! – думаю. – Совесть – дело хорошее, так и урожай ведь как-то надо убирать. Сентябрь на носу, а новая власть только и толкует по телевизору, до какой «ручки» страну довели большевики. Хотя хлеб в магазинах по-прежнему еще 24 копейки за буханку. Но это пока…
Честно говоря, я и сегодня вспоминаю обо всем этом, как о вспышке массового безумия, зачатки которого видел на том самом, крайкомовском крыльце, где разгорался «бабий бунт», некая предтеча всего того, что через год будет трясти все государство, в итоге развалив его на куски.
– Нам тогда, с огромным трудом, но все-таки удалось решить главное – отозвать резервистов из Кировабада, который к тому времени уже назывался Гянджа, – вспоминал совсем недавно Азаров. – Но при этом столкнулись с такими сложностями, о которых и думать не могли. Там, в Гяндже, в обратный путь уже грузилось воинство сильно шумное и малоуправляемое, этакое гуляй-поле. Азербайджанцы не жалели гостеприимства и коньяк в российское воинское расположение катили бочками… Мы считали, что транспортный поток будет направлен обратно в Ханскую, как вдруг звонят из Краснодарского аэропорта и сообщают, что на дальних стоянках идет пальба трассирующими боеприпасами…
– Что такое?
Оказывается, вместо Ханской, какой-то так и неопознанный идиот дал команду «кубанских казаков» отправлять прямо в Краснодар. И вот в данный момент там происходит радостное общение с родиной. Как и принято на Кавказе, с песнями, плясками и стрельбой. Оружие-то на руках! Слава Богу, пока только в воздух, но кто знает, что будет дальше?
В аэропорту паника. Еще бы! Уже выгрузился первый батальон, запрудив все дальние стоянки. Командиров посылают по матушке, вот-вот через все взлетки напролом пойдут к зданию аэропорта, поскольку никто их не встречает. Транспорт не заказан, даже особисты, прошедшие Афганистан, взялись за голову.
И было почему! Толпа вооруженных и хорошо поддатых мужиков, в самом что ни на есть возбужденном состоянии, с неопределенными намерениями, к тому же вот-вот проявятся неформальные лидеры, а это всегда опасно. Более того, навстречу мужьям готовы мчаться жены, чтобы убедиться, не обманули ли?..
Я понимал Азарова, было отчего прийти в ужас! Ведь только в Ханской и нигде более они должны были сдать обмундирование, сапоги, оружие, получить документы о демобилизации, пройти регистрацию и прочее. Горячие головы уже предложили вызывать из Молькино БТРы со спецназом.
– Какие БТР! – взревел Кондрат, – надо ехать в Пашковку и разговаривать с людьми. Делать это немедленно…
И поехали! Человек десять, самых разумных. Азаров во главе. Тогда с Кондратенко они быстро организовали сотню «Икарусов», а из Молькино вызвали не БТРы, а наличный состав полевых кухонь.
– Людей кормить! – советовал по дороге Николай Игнатович. – Я в армии на аэродроме горячие пирожки летчикам на «пердунке» развозил («пердунок» на его языке – это «Москвич» с фургоном), знаю по себе, что хороший обед успокоит любого! – говорил будущий кубанский «батька» и, как всегда, оказался прав. Всех покормили, успокоили дружеским участием, разместили по удобным автобусам и с песней «Не плачь, девчонка!» направились в Ханскую.
Вот там их и встречали верные жены, которым, кстати, тоже помогли уехать, но другой дорогой. Пересекались они уже в расположении, откуда и уходили, слава Богу, на так и несостоявшуюся войну.
Лично я запечатлел одну из заключительных сцен, поскольку телевидение почти всегда приезжало последним. Помню расхлыстанного мужика в распахнутой шинели и пилотке, натянутой на кудлатую, совсем не солдатскую копну волос. Вцепившись в суконный шинельный рукав, с ним рядом спотыкалась заплаканная от счастья супруга.
– Ты че тут устроила? – рокочущим басом выговаривал рассерженный муж, – тебя кто-нибудь просил об этом?
– Дык, Сенечка, страшно же… Вдруг убьют?..
– Убьют? Тебя не спросили, – мрачно гудел муж, – а Родину кто будет защищать?.. Ты, что ли?..
Тем и закончился «бабий бунт». Через несколько дней на площади перед сановным крыльцом пожарными шлангами смыли остатки беспорядков, совсем не ведая, что затишье временное и недолгое. Спустя несколько месяцев, под покровом ночи подъедут с краном те, что прятались за спинами бунтующих баб, и свинтят бронзового Ленина с гранитного пьедестала, тайно увезут за город, где сбросят в лесополосу.
Обнаружили пропажу на следующий день. Я и сейчас отчетливо вижу дикую картину, как на обочине столпились водители застывших машин, с изумлением рассматривая медного Ильича, нелепо лежащего в неухоженном кустарнике. Возмущенный самоуправством тогдашний мэр в тот же день вернул Ленина на привычный пьедестал. Однако прошло недолгое время и, освобождая центровое козырное пространство под воскресшую императрицу, вождя революции (уже законодательно) отправили с глаз долой подальше, на городской вокзал. Честно говоря, лично я побаиваюсь, когда Ленины (даже медные) появляются на вокзалах. Вполне может и броневик подъехать, но уже настоящий…
Четверть века минуло, когда единоличного властителя Кубани, то бишь первого секретаря крайкома партии, стали менять на еще более единоличного – губернатора. Мне пришлось работать с пятью из них. Вполне расстрельная, скажу я вам, должность!
Трое скончались: Дьяконов, Егоров, Кондратенко. Абсолютно разные люди, и только один Всевышний сегодня вправе судить их. Уж больно взъерошенные были времена. Брат шел на брата, а для России это всегда удушающее и убивающее все разумное действо, после которого прозреваем только лет через двадцать. Да и то не всегда…
К тому же мрачная странность присутствует – все ушли из этого мира от одной и той же болезни. Увы, несмотря на всевластное положение, та хвороба не только зловеща, но и неотвратима в своем жестоком коварстве. От неясных слухов и до кончины пролетало каких-то пару месяцев. Как Божье проклятие! Тогда спрашивается: «За что?..»
Веселые засранцы
Это от Вальки Корсуна я впервые услышал о «шестидесятниках»: «Кто такие есть?» Тогда втроем: он, я и Мишка Архангельский сидели на берегу Кубани и прямо из старой кастрюли пили ледяной рислинг, за которым по очереди бегали к бочке, что с утра подвозили к паромной переправе. По ней разноликие дачники перебирались на другую сторону реки к любимым садам-огородам. Обратно груженные плодами неуемного труда, обессилено тянули поклажу, как мулы, сопровождавшие по прериям караваны американских переселенцев. Только всадника без головы не хватало…
Горластая толстая тетка в клеенчатом фартуке, что разливала молодое вино, нам решительно отказала в кружках навынос, поскольку якобы мы ей когда-то и что-то не вернули.
– И чего вы здесь болтаетесь! – не стесняясь очереди, громко корила нас, – люди работают, а вы ошиваетесь с ранья…
Валька, надо не надо, но всегда избыточно общительный, на этот раз сделал вид, что сильно обиделся и, перейдя колдобистую дорогу, стал стучать в калитку первой попавшей хаты. Признаюсь, в те времена приречье Краснодара сильно смахивало на заросшую пыльными бурьянами хуторскую окраину с курами, козами, собаками в репьях, что лениво щелкали клыками и нервно дергались вослед опасно гудящим осам. Рядом облизанные половодьями речные откосы, под которыми всякую рань местные рыбаки густо дымили «Примой», самыми распространенными сигаретами по 14 копеек за пачку. Тогда в Кубани еще что-то ловилось, хотя ни один из нас такой страстью, слава Богу, озабочен не был.
Город давно и демонстративно отдалился от своего природного наследия и шумел чуть вверху, в двух кварталах, круто повернувшись к реке задницей. Я думаю, Краснодар тогда был одним из немногих, если не единственный из больших городов, который при наличии немаленькой реки не имел даже намека на набережную: гранит, чугун, медные фонари, дубовые скамьи в тени столетних кленов, как, например, в Ростове. Более того, никто и не страдал по этому поводу и ни капли не завидовал ростовчанам с ихним Доном, поскольку на всех углах мы то и делали, что восторженно прославляли свою драгоценную Кубань, ну и себя, естественно, любимых.
«Мы – веселые кубанцы, любим песни, любим танцы…» – всякий день горланило краевое радио по любому поводу, лично у нас вызывая только приступ молодецкого ерничества, типа: «Мы веселые кубанцы, мы веселые засранцы…»
Однако именно в этих заброшенных углах все комфортно устраивалось, прежде всего сиреневая от табачного дыма пастораль, ленивая тишина, когда в трех шагах от троллейбуса можно было свободно валяться на травке, время от времени опуская босые ноги в мутную и не по-летнему холодную стремнину, при этом вести длинные разговоры ни о чем, поскольку чаще всего делать нам все равно было нечего.
– Тебе чего, мальчик? – спросила бабка, вышедшая на стук.
– Мамуля! – разулыбался Валька. – Можно у вас попросить ту штучку, – и он показал на старую эмалированную кастрюлю, висевшую на заборе.
– Для чего? – нахмурилась старуха.
– Рислинг в нее набрать вон из той бочки! Хотим другу день рождения справить, – привычно соврал.
– Дык она дырявая.
– Ниче, мы поправим, – с радостью пообещал Валька.
– Да бери! Не жалко… – усмехнулась старуха. – Только повесь обратно…
– Вы сомневаетесь?! – темпераментно воскликнул Валька. – Всенепременно… С благодарностью!..
Он был ужасно рукастый. Сбегал помыл емкость в речке, нашел дырки (их оказалось всего две), заткнул спичками и в таком виде трехлитровую кастрюлю, наполненную напитком хрустальной прозрачности, способным возбудить любое сердце (а уж наше тем более), водрузил в воображаемый круг, прямо на травку.
– Ну как? – спросил в ожидании похвалы наш тщеславный, как и все невысокие люди, товарищ.
– Маладэц! – похлопали мы в ладоши.
Кастрюля потихоньку сочилась, но содержимое держала. К тому же прикладывались мы довольно часто, опустошая длинными, но неспешными глотками, как люди, вполне довольные обстоятельствами жизни. Хотя никаких оснований к этому, кроме абсолютной беззаботности, у нас не было.
Самым устроенным считался Корсун, поэтому чаще всего и платил то за пиво, то за рислинг. Он работал в мединституте младшим специалистом по фотоделу, хотя везде именовал себя заведующим фотолабораторией. Важно, что в том подвале хозяйствовал один и слыл мастером на все руки. У него мы пропадали довольно часто. Архангельский учился в художественном училище и по слухам подавал немалые надежды. Я же не учился и не работал, и надежд никаких не подавал, хотя весной закончил исторический факультет.
В тот день мы обсуждали мою очередную попытку устроиться, на этот раз в многотиражную газету завода имени Седина. Очень знатное, скажу я вам, было предприятие, для всего мира делало металлорежущие станки. Лучше всех об этом был осведомлен Мишка, поскольку в качестве шабашки однажды разрисовывал на первомайскую демонстрацию грузовую машину, задекорированную фанерой под карусельный станок и украшенную призывами работать по-ударному и жить счастливо…
Пошли вдвоем с Архангельским, которого я взял для поддержки. Однако, весь разговор с редактором, молодящейся и страшно самоуверенной теткой, он простоял как пень у двери, перекладывая с плеча на плечо огромный замызганный этюдник и шумно шмыгая носом, поскольку, несмотря на августовскую жару, умудрился простыть.
Редакторше, которую звали Полина Захаровна, мы не понравились сразу, и разговор шел не столько о работе (меня, конечно, не взяли), сколько о нашем внешнем виде, которым, по ее мнению, мы олицетворяем разболтанность худшей части современной молодежи. Ну ладно я оказался просто неучтив в одежде. Приперся в официальное присутствие в майке, купленной на новороссийском «толчке», самопальных джинсах-варенках, вьетнамских шлепанцах, но, главное, в черных очках, которые не снял даже в редакторском присутствии. К тому же на майке была изображена какая-то ухмыляющаяся рожа, а под ней надпись на немецком языке.
– Ты хоть знаешь, что у тебя на животе написано? – с плохо скрытым негодованием спросила редакторша, сверкнув пенсне, точь-в-точь как на портрете у Надежды Константиновны Крупской, что висел у нее над головой.
Я пожал плечами, поскольку языками не владел, да меня это и мало интересовало.
– Так я переведу! – усмехнулась строгая мадам и прочитала: «Я маленький шалун, я люблю упругих девчонок». Ну как? – но спросила почему-то Мишку.
– А че, – хмыкнул тот, – нормально…
Судя по всему, он ее раздражал больше, поскольку выглядел еще хуже. Вот уже год как он красил красным стрептоцидом копну природно буйно-кудрявых волос, а на ночь на бумажные папильотки завивал терпеливо отращиваемые усы, чтобы стать похожим на своего кумира Сальвадора Дали.
– Тебе не стыдно ходить по улице в таком виде? – и Полина Захаровна словно с первой и сразу на третью переключилась с меня на Мишку. – Небось комсомолец?
– А чего мне стыдиться? – лениво проскрипел в ответ Архангельский. – Я же не убил кого-то и даже не собираюсь. Все остальное – мое личное дело. Успокойтесь, я не комсомолец и никогда им не был. Я вольный художник и хочу, чтобы об этом знали все, в том числе и вы. Но если уж вам так нужен комсомолец, так вот он, перед вами, – и показал на меня.
– Правда, Вова? – это он уже мне.
– М-да, – задумчиво протянула Полина Захаровна, – тревожный случай… На завод вам надо, ребятки, к станку, на тяжелую физическую работу, чтобы в трудовом коллективе с вас всю эту мишуру снять, – привычно понесла она, но Мишка, в очередной раз громко шмыгнув носом, сказал:
– Волоха, пошли отсюда нафик, а то после всего этого я запросто могу к баптистам уйти…
– Ну и нахалы! – протянула вослед нам доблестная Полина Захаровна, поскольку позже мы узнали, что в годы войны, в штабе самого Леонида Ильича Брежнева, она допрашивала пленных немцев. Но главного бедная Захаровна так и не узнала. У ворот «родного завода» нас ожидала ее дочь Ленка, которая и сообщила, что маме срочно нужен литсотрудник.
В отличие от матери Ленка была совершенно очаровательным существом и часто вместо лекций в институте культуры, где вроде как училась, болталась в нашей компании, правда, предпочитая рислингу шампанское.
Коротышка Корсун, как и все мужики такого толка, ей активно симпатизировал и втихаря домогался, чтобы она попозировала ему в «обнаженке», якобы для курсовой работы. Высокая и гибкая Ленка, хотя и была «без башни», особенно, когда хорошо поддаст, но мамины наставления о целомудренности блюла, несмотря на то, что Корсун настойчиво талдычил ей, что ему, студенту-заочнику кинооператорского факультета ВГИКа, снимать голых девок разрешено официально.
– Ну и что собираешься делать? – снова пытали меня, поскольку считали, что очередной облом в сединской многотиражке – это случай, который и внимания не достоин.
– Чего вы туда поперлись? – Валька, уже слегка подпитый, любил изображать этакого «щирого» мецената. – Спросили бы, я эту Захаровну давно знаю, дома у них бывал… Там на комоде, представляешь, гипсовый бюст Ленина стоит… А ты в джинсе, да еще с немецко-фашистской похотью на майке… И я бы тебя не взял…
– Да кто бы к тебе пошел? – засмеялся Мишка. – Ты, Валька, к любому строю приспособишься, даже к петлюровцам…
Тут уж захохотал я, потому как мы знали, что Валькина бабка училась у Петлюры в Екатеринодарском городском училище. Однажды, когда мы гостили у его матери в Белореченске, она показывала нам старые семейные фотографии. На одной из них бабушка Дарья, в обществе таких же очаровательных девчонок в белых гимназических фартучках. В первом ряду, посредине, молодой мужчина в смокинге и с часовой цепочкой над нагрудным кармашком, с гладко бритым, словно отлитым из столового фаянса лицом, сосредоточенно уставился прямо в объектив.
– Знаешь, кто это? – Валька любил поражать собеседника неожиданностями познаний, – Симон Васильевич Петлюра, классный наставник моей бабушки Дарьи Харитоновны, в девичестве Скавронской. Это, по-моему, седьмой класс… Он даже у них в доме бывал. Бабулька рассказывала, очень любил борщ, который прабабушка готовила так, что аромат подпирал всю улицу. Прощаясь, всегда целовал прабабушке руку и говорил, что мир кубанской хаты обязательно должен пахнуть раскаленным борщом и горячими пирожками…
Мать Вальки, которая всю жизнь работала процедурной сестрой в райбольнице, видимо, хорошо усвоила семейные традиции, и тот борщ да и пироги с капустой, которыми она нас встречала, не вписывались ни в какие кулинарные каноны. Мы, почти всегда голодные, мели тогда как молодые волки, причем все, что попадало под руку, а уж такие пироги так вообще на уровне голодного обморока.
И когда Валька после выпитого и съеденного чересчур расходился, мама уводила его в другую комнату и громким шепотом просила, чтобы не сильно озвучивал семейные тайны…
– По-прежнему боится! – пояснял он нам на обратном пути.
– А ты че, уже и не боишься? – спрашивал его Мишка, который почти всегда кому-нибудь оппонировал.
– Я, Мишенька, в отличие от тебя, буревестника революции, шестидесятник…
– Это что ж такое? Псалмы, что ли, по ночам тянешь? – спросил Миша.
– Не надо путать диез с диатезом, – высокомерно скривился Валек, – шестидесятники – это люди, для которых понятие «оковы» совсем не пустой звук.
Он встал во весь рост (а это метр аж пятьдесят шесть сантиметров) и, откинув руку, стал пафосно декламировать:
…Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Валька, когда подопьет, особенно если «линия налива» начинает достигать кончика краснеющего носа, начинал впадать в странное состояние. Правда, с помощью рислинга это довольно просто достигалось. Его пьешь как кисленькую водичку, а потом ноги сами по себе сгибаются, а язык мелет черт-те что. Вален, например, иногда начинал плакать, сетуя, что девушки его не любят. Вернее любят, но не так, как бы ему хотелось.
Но в том случае стал убеждать нас, что только время, в которое мы живем, а это был Хрущев в апогее своего неистовства («кузькина мать», Карибский кризис, башмак в ООН, антипартийцы и прочая веселуха), может открыть глаза народу.
– И сделаем это мы, шестидесятники! – столь же пафосно закончил он, рухнув на траву и снова припав к кастрюле.
Прямо скажем, Краснодар того времени был образцом южного провинциального великолепия. На Сенном базаре за оцинкованное ведро абрикосов просили «рупь», а отдавали за семьдесят копеек. В любой зной народу подвозили квасные бочки, но с чудесным рислингом, причем в таком количестве, что люди, приехавшие с «северов», особенно из Москвы, просто балдели от неверия, что такое вообще может быть в стране, в которой на троих пили только дерьмо, и такое, что волосы на голове синели.
В отличие от нас Валька читал газеты, в основном раздел происшествий, и однажды выудил, что где-то в Вологде два мужика дули на кухне спиртягу и заспорили, что один из них может поджечь себе бороду. И поджег! А поскольку был окутан парами такой насыщенности, то вспыхнул как факел, аж до самой макушки. На крик прибежала жена и, схватив с плиты кастрюлю с кипящими пельменями, притушила беднягу навсегда.
Нам такие истории нравились, и мы с удовольствием хохотали, поскольку то были времена веселых анекдотов, особенно про самого Никиту Сергеевича. Он ведь, в сущности, и стал невольным вдохновителем того движения, куда ринулась сильно запуганная Сталиным часть интеллигенции, особенно творческая.
Бардовская волна, что охватила прежде всего столицу, выносила на бурную поверхность удивительных людей. На смену мордатым насупленным лауреатам, облаченным в габардин и бостон, появились молодые люди в клетчатых рубашках, штанах, еще хуже, чем у меня, заросшие неряшливыми бородками, с гитарами, а главное, рассуждениями, воплощенными в стихи и песни, потрясающие молодые умы.
Особенно волновал сумрачный человек с непривычным именем Булат. Да и песни были у него совсем иные, хотя на ту же тему. Война по-прежнему жила рядом, в сотнях тысяч ветеранов: стареющих, лысеющих, болеющих, отдавших для победы все, что имели, и очень мало получивших взамен. Вместо громоизвергающих баллад в исполнении краснознаменных ансамблей:
Непобедимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед…
С рентгеновских пленок вдруг зазвучало совсем уж неожидаемое, но пронзающее народную душу сильнее, чем сам рентген. Негромкий голос совсем не броского человека, стал озвучивать такое, после чего и не надо было ничего объяснять.
…А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
Бери шинель, пошли домой!
Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним,
Бери шинель, пошли домой!
Мы все – войны шальные дети,
И генерал, и рядовой.
Опять весна на белом свете,
Бери шинель, пошли домой…
Да, мы были не сильно ответственны, а уж тем более старательны, часто бесшабашны, порой ниспровергающие, с чем-то несогласные, но никогда не подвергали сомнению главное достоинство, что живем в сильной и сплоченной стране. Были уверены, что сломав хребет самому страшному зверю, которого смогло придумать человечество, германскому фашизму, наш народ преодолеет любые иные трудности. Причем верили в это без всякой закулисной балды и прочих поправок…









































