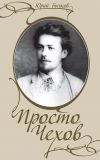Текст книги "Кровь на мантии. Документальный роман"

Автор книги: Владимир Сергеев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
На условный стук дверь отворил здоровенный мужик со свечой в руке. Пинхус первым шагнул в полумрак прихожей, жестом приглашая отца Георгия следовать за собой.
Отец Георгий сделал шаг и услышал, как сухо щелкнул дверной замок за его спиной. Почему-то от этого звука ему стало не по себе. Что-то зловещее почудилось во всей этой ситуации.
Что делает он здесь – на этой глухой станции, в этом заброшенном доме, в этой темной комнате?.. Вот и наган свой он оставил дома! Всегда брал, а сегодня оставил… Может, ну его, этого Пинхуса и его таинственного доброжелателя! Убраться поскорее отсюда подобру-поздорову, пока не поздно! Да нет, что он выдумывает, накручивает. Это нервы. Что может случиться? Ведь это не кто-нибудь, а Пинхус, его давний знакомый, привез его сюда. Как можно сомневаться в нем…
– Ну что же вы замешкались, Георгий Аполлонович! Дайте вашу руку, нам нужно подняться вот по этой лестнице на второй этаж. – Рутенберг тронул в спину отца Георгия к слабо освещенным откуда-то сверху ступеням.
Отец Георгий сделал шаг, другой, третий… Когда они поднялись на площадку второго этажа, Пинхус толкнул обшарпанную дверь. Посреди комнаты, освещенной висящей под низким потолком керосиновой лампой, за круглым столом у самовара сидели трое мужчин.
«Откуда они здесь? И зачем?» – вздрогнул, почуяв недоброе, отец Георгий. Ведь Пинхус сказал, что на даче будут только они да тот загадочный господин из Полтавы…
– Пинхус Моисеевич, – обернулся к своему провожатому отец Георгий – что это значит? Кто эти люди?
– Проходите же, проходите, Георгий Аполлонович. Что вы замешкались! – вместо ответа каким-то не своим, сдавленным голосом пробурчал за его спиной Пинхус. – Незамедлительно все узнаете. А пока раздевайтесь. Сейчас вот чайку попьем с морозца, вы ж замерзли, да и я тоже…
– Пинхус Моисеевич, но где ж ваш загадочный гость из Полтавы? Эти вроде на земляков не очень похожи! – усмехнулся отец Георгий.
– Вы правы, Георгий Аполлонович, нет никакого тайного доброжелателя и мецената. Зато вот эти господа уже очень давно горят желанием встретиться с вами и побеседовать с глазу на глаз!
– О чем же, позвольте спросить, вы собираетесь вести разговор? – скидывая шубу и садясь за стол, вызывающе спросил отец Георгий. – И вообще, кто я такой, судя по всему, вам известно. Но и я хотел бы знать, с кем имею честь беседовать и какую цель вы преследовали, заманив меня сюда? Может быть, вы, Пинхус Моисеевич, как режиссер всей этой комедии, объясните мне?
Но вместо Рутенберга ему ответил один из сидевших за столом:
– Не будем лукавить, не для светской беседы, любезнейший, а для того, чтобы свершить суд, суровый и справедливый. Мы здесь, как бы это точнее выразиться, представители двух сторон, двух, так сказать, полюсов политических реалий России, – с циничной усмешкой начал абсолютно лысый человек в пенсне и в галстуке-бабочке на вороте несвежей сорочки.
– Вот я, например, секретный сотрудник охранного отделения полиции, а эти… – повел он рукой в сторону сидящих напротив него двух хмурых, небритых субъектов, – это так… статисты, головорезы с Хитрова рынка. Мы их спецом выписали из Москвы для нашей нынешней встречи. Это им предстоит привести к исполнению наш приговор.
Ну а господин Рутенберг, которого, я полагаю, вы хорошо знаете, можно сказать, представляет сразу обе стороны – и как давний и проверенный агент нашего департамента, и как известный в определенных кругах революцион-э-р, соратник другого известного революцион-э-ра, господина Азефа, – с долей пренебрежения кивнул он в сторону все еще стоящего у двери Рутенберга.
– Однако славная компания подобралась – полицейский, революцион-э-р и пара головорезов. Что ж, я готов ко всему. Начинайте свое судилище, – вызывающе ответил отец Георгий.
– К чему этот пафос, Георгий Аполлонович, вы же не на рабочем собрании! Вас интересует, зачем мы так настойчиво добивались этой встречи? Так вот, объясняю: надоели вы всем, до смерти надоели – и тем, кто при троне, и тем, кто против тех, кто при троне! Вот и вышло, что нет вам места ни среди тех, ни среди этих. А это значит, что в самой жизни вам уже места не осталось. Так что сейчас вам самое время помолиться.
– Только не надо пугать меня! Я давно уже готов ко всему, потому что живу меж двух огней, двух враждебных, но объединившихся в своей ненависти ко мне сил. Для одних я опасный смутьян, возмутитель спокойствия в этом болоте загнивающей монархии. А для других, жалких ничтожеств, именующих себя революционерами, способных только разрушать, но не строить, я конкурент, оберегающий людей от вашего разлагающего влияния. За это вы и ненавидите меня, за это и хотите уничтожить. И если вам удастся забрать жизнь мою, то люди будут знать, что я умер за справедливое дело. Только прежде одолейте меня!
И не успели сидящие за столом опомниться, как он, вскочив со своего места, схватил обеими руками огромный самовар и швырнул его в сторону двух сидящих бок о бок головорезов. Кипяток хлынул из чрева самовара, обдавая их лица и грудь.
Оба взревели от невыносимой боли. От неожиданности один из них вместе со стулом упал навзничь и завыл по-звериному, катаясь на дощатом полу. Другой, обхватив ладонями ошпаренное лицо, вскочил и завертелся на месте волчком.
– Что, взяли?! – взревел отец Георгий, бросившись к ошарашенно застывшему на своем месте полицейскому. Он схватил его за грудки и повалил на пол. Но в этот момент подскочивший к нему сзади Рутенберг, выхватив из кармана кастет, изо всей силы нанес ему удар в затылок.
– И ты, Пинхус! – только и успел простонать отец Георгий, прежде чем от второго удара, обливаясь кровью, свалился на пол рядом с полицейским и потерял сознание.
В это время оправившийся от ожога и озверевший от боли наемный убийца бросился к лежащему без сознания священнику и начал, не разбирая, озверело бить его ногами – по голове, по лицу, по ребрам. Отец Георгий застонал и открыл залитые кровью глаза.
– Эх вы, и убить-то толком не можете… – простонал он, снова теряя сознание.
– А вот можем, можем, можем! – продолжая неистово наносить удары, в исступлении орал бандит. – Подохни, собака!
Тут подоспел и полицейский с веревкой в руках, накинул петлю на шею лежащего без сознания отца Георгия. Руки его дрожали. Когда наконец петля была затянута, они поволокли тело своей жертвы по полу. Отец Георгий захрипел, дернулся раз, другой, третий и затих.
– Вот и все! – переведя дыхание, отошел в сторону Рутенберг, вытирая окровавленные руки носовым платком… – А здорово он вас из самовара-то!.. И вас, господин полицейский, как пить дать, придушил бы, если б я не подоспел!..Что-то разволновался я. Вот и руки дрожат! Водки хочу…
– Будет тебе водка. Заслужил! – переводя дыханье, хитро прищурился полицейский. Подошел к резному буфету в углу комнаты, отворил дверцы. Достал бутылку.
– Специально для этого случая припас! – осклабился он. – Выпьем же, господа, за упокой души новопреставленного раба Божьего Георгия!..
Выпили не закусывая.
– Что ж, теперь надо бы как-то… того… Самоубийство, что ли, инсценировать… Хорошо бы еще записочку посмертную сочинить. Так, мол, и так. Каюсь за все содеянное мной во вред родному отечеству, за невинные жертвы и тому подобное… С таким грузом нет сил дальше жить, – предложил Рутенберг.
– Ты что городишь-то! – возразил полицейский. – Какое самоубийство! Посмотри, как ты его кастетом, а эти тупые урки сапожищами изуродовали! Вона! И глаз выбили, да небось и ребра переломали.
– А что же он кипятком-то!.. – рявкнул один из головорезов.
– Хватит лаяться! – оборвал его полицейский. – Нужно хотя бы ограбление инсценировать. Ну-ка, босота, обшмонайте его карманы. Да поторопитесь, пора убираться отсюда, а то на последний поезд опоздаем.
– Ладно, вы тут знаете, что делать, чтоб следов не осталось… А я, пожалуй, вниз спущусь, на воздух. Что-то мутит меня от этого зрелища, – пробормотал Рутенберг и вышел.
– Ишь, чистоплюй! Сам заманил своего дружка, сам башку ему кастетом раскроил, а теперь, вишь, мутит его! – ощерился полицейский ему в спину.
Тем же вечером Ники, как обычно, засел за свой любимый дневничок.
Итак…
«28 марта. Вторник.
Стоял великолепный день. Имел один доклад до обедни и два после. Вышел гулять в 4 часа. После чая принял еще Танеева. Мама приехала к нам на жительство. Обедали еще: Миша, Ольга, Петя, Мари и Дмитрий. Весь вечер занимался».
Ники не записал, что в этот день одним из докладчиков был министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново. Почему? Да потому, что то, о чем докладывал Петр Николаевич, не предназначалось для истории. Как-то не вписывается в хрестоматийный образ великого императора великой страны организация мерзкого убийства священника, обреченного им на гонения, клевету и смерть только за то, что тот наивно верил, что и он, Ники, помазанник Божий, служит Господу и народу.
Едва зайдя в кабинет, Дурново понял, что император нынче не в духе.
Пока министр мерил шагами пространство от дверей до витиевато-резного, инкрустированного ценными породами дерева рабочего стола, за которым восседал император, он все острее ощущал на себе раздраженный, тяжелый взгляд Ники.
Худощавый, со стройной, несмотря на преклонный возраст, фигурой, с заученной подобострастной полуулыбкой на аскетичном лице, идеальным пробором отливающих серебром седины волос и богатыми усами, он все больше сутулился, даже как-то съеживался по мере приближения к столу.
– Ну, что там у вас творится?! – не ответив на приветствие министра, раздраженно буркнул Ники, тонкими, дрожащими пальцами («Видно, опять с похмелья!» – подумал Дурново) доставая из серебряного портсигара папиросу.
– Когда наконец закончится этот шабаш, эти забастовки и бунты по всей стране? Когда же со всем этим вы наконец покончите? Чего вам не хватает? Нагаек, штыков, пороха или веревок для виселиц?!
Он говорил, не давая возможности министру вставить и слова, все более и более распаляясь. В какой-то момент Дурново даже ощутил брызги высочайшей слюны на своем лице. Однако стоически не шелохнулся.
– Да скажите же наконец хоть что-нибудь! Что вы все сопите! – видимо, наконец выдохнувшись в своем гневе, воскликнул император и умолк, выжидающе уставившись на Дурново своими выпуклыми, непроницаемыми глазками-пуговками.
Похвастаться хоть какими-то успехами в борьбе с восставшими рабочими у министра не было никакой возможности. Несмотря на все старания полиции и приданных ей в усиление войсковых подразделений, волнения не затихают. И пока… Пока ему приходится в который раз морочить императору голову, раскладывая перед ним на столе ворохи бумаг с лживыми победными реляциями полиции с мест.
– Вот, извольте видеть, все не так уж плохо. Бунтовщики повсюду терпят поражение. Их изголодавшиеся семьи – жены, дети, старики сами заставляют их возвращаться к станкам. Голод, как говорится, не тетка! Полиция и войска тоже не бездействуют. Баррикады берутся штурмом, зачинщики арестовываются или уничтожаются прямо на месте в уличных боях.
– Действуйте же! Будьте беспощадны, выжигайте огнем эту заразу!
Он встал, несколько успокоившись, прошелся из угла в угол кабинета, то и дело затягиваясь папиросой, оставляя за собой шлейф сизого дымка и роняя пепел на дорогой персидский ковер.
– А что с этим… попом, с которого все началось? Долго еще вы будете с ним церемониться? Вы же обещали мне, что в ближайшее время с ним будет покончено раз и навсегда!
– Уже… – наконец воспрянул духом министр, счастливый оттого, что Ники наконец-то перевел разговор на ту тему, где ему есть чем похвастаться.
– Что «уже»? – брезгливо передразнил его Ники, остановившись и резко развернувшись к нему на каблуках своих изящных сапог.
– В настоящий момент он уже решен. Два наших агента, внедренных в руководство партии социал-революционеров, некто Азеф и Рутенберг под контролем полиции как раз сегодня завершили разработанный нами план ликвидации Гапона-Новых. Уверяю вас, больше вы о нем не услышите.
– Наконец-то! – удовлетворенно потер ладони монарх. – Хоть это дело вы оказались способны довести до конца!
И после недолгой молчаливой паузы продолжил:
– Только теперь вам нужно будет очень постараться, чтобы его… случайная смерть не стала запалом для новых, еще больших волнений в стране…
Распутин. Сектант и конокрад
Вбогатый и сытый, избалованный столичной судьбой Петроград эта беда пришла из далекой Сибири, из забытого Богом села Покровского Тобольской губернии, где в 1871 году явилось на свет это чудовище, это исчадие ада, сыгравшее такую зловещую роль в судьбе России, – Гринька Распутин. Кто бы мог подумать, что жизнь этого зачуханного, сопливого мальчонки через годы роковым образом переплетется с жизнью царской семьи, да что там, с судьбой великой империи. А начиналось все так прозаично, так буднично. Ну, рос себе и рос, словно сорная трава, этот глуповатый, безграмотный и к тому же еще не шибко чистый на руку отрок. С семейкой ему не шибко повезло. Постыдную кличку Распута односельчане дали еще деду его. Вот уж правда распутный был мужик, совсем непутевый – бездельник, каких свет не видывал, пьяница, бабник, да к тому же еще и нечист на руку. Прямо-таки чудом удалось ему избежать каторги.
И отец Гриньки, Ефим Яковлевич, таким же пропащим мужичонкой прожил свою не принесшую ни жене, ни детям счастья жизнь. Дочурки его, коих одну за другой строгал он в пьяном угаре, подолгу не заживались на этом свете. Одна за другой так и уходили сызмальства в мир иной. А вот сынок, несмотря на голод, болезни и постоянные отцовские побои, все ж таки выжил. А выжив и понабравшись силенок, уже и сам начал попивать да спьяну-сдуру поколачивать то мать, то отца, а то и обоих родителей разом.
«Что ж, яблочко от яблоньки недалеко катится!» – злословили односельчане, дивясь выкрутасам молодого Гриньки Распуты.
А подивиться да повозмущаться было чему. Что ни день, то, гляди, что-нибудь да отчубучит Гринька! То соседский стожок сена, где с бабенкой чужой кувыркался, сдуру от самокрутки спалит, то с чужого двора что плохо лежало утащит, а было дело, и лошаденок чужих с выгона увел да продал. За такие художества били его мужики часто и больно. А хозяин той лошаденки, односельчанин по фамилии Картавцев, однажды чуть совсем дух не вышиб из паршивца, прежде чем отвести на расправу в волостное управление.
Вот как он описал следователю в своей объяснительной записке воровские похождения Гриньки и то, как он сам и другие односельчане народными средствами лечили его от болезненного пристрастия к воровству.
«Сначала я поймал Григория на краже у меня остожья. Разрубив остожье, он сложил на телегу все и хотел увезти. Но я поймал его и хотел заставить везти краденое в волость. Однако он хотел бежать и желал было ударить меня топором. Но я в свою очередь ударил его колом, и так сильно, что у него из носа и рта потекла кровь ручьем. Я подумал, что убил его, но он стал шевелиться. И я повез его в волостное правление. Он не хотел идти, но я ударил его несколько раз кулаком по лицу, после чего он сам пошел в волость… После побоев сделался он каким-то странным и глуповатым…
А вскоре после кражи жердей у меня с выгона была похищена пара лошадей. Лошадей караулил я сам и видел, что к ним подъезжал Распутин со своими товарищами, но я не придал этому значения. Но через несколько часов после этого я обнаружил пропажу лошадей».
Суд односельчан был суров и беспощаден. Вконец обозленные мужики били Гриньку смертным боем. Однако и на этот раз оклемался, выжил, поганец.
Оклемался, да словно умом двинулся, заговариваться стал. Бродит по селу сам не свой, бормочет что-то себе под нос. А то остановит встречного и ну нести всякую околесицу. А у самого глаза мутные-мутные, словно незрячие.
– Скоро, скоро придет конец… Вижу, идет властитель мира сего и подземного царства!.. Все спалит, всех испепелит своим подземным огнем… Спасайтесь, люди добрые… Спасайтесь, пока не поздно, пока пожар не разгорелся на всю вселенную… Во мне ваше спасение… Я ваш спаситель и пастырь душ ваших…
Дивились люди, с опаской, от греха подальше, стали обходить его стороной.
– Это ведь сам нечистый вселился в нашего Гриньку! – со страхом шептались одни.
– А шел бы ты, сатанинский прихвостень, отседова куда подальше, не смущал народ православный своими бреднями! – встречая его, крестились и отмахивались другие.
– Катись-ка ты, Распута, из нашего села, пока цел! – открыто грозились третьи.
И правда, вскорости Гринька и вовсе куда-то сгинул, поминай как звали!
Никто о нем не тужил, даже родные отец с матерью перекрестились, благодаря Бога за то, что наконец-то слез с их усталых шей непутевый отпрыск. Ну кому нужен этакий бездельник, дармоед и ворюга, да к тому же еще и сдружившийся с самим сатаной!
Долго о нем ни слуху ни духу не было. Лишь спустя год, а то и поболе того, снова объявился он на селе. Отощавший, обносившийся, с изодранной котомкой за спиной, но с высокомерным, презрительным взором своих маленьких, вострых, словно гвозди, глаз.
Уходил сильно тронутым умом парнем, а вернулся матерым мужичиной, с обветренным чужими ветрами, опаленным нездешним солнцем лицом, долгой, почти до пояса, нечесаной бородищей и такими же длинными, спутанными волосами, закрывающими здоровенную шишку на лбу.
– Эвон! Это чтой-то у тебе за рог-то на лбу вырос, словно у нечистого?! Нешто дьяволу душонку-то свою продал? – подивился как-то сосед, углядев эту шишку на Гринькином лбу.
– Да пошел ты… – огрызнулся Распутин. – То у меня ум выпирает! Понимашь, дурья твоя башка, места у меня в голове мало, вот он и выпер рогом-то. Только разве тебе, деревенщине, понять!.. – И заковылял прочь, что-то бормоча себе в бороду.
Не станет же он рассказывать односельчанам о том, что и в дальних краях не раз бивали его за воровство. А однажды так отдубасили, что долго потом пришлось отлеживаться в лесной глухомани, изнывая от боли и питаясь одними кореньями да ягодами. Выжил, однако, да с головою еще хуже стало. Страхи, видения одолевать стали. Да вот и рог этот проклятущий памяткой на всю жизнь на лбу остался.
Шло время. Вот уж Гриньке под тридцать, а он все никак семьей обзаводиться не хочет, все по ночам с бабами куролесит.
– Сколько ж можно бездельничать, кровушку мою пить! – возмущался отец.
– А ты сам-то вспомни, когда остепенился, во сколько лет меня в жены взял?! – заступалась за сына Прасковья Федоровна, мать непутевого Гриньки. – Да и до работы тоже не особо охоч. Оттого и достатка нет, живем кое-как, с хлеба на воду перебиваемся.
– Ну ты… того… не очень… Ишь разбрехалась! Гляди у мене, враз вожжами-то по спине отгуляю!
– Будя голосить-то, в ушах от вас звон! – встрял в родительскую перепалку Гринька. – А жениться… Так вон хоть завтра к Парашке засылайте сватов!
Сказано – сделано. На свадьбе, как и положено, гуляло, почитай, все село. Прасковья, по батюшке Федоровна, засиделась в девках, истосковалась, истомилась по мужской ласке да любви и потому стала заботливой супругой, хорошей хозяйкой и примерной матерью, одну за другой родив мужу двух дочерей. Казалось бы, чего еще надо мужику – живи да радуйся! Ан нет, не сидится дома Гриньке, тяготит его семейная жизнь. Все хочется чего-то этакого, а чего, и сам не знает…
И вот он бросает все, котомку за спину и вон из села, снова мотается по городам и весям, а того боле по дремучим хлыстовским сектам, или, как их именовали тогда сами эти вероотступники, «кораблям».
У хлыстов он учился приемам шаманского камлания, способности входить самому и вводить других в транс, в сладостный экстаз, получать наслаждение от боли, самоистязания. Довелось ему и постигать науку сибирских колдунов-целителей, древние тайны языческих заговоров, методы внушения.
Чем более Распутин погружался в дебри хлыстовства, тем дальше отходил от православия.
«Мне пришлось много бывать у архиереев, много я беседовал с ними… Их учение остается ничтожным, а слушают простые слова… Ученость для благочестия ничего… Буква запутала им голову и свила ноги, и не могут они по стопам Спасителя ходить. Кто может совет дать, так они в уголочки позагнаны». – разглагольствовал он, вернувшись в родное село и убеждая девок и баб переходить из веры православной в его хлыстовскую секту. – Только хлыстовское вероучение истинно, потому что оно верно!
Между тем его душевная болезнь прогрессировала. На него то находили приступы беспричинного бешенства, то тоски, а то безудержного веселья. Временами он будто уходил в иной, доступный и понятный ему одному мир, бормоча какие-то заклинания, размахивая руками, грозя кому-то невидимому кулаком и нещадно матерясь. Односельчане приметили: особенно его душевная болезнь обострялась по весне да по осени. Днем его мучили приступы беспричинного страха, а ночью то бессонница, то кошмарные сны. Эти дикие, возникающие у него в голове фантомы самым загадочным образом придавали ему некую магическую силу, способность подчинять людей своей воле, заставлять верить каждому его слову, следовать каждой его прихоти. С годами эта непонятная, пугающая даже его самого сила лишь крепла. Эта сила вводила в трепет его односельчан. Зная его воровскую, блудливую сущность, они считали, что это от дьявола. И правда, в воспаленном мозгу и мятущейся душе Григория православная вера все более уступала языческой чертовщине.
Хлыстовская община, основанная Распутиным в Покровском, состояла в основном из неграмотных, забитых, одуревших от тяжелой, однообразной и унылой жизни баб. Из мужиков, кроме него самого, в нее входили еще лишь трое – его двоюродный брат Колька Распутин да двое таких же непутевых, как сам Гринька, молодых односельчан. Ночами тайно собирались они в тайной молельне, которую обустроили в подвале под распутинской конюшней.
Что они там вытворяли, передать трудно. Мистические песнопения и языческие заклинания перемежались с коллективными садомазохистскими оргиями. Верховодил здесь, конечно, Гринька, поднаторевший в этих безобразиях и вошедший во вкус в своих скитаниях по хлыстовским «кораблям». И вот здесь, в Покровском, он, ни много ни мало, объявил себя мессией, на членах своей общины совершенствовал полученные в странствиях у колдунов и шаманов навыки ворожбы.
Под покровом ночи в белых льняных рубахах, надетых на голое тело, под предводительством Гриньки спускались они в свое тайное убежище. При мерцающем свете свечей самозваный мессия, облаченный в черный подрясник, с большим серебряным крестом на груди, воздев руки к низкому, прокопченному потолку, начинал монотонно бубнить хлыстовские заклинания. И вот уже бестелесными призраками заметались на бревенчатых стенах тени людей. Все громче, все неумолимей, все мощней звучит голос проповедника хлыстовской ереси. Постепенно и он сам, и все присутствующие входят в транс, начинают кружиться в дикой пляске. Она становится все неистовей. И вот уж Гринька завертелся на одном месте волчком, то и дело что-то вскрикивая и завывая. Все стремительней пляски, все безумней стенания участников оргии. Они взывают то к богу Саваофу, то к Яриле-солнцу, то к лесным духам… Кто-то уже рыдает, а кто-то истерически смеется.
– Братья! Братья! Чую, нисходит Дух Святой! Он уже здесь… Бог с нами… Бог во мне!.. В каждом из вас!.. – он начинает дико кликушествовать, выкрикивая что-то невразумительное, несуразное, но завораживающее присутствующих.
Теперь он их духовный отец, их властелин! Он все более хмелеет от этой власти над людьми, входит в экстаз, вводя в такой же экстаз мечущихся в дикой пляске людей.
– Ой, дух!.. Ой, Бог!.. Ой, царь-дух!..
И все остальные вслед за ним начинают хором выкрикивать какую-то ересь, что-то совершенно дикое и непотребное. И летят на глиняный пол белые одежды, и развеваются распущенные волосы обнаживших свою наготу женщин, путаясь с бородами голых мужиков. И горячий пот течет по их извивающимся в дикой пляске, изнывающим в похоти телам… И лупят что есть мочи друг дружку плетьми, до безумия разжигая страстные желания…
И вот уже все, переплетаясь телами, катаются по полу. Крики, сладострастные стоны, вопли, звериные ласки…
Так, по хлыстовскому вероучению, они очищаются от греха, чтобы воссияла в их душах чистая и безгрешная любовь. Ведь за грехом всегда следует страдание от содеянного, а следом – покаяние, преображение тела и души, приближающее к Всевышнему.
Так утверждает их пастырь, их «духовный отец» Гринька Распутин.
– Грешите и кайтесь, молитесь и изгоняйте дьявола! Грехом мы изгоняем грех из тел и душ наших! – стенает он в экстазе.
Глаза его сверкают, взгляд проникает, кажется, в самую суть каждого. И покорно склоняют головы мужики и бабы, подставляя плечи и спины под удары плетей. Снова и снова, истекающие потом и кровью, сплетаются в сексуальном экстазе разгоряченные языческими плясками, заклинаниями и плетьми сектанты…
Конечно, не могли долго оставаться тайной эти дикие ночные оргии. И однажды ночью полиция накрыла-таки этот распутинский притон. Выволокли срамотников в чем мать родила из подвала, погрузили в телеги и препроводили в полицейский участок. Наутро следователь допросил каждого, а главаря, Григория Распутина, увез в город да в кутузку определил на хлеб и воду, чтоб неповадно было честной народ смущать хлыстовскими прелестями.
Однако избежал он сурового наказания, дал следователю клятвенное обещание прекратить ночные сборища и покаяться в церкви, после чего был отпущен на все четыре стороны.
– А что с ним делать прикажете? Сколько их здесь, в Сибири, этих нехристей-язычников, по глухим селам, деревням и заимкам! Так что теперь, всех на каторгу, что ли? Так дальше Сибири все одно не отправишь. Темные они, дремучие, вот враг рода человеческого их и крутит, забирает в лапы свои!.. – объяснял пристав дотошному следователю, требовавшему сурового наказания грязному развратнику и вероотступнику.
Возвратившись домой, Гринька с перепугу несколько дней из дому носа не высовывал. Своих почитательниц с порога гнал в шею, чем несказанно радовал супругу свою Прасковью Федоровну. Целыми днями сиднем сидел у печи и под квашеную капусту да под соленые огурчики хлестал самогон. Молчал. Сопел. Время от времени, вскидывая помутневшие от выпитого глаза на снующую по дому супругу, матерился. И опять пил и хрустел огурцами. А едва темнело, напившись до одури, забирался на печь и тяжелым пьяным сном, со стоном и храпом, дрых до утра.
«Что-то будет дальше?! – то со страхом, то с надеждой думала Прасковья Федоровна. – Остепенится кобель после этакой встряски в участке или опять примется за старое?..»
И вот настал день, когда Гринька, встав ни свет ни заря, опохмелившись стаканом самогона, вышел во двор и, глядя в спину кормившей хряка жене, неожиданно бросил:
– Все, Параська, ухожу я отседова! Осточертело все… Тесно мне здеся.
От неожиданности Прасковья Федоровна чуть не бухнулась в свинячье корыто с кормом.
– Ты что это городишь, ирод! Совсем ум свой пропил? Куды ж тебе таперича нечистый волокеть?
– Заскучал чтой-то, вот решил в Питер податься. Столицу хочу повидать. Оченно антиресно мне, как там людишки живуть, чем дышать.
– В Питер, говоришь! Я как же я, дети? Как мы-то жить будем, что же нам таперича – с голоду помирать?
– Не верещи, баба. Без тебе башка трещить… Я скоро вернусь. А вы уж тут как-нибудь… А брату скажу – он, если что, подсобит, выручит.
И ушел, уехал, растворился в бесконечности российских дорог.
Столичный град Питер встретил Гриньку так же неприветливо, как он встречал каждого оборванца-бродягу – пронизывающими ветрами с Финского залива, презрительными взглядами благополучных обывателей, завшивевшими нарами и зловонием ночлежек, смрадным гвалтом дешевых кабаков и жестокой конкуренцией нищей братии, безжалостно отрихтовавшей Гринькину физиономию, когда он было, поиздержавшись за время пути, попытался с протянутой рукой пристроиться на паперти одного из храмов.
Такой Питер Распутину не приглянулся, он его обозлил. А обозлившись, он изо всех сил напряг свой изощренный, не раз выручавший его в многочисленных жизненных перипетиях ум мыслью о том, как ему из этих мерзких питерских подвалов перебраться на другие этажи, где щи погуще и вино послаще.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?