Текст книги "След в след"
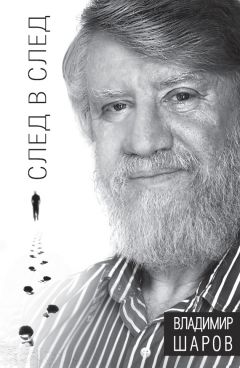
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Полтора года ему везло, он провоевал без единой царапины, но в июне сорок третьего года под Орлом наконец искупил свою вину кровью. Пуля, задев верхушку левого легкого, прошла навылет, а за секунду до или после нее он был тяжело контужен разорвавшимся рядом снарядом. Два дня он пролежал в воронке у самой дороги, санитары его или не заметили, или посчитали мертвым, в списках части он тоже значился среди погибших. На третий день девочка из соседней деревни услышала, как он стонет, и с матерью перенесла его в дом. Они выхаживали его несколько месяцев, а потом передали в тыловой госпиталь, стоявший в Орле.
После Орла лечили его еще в двух госпиталях. Пулевое ранение долго не затягивалось, рана гноилась, особенно сзади, на спине, где образовался свищ. Понадобились три операции (во время одной из них ему отрезали часть легкого), прежде чем дело пошло на поправку. Свищ закрылся, он уже начал вставать и надеялся, что его вот-вот выпишут, когда госпитальный психоневролог во время вечернего обхода обратил внимание на то, как сильно дрожат у него руки. Николай и сам давно видел, что во время ужина расплескивает чуть ли не весь стакан чая, но думал, что это от наркоза, потери крови и слабости. Утром, сразу после сна, дрожь была почти не заметной, он мог даже показывать шулерские приемы, которым обучился в колонии, а к вечеру руки расходились вовсю. Психоневролог задержал его выписку на месяц, никакого улучшения не было, он вызвал к себе Николая, сделал это специально вечером, перед отбоем, и сказал, что здесь они ему помочь ничем не могут, что это последствия контузии, которые лечатся долго и трудно, что, если он настаивает, его, конечно, выпишут, но тогда он так и останется инвалидом. Молодой красивый мужик, а не то что работать – бабу обнять не может, молотит по ней, как по роялю. Но если Николай не спешит, а в подобном положении только дурак спешить будет, его направят в специальный неврологический госпиталь в Саратов, где такие вещи лечат. Николай согласился, поехал в Саратов и там безо всякого улучшения провалялся еще год. Врачи говорили, что у него в голове поврежден какой-то центр и сделать, похоже, ничего нельзя, может быть, наладится само.
От этого лежания был только один плюс: Николай кое-как научился управлять своими руками. Он заметил, что, если сцепляет пальцы, руки мешают друг другу и дрожат меньше, или, во всяком случае, видно это намного меньше. Теперь он даже мог писать, придерживая и направляя правую руку указательным пальцем левой. Писал он строго по букве, чтобы одна не залезала на другую, с приличным расстоянием между ними. Получалось вполне быстро, понятно, пожалуй, даже красиво. В госпитале ему уже оформили вторую группу инвалидности, готовили другие бумаги к выписке, когда за ним приехала Катя. Это была та девушка из-под Орла, что его нашла и выходила. Теперь ей было семнадцать лет, за день они поженились и через неделю, взяв госпитальные документы, уехали в ее деревню.
Еще когда он лежал у них в доме и не знал, выживет или умрет, в последнюю неделю перед тем, как за ним приехали из Орла – тогда он уже бредил только по ночам, а днем был в сознании, – он заметил, что Катя уже большая, а не ребенок, как показалось ему в поле, когда она с матерью тащила его из воронки, что она красива и через год-два будет невестой. Тогда же они несколько раз подолгу друг с другом разговаривали. У нее, как и у Николая, в тридцать седьмом арестовали отца, правда, пока не началась война, мама и Катя получали от него письма. Лагерь был где-то под Печорой, и, судя по тому, что он писал, жить там было можно. Она говорила ему, что в деревне их травят врагами народа и она, когда вырастет, добудет себе паспорт и уедет, а куда – все равно. Николай тогда подумал, что, если выживет, надо вернуться сюда, забрать Катю и вместе ехать на юг, к морю, в Крым или Баку, уехать и забыть все к чертовой бабушке – и деревню ее, и колонию, и войну.
Пока он лежал в Орле и еще хорошо ее помнил, они регулярно переписывались, но из второго своего госпиталя в Тамбове он писал Кате уже редко. В Тамбове он числился среди выздоравливающих, ходил, в городе у него была подруга, хорошая баба, и жить где было, если бы с руками все было в порядке, он бы женился и остался у нее.
Катю он почти забыл. От нее по-прежнему раз в неделю приходили письма, но было видно, что она боится писать и думает над каждым словом. Адрес саратовского госпиталя он ей не послал, писать не хотелось, да и не верилось, что с руками наладится, а такой он не то что в деревне – в городе никому не нужен. Когда Катя разыскала его в Саратове, он ее не узнал, так она была красива и так не похожа на свои письма и на то, что он помнил по дням, когда она ходила за ним. В госпиталь она приехала рано утром – сразу с поезда, не обратила внимания на его руки, хотя он, когда ее обнимал, не сдерживал их, как и говорил ему врач в Тамбове, честно молотил по ней, как по роялю. В тот же день они поженились. У одной из медсестер, прямо рядом с госпиталем, Катя сняла комнату и вечером перевезла его туда. В этой комнате они прожили неделю. Кажется, Катя еще тогда хотела, чтобы они остались в городе, но работу было не найти: у нее, кроме колхозной справки, никаких документов, его никто не брал, денег при выписке дали мало, и она тоже поняла, что надо возвращаться.
Прохор, Катин отец, до ареста был председателем колхоза, с тридцатого года по счету то ли седьмым, то ли восьмым, но раньше, до него, все председатели были пришлые – или из города, или из района, а он местный. В деревне давно привыкли, что председатель должен быть чужой, что он прислан сюда властью, назначен ею и снят будет, если что не так, тоже ею. Они знали, что председатель и сам часть этой власти, что он был начальником до того, как его назначили их председателем, будет им и дальше, когда его заберут отсюда. С таким председателем все было ясно: и то, что он свой среди других начальников, и то, что знает, что и как надо.
Год на год не приходится, и председатели тоже были разные. При одном деревня была кое-как сыта, при другом голодала, но и тогда все понимали, что никто в этом не виноват, что выбирали его не они, да, может быть, и не плох он вовсе, а так сейчас надо, чтобы для них он был не очень, а для страны хорош. А если председатель попадался сносный и люди были сыты, то и желать больше нечего.
В пришлом председателе было много хорошего, деревня была для него чужая, ничего и ни о ком он в ней не знал, сидел у них председателем редко больше года – значит, и узнать не успевал, жили здесь, конечно, не на одни трудодни, у каждого были свои хитрости и заначки, за счет них и перемогались в самые голодные годы. Хорошо было и то, что с его приходом ничего не менялось, даже приноравливаться особенно было не надо, был он, и были они, его жизнь и жизнь деревни шли как бы отдельно, ему и не завидовали никогда, настолько он был не их.
Про своих они все знали: и кто чем кормится, и кто с кем гуляет, в каком доме девки родятся красивые, а в каком – умные и работящие, у каждого было свое дело, свое место, которое занимать было не надо, оно так и переходило, как дом, от отца к сыну. Деревня была старая и ровная. За землю здесь всегда держались, ни особенных голодранцев, ни кулаков не было, никто свой хутор на отшибе не ставил, притерлись они друг к другу давно, еще при царе Горохе, да так прочно, что ни Столыпин, ни революция, ни коллективизация добить их не смогли.
С Прохором все было по-другому. Он был свой. Можно сказать, что они его сами сделали председателем: сначала послали на курсы трактористов, там он и вступил в партию, потом позвали в бригадиры свекловодов. Бригада на следующий год заняла по району первое место, из области приезжал корреспондент, они ему Прохора нахвалили на большую статью; статью напечатали, Прохору дали медаль, а через год выдвинули в председатели. Старики первые поняли, что, если Прохор останется председателем, деревне конец. Не должен быть председатель из своих, нельзя так. Все, чем деревня держалась – и что вперед никто не лез, но не забывали и последних, даже в тридцать четвертом году, когда было у них совсем плохо, не умер никто, все выжили, и то, что каждый знал свое место и не дрался за чужое, не отнимал его у соседа, как в других деревнях, отсюда и сила на жизнь оставалась, – ничего этого при Прохоре быть уже не могло.
Хоть он свое место бросил, а уйти от них не ушел. Жить так, как будто его нет, нельзя, свой он, а делиться заново – ни один не будет доволен. Потом – как делиться: с одними он в дружбе, те теперь пойдут наверх, с другими – не очень. Мальчишкой обижали его многие, и невесту у него Петька Конюх семь лет назад увел – с ним что будет? И еще: как его, так и он всю деревню знает будто облупленную. Если прежние председатели, когда с них требовали в районе, жали, требовали еще – жали еще, а потом все: как ни требовали, больше не жали, потому что не знали как, думали, что и не осталось ничего, так и в районе говорили: «Ни черта у них нет – все выжали», то с Прохором не так. Он знает про все их заначки, и, когда будут с него требовать, хоть и не по своей воле, – не там остановится, где те председатели, а там, где и вправду жать нечего.
Как только Прохор стал председателем, сразу и начали на него писать. Но не все. Многие считали, что надо выждать и посмотреть: может, и так, без писем, снимут его потихоньку. Но месяца через два он вдруг объявил, что хлеба на трудодень будет давать вдвое против прежнего, и не только в конце года при расчете, а хоть каждый день – бери, сколько наработал. Такое уже раза три было в районе, правда, давно, до тридцать пятого года, но и тогда ни один председатель с новыми трудоднями не продержался и месяца – двух сняли, а третьего даже посадили за разбазаривание колхозного имущества. Думали, что слетит и Прохор, но у него оказалась сильная «рука» – второй секретарь райкома, который его три месяца назад выдвинул в председатели, в итоге отделался Прохор партвыговором, но трудодни разрешили ему оставить как есть, правда, временно и в порядке эксперимента.
После этого выговора деревня и начала писать на него по-настоящему: знали, что ни Прохор, ни секретарь райкома не вечны, что все равно трудодни к концу года – когда госпоставки добавят – срежут до старого, или того меньше, что к хорошему привыкаешь быстро, а когда все повернут обратно, делать уже будет нечего и есть тоже нечего. Догадались они, что по расчету или так, но искушает их Прохор, заманивает сытостью, а потом, когда применятся они к ней, он же или кто другой все назад оттягает. Вдобавок, приберет частью то, что было у них при других председателях, до Прохора. А хуже всего, что раскрыл он их, ославил и выставил вперед.
Деревня и раньше считалась в районе зажиточной, а теперь, стоило кому появиться в городе или соседнем селе, узнавали и пальцами тыкали, а за глаза иначе, как «кулаками», не называли. Значило это одно: чуть что район не выполнит – зерно ли, свекла, займы, – все на них валить будут: «Вы кулаки, вам и платить». С голоду пухнуть станут, а все равно не снимет с них никто ни гроша, так и помрут кулаками.
Чтобы не прогадать с письмами и не ошибиться, из деревни в райцентр каждый день посылали ходоков за газетами. Те раздавали их по дворам, везде, где были грамотные. Обносили только родственников Прохора, и не из-за того, что боялись, что те ему сообщат, а потому, что виноваты они были не больше деревни, а губить свою кровь – страшный грех. Из газет брали все, что было там о шпионаже, вредительстве и диверсиях, меняли только фамилию, имя, отчество и место, прочее оставляли, как в газете. Сначала думали не просто переписывать, а что-нибудь добавлять от себя, а потом не стали, в газете писали ясно, четко, красиво, у них так не получалось.
Через три недели из района прибыл наряд милиции и Прохора взяли. Четыре месяца о нем ничего не было слышно, шло следствие, а потом, уже в конце декабря, приехал в деревню первый секретарь райкома, привез с собой нового председателя – до этого у них было как бы безвластие – сказал, что они молодцы, проявили высокую сознательность и бдительность, что благодаря им разоблачен опасный враг и что через два дня, в воскресенье, в сельсовете будет показательный процесс над Прохором – областной суд проведет у них специальную выездную сессию.
Ни до того, как секретарь райкома привез другого председателя (пока его не было, многие считали, что это не зря, что Прохор вывернется), ни потом, после суда, на котором ему дали пятнадцать лет лагерей, жену Прохора и Катю особенно не травили, правда, иногда ребята ругали ее «вражьим отродьем», но это шло от учительницы и скоро кончилось. Конечно, вернуться назад, к тому, что было прежде, чем Прохор стал председателем, ни Катя, ни мать не могли, не могли и уехать: не было ни денег, ни сил, да и не отпустил бы их никто. Так они и остановились – и не свои, и не чужие. Приусадебный участок им оставили, Катина мать пошла еще работать техничкой в школу, платили ей за это трудоднями, и до войны, а потом и до конца войны они кое-как протянули. Потом Катя поехала к Николаю, сказала, что навсегда, а через три недели вернулась. Мать знала, как трудно устроиться в городе, и была рада, что вернулась Катя хоть не одна.
Когда они приехали, кончался июль, вся деревня была на сенокосе, людей не хватало и травы перестаивали. Николая тоже послали косить. Бригада – одни бабы – приняла его хорошо, знали, что он здесь воевал, чуть ли не на этом лугу раненый лежал в воронке. После войны в деревне осталось, если не считать стариков, только три мужика: два инвалида, каждый без ноги, и один целый. Мать целого ворожила и для своей деревни, и для соседних. Она так его заговорила, что он с немцами и японцами провоевал пять лет без единой царапины. В деревне думали, что месяца за два-три Николай тут освоится, все поймет и уйдет от Кати, благо невест много, выбрать есть из кого.
В начале августа, когда кончили косить траву и уже начали убирать хлеб, бригаду, в которой был Николай, перебросили на пшеницу. Дня три он выходил в поле со всеми, а потом руки отказали. Уже неделю как он не мог сам есть, руки дрожали так, что ложку до рта доносил пустой – расплескивал. Сначала он делал вид, что все в порядке, что выливается капля, думал, что руки привыкнут к косе и дрожать перестанут, а потом, когда совсем ослабел, кормить его стала Катя.
Он не сразу понял, что все опять вернулось назад, к лету сорок третьего года, когда он вот так же лежал в этом доме, не знал, что с ним будет дальше, выживет или нет, а руки не слушались его и лежали рядом, как плети. Теперь они прыгали и скакали, но тоже не слушались, и Катя, как и тогда, придерживала рукой его голову и кормила с ложки. Он вспомнил, что еще в Тамбове, во втором своем госпитале знал, что с руками ничего не выйдет, никто их ему не вылечит, оттого и не стал Кате писать, отвечать на ее письма.
Он подумал, что был тогда прав, Катя действительно не про него, и что она тоже была права, когда не хотела из города ехать сюда, в деревню, что хоть он и инвалид, Катя его, кажется, любит – вчера, когда кормила, сказала, что боится, что беременна, и видно было, что рада.
И, конечно, ему не надо было на ней жениться, но не жениться тоже было нельзя, она ему и жизнь спасла, и нашла, и приехала, и любил он ее. Еще он заметил, что больше не стыдится своих рук, что ему нравится, что они живые и прыгают, как дети. Он не хотел, чтобы Катя это поняла, и, когда в избе не было ни ее, ни ее матери, приладил к лежанке, на которой спал, две тугие веревочные петли и стал, когда надо было унять руки, всовывать их туда.
Дня через четыре, когда он уже окреп, начал вставать, даже принялся за давно обещанную Кате новую изгородь вокруг сада, к ним пришел бригадир, в избу заходить не стал, сел на лавку около ворот и сказал, что работать некому, пшеница уже сыплется, так что пусть Николай не дурит, выходит в поле, – работают и без ноги, а не выйдет – не посмотрят, что инвалид, выгонят из колхоза и отнимут участок. Катя была в доме, слышала весь разговор и сказала, чтоб не ходил, что участок не его, Николая, а их, и они с матерью нарабатывают достаточно трудодней, чтобы не отняли. В тот же день вечером вызвали его к председателю, и тот тоже сказал, чтобы шел работать, если хочет, чтобы оставили участок.
В середине ноября, когда Катя была уже на пятом месяце, мать тяжело заболела, слегла, и Кате пришлось вместо нее ходить мыть школу. В больницу мать не брали, дежурить с ней надо было все время, у нее в голове была опухоль, так что она часто теряла сознание, кричала и билась, как его руки. Когда Катя уходила убирать школу, с матерью оставался Николай. Раньше они дружили; но, заболев, мать решила, что заразилась падучей от его рук, и, когда не было Кати, ругала его и гнала из дома. Болезнь быстро прогрессировала, к весне мать начала слабеть, в промежутках между приступами почти не двигалась, не разговаривала и, только когда Катя уходила, всегда плакала. Николая она больше не гнала, даже просила, чтобы простил ее. Умерла она в начале марта, после долгого припадка, ровно за две недели до того, как Катя родила. В память о ней девочку назвали Наташей.
В середине апреля Николаю удалось достать в соседнем колхозе лошадь, и они с Катей и двумя мужиками первые в деревне вскопали делянку и посеяли картошку. Кончали уже в сумерках, без Кати, она ушла кормить девочку и готовить на стол. В избу сразу не пошли, сидели на меже, говорили о войне, о покойной – сегодня как раз было сорок дней, потом, уже в доме, налили ей полную рюмку, хорошо помянули. Мужики рассказывали, как она плясала и пела, у одного из них была гармонь, он пошел за ней, и они втроем долго, почти всю ночь, пели фронтовые песни. Катя их не трогала, она сама немного выпила, была рада, что посадили картошку, что помянули мать, что девочка здоровая и что, кажется, их больше не бегают, как чумных.
Под утро гармонист стал играть для нее, она пела песни, которые когда-то слышала от матери, так же, как она, тянула и поднимала последние слоги. Голос звучал сильно и красиво, и она, и потому, что была пьяна, и потому, что песни были не ее, а матери, а сама Катя пела так давно, что успела забыть свой голос, думала все время, что поет не она, а мать.
После сороковин Катя и Николай прожили в деревне меньше месяца, а потом председатель, как и грозил осенью, отнял участок. Присланный с МТС трактор все перепахал, и они снялись, продали дом и уехали. Сначала жили в райцентре, но там Николай не смог найти никакой работы, и они тронулись дальше. Были в Курске, Орле, Туле, Пензе, Тамбове, снова в Курске, потом в Воронеже и оттуда через Ростов в середине октября добрались до Гудаут.
Поезд был сухумский, после Адлера он шел очень медленно, подолгу стоял на каждой станции. Неделю назад в горах прошли сильные ливни, дорогу в нескольких местах размыло и завалило камнями, и, хотя сейчас все вроде бы починили, поезда по-прежнему двигались осторожно. В Гудауты они прибыли рано утром, сильно опоздав, по расписанию должны были стоять здесь полчаса, но состав тронулся дальше только через час, когда дождался встречного. Все это время Катя и Николай гуляли по перрону, по привокзальной площади, грелись на уже теплом солнце, сидели на стоящей между пальмами скамейке.
Минут за десять до отхода поезда тут же, на вокзале, они прочитали объявление городского парка культуры и отдыха, которому требовались рабочие, и вдруг решили, что до Сухуми они доберутся как-нибудь и так, а здесь хорошо – парк, говорят, близко, прямо на берегу моря. По России они знали, что брать их без прописки не станут, а пока нет работы, никто их в Гудаутах не пропишет, но, чем черт не шутит, может быть, им так позарез нужны рабочие, что они на прописку внимания не обратят, возьмут их, а там как-нибудь все устроится.
В Гудаутах им и вправду повезло, директор был на месте, сам он только год как демобилизовался, воевал там же, где Николай, на 2-м Украинском фронте, чуть ли не тогда же был ранен, они разговорились, выпили, он пожалел Николая: молодой мужик – а инвалид, и Катю – что пошла за него, вызвал кадровика и сказал, чтобы оформил Николая на карусель кассиром-смотрителем, а Катю уборщицей.
В Гудаутах Николай прожил двенадцать лет, до самого дня своей смерти – первого мая 1960 года. Он умер мгновенно от паралича сердца. Так же умер Федор Николаевич, и, судя по всему, в семье эта болезнь была наследственной. Правда, хотя Николай умер совсем молодым, в тридцать четыре года, контузии и ранение давно сделали его стариком, у него тряслись и руки, и голова, ходил он тоже с трудом, его шатало, и, чтобы не упасть, он всегда или опирался на палку, или для равновесия расставлял руки. Еще за год-два до смерти было видно, что он долго не протянет. После смерти Николая Катя осталась жить здесь же, в Гудаутах. От Николая у нее было трое детей – старшая дочь Наташа, сын Прохор, еще одна дочь Ирина, которая родилась в 1957 году, за три года до того, как Николая не стало. Год она вдовела, а потом снова вышла замуж. Во втором браке у нее тоже были дети – мальчики Роберт и Вано.
В 1985 году я совершенно случайно разыскал Катю. К этому времени мне уже было известно, что Николай не погиб на войне; я знал госпитали, в которых он лежал, проследил его путь до Гудаут: он писал своей тетке в Ростов, и среди ее бумаг я нашел несколько поздравительных открыток Николая с гудаутским штемпелем, но без обратного адреса. Дважды я был в Гудаутах, но найти ни Николая, ни Кати не смог. Почему – теперь понятно. Его уже давно не было в живых, а у нее была другая фамилия.
В сентябре 1985 года я с женой отдыхал в доме отдыха в Гаграх. Сентябрь там лучший месяц, бархатный сезон, но на этот раз чуть не через день шли дожди. Мне надоело, сидя в четырех стенах, ждать погоды, в Гудаутском райкоме партии у меня было какое-то не слишком важное дело, и я на день уехал туда. Человека, который был мне нужен, на месте не оказалось, он был в горах, но то ли сегодня, то ли завтра должен был вернуться. Чтобы узнать, ждать его или нет, я пошел в канцелярию. Заведующей оказалась женщина лет пятидесяти пяти, редкой красоты, по виду явно не грузинка – русская или, скорее, казачка. Она сидела одна, и мы разговорились. Звали ее Екатерина Прохоровна, и уже через несколько слов я вдруг понял, что это и есть Катя. Я сказал, кто я и кого ищу. Из соседней комнаты она позвала какую-то Лену, сказала, что у нее дела, сегодня ее больше не будет, и мы ушли в город.
Она повела меня на кладбище, где похоронен Николай, оттуда в парк культуры и отдыха, где они тогда оба работали, показала карусель, потом мы сидели на скамейке на пляже. День был пасмурный, народу было мало, она рассказывала про Николая, про себя и плакала. Вечером я был у нее и ее мужа в гостях. Принимали меня по-королевски. Мы подружились, теперь регулярно переписываемся, а раза два в году и встречаемся или у нас в Москве, или у них в Гудаутах. По просьбе Кати я так и не сказал ее мужу, что я родственник Николая и его искал.
Тогда, в октябре сорок восьмого года, сразу, как только их оформили на работу, Катя оставила Николая с девочкой и пошла искать жилье. Она проходила целый день, но ничего не сняла. Хотя сезон кончился, все было безумно дорого, хозяева говорили, что в городе много пришлых и дешевле не будет. Выручил их склад. Еще когда они с директором договаривались о работе, он в окно показал Николаю сарай, сказал, что там склад и что пока, кроме карусели, он будет еще и кладовщиком. Потом дал ключ и разрешил оставить в сарае вещи. Склад был доверху завален старой мебелью, кусками резной металлической ограды, обломками и частями разных аттракционов, еще черт-те чем. В нем они сначала и поселились.
Дверь сарая открывалась вовнутрь, и единственное свободное место было то, где она ходила. Из досок Николай сколотил два топчана, на ночь они раскладывали их в этом закутке, днем снова ставили стоймя. Две недели он и Катя выносили все, что там было, на улицу, разбирали, сортировали, потом, приведя в порядок, несли обратно.
Среди прочего нашлось и много нужного: запчасти для аттракционов, не работавших еще с довоенных лет, лампочки и провода иллюминации, а главное, масса всякой наглядной агитации, за отсутствие которой в парке директор только что получил выговор. Транспарантам и лозунгам он был так рад, что разрешил Николаю выгородить в сарае маленькую комнатку – теперь это было возможно – прорубить окно и жить, сколько хотят.
В этой комнате их никто не трогал почти год. Они, как могли, утеплили ее, сделали стены из фанеры, в два слоя обшили дерево старыми плакатами, а поверху для красоты наклеили фотографии из журналов. Первое время они боялись, что, несмотря на разрешение директора, их вот-вот выселят, тем более, что несколько раз Николая вызывал кадровик, говорил, что склад – не место для жилья, им давно пора найти комнату в городе. Только к маю, когда начался сезон и в город один за другим стали приходить поезда с курортниками, всем стало не до них.
Лето и начало осени они прожили спокойно, жили бы так и дальше, но в октябре в Гудаутах подряд сгорели сразу три склада с мануфактурой, ходили слухи, что склады жгли сами кладовщики, чтобы скрыть недостачу, но сделано было чисто, и доказать ничего не удалось. Убытки были такие, что даже сняли начальника пожарной охраны города, и велено было в течение недели, самым суровым образом проревизовав на предмет пожарной безопасности все, что может гореть, навести порядок. Когда ревизия дошла до парка и обнаружила их комнату, Катю и Николая со скандалом выгнали на улицу и едва не уволили. Две недели они с девочкой ночевали на вокзале, а потом, когда карусель, на которой работал Николай, сломалась, Катя сходила к директору, и тот разрешил, пока ее не починят, ночевать прямо на круге.
В самый центр карусели, в подшипник, который ее крутил, был вставлен высокий, похожий на мачту шест, к нему крепился сделанный как шапито навес, он был двойной: верх из разноцветных, ярко раскрашенных полос брезента, низ из парусины. В хорошую погоду все это было обернуто вокруг шеста, а когда начинался дождь, навес распускали, заводили за края карусели и крепко натягивали. Получался настоящий шатер. Чтобы превратить его в жилье, оставалось устроить вход. Катя бритвой сделала небольшой, метра в полтора, разрез как раз между львом и жирафом, чтобы он не пошел дальше, со всех сторон обметала его, затем пришила, как в хорошей палатке, пуговицы и петли. На это ушла почти неделя, парусина была такая плотная, что ломала иголки.
Лучшим временем для них теперь стали осень, зима и начало весны. С конца октября до начала апреля из-за холода и частых дождей карусель останавливали, шапито не надо было сворачивать и убирать. Николай сразу, как только они там поселились, сделал переходник для карусельного электрощитка, на первые же деньги Катя купила четыре электроплитки, и внутри всегда было тепло. Свет они себе тоже провели, но включали его редко, больше любили сидеть в полумраке, вокруг одних плиток, как около камелька.
Зимой парк почти не работал, иногда его не открывали целыми неделями. Николай и Катя оставались одни, жили и делали что хотели. Когда случался хороший день, Катя с девочкой подолгу гуляли вдвоем в пустом парке, чаще всего прямо по берегу моря. У Николая был другой маршрут, каждый день он старательно обходил весь парк, даже если начинался дождь, не шел в шатер, пока не кончал круга. Кате он говорил, что ему, как лесному зверю, надо метить свою территорию и что, если бы он этого не делал, их бы отсюда давно выгнали. В плохие дни они старались вообще не выходить наружу, грелись около огня и Катя, если была в настроении, пела.
В этом шатре они прожили одиннадцать лет, держались за него как могли. Здесь у них родилось двое детей – сын Прохор, названный так в честь Катиного отца, и маленькая Ира. Отсюда их старшая дочь Наташа, а потом и Прохор пошли в школу. И умер Николай тоже совсем рядом, всего в ста метрах от шатра, и сюда же был принесен, и лежал здесь, на карусели, пока не повезли его хоронить. Катя говорила мне, что знает, что он так и хотел умереть тут, в парке, у себя дома.
Карусель начинала работать чаще всего в середине – конце апреля. В Гудаутах это почти лето, уже давно тепло, все цветет, погода установилась и дождей совсем мало. Вставать им теперь приходилось рано, еще до рассвета: надо было поднять и накормить детей, убрать с карусели топчаны и матрацы, на которых они спали, свернуть навес. Потом, когда становилось светло, Катя шла убирать парк и кончала только перед самым открытием. Больше работы у нее не было, и дальше она или занималась хозяйством, или подменяла Николая, сидела вместо него в кассе, продавала билеты, пускала и останавливала круг. Вечером, уже в темноте, когда парк закрывался, они снова вносили на карусель постели, снова натягивали навес и ложились спать.
Все знали, где они ночуют, знали, что это непорядок, но следов не было, и их не трогали. Постепенно они обрастали имуществом, вместо топчанов купили две хорошие железные кровати с панцирными сетками, маленький шкаф, когда Наташа пошла в школу – стол, чтобы ей было где готовить уроки. Так прошло несколько лет, наверное, шло бы и дальше, если бы не болезнь Николая. С каждым годом ему становилось все тяжелее носить вещи, да и их делалось больше. Как-то, когда в парке уже неделю не было никого из начальства – директор уехал на двухмесячные курсы в Москву, кадровик болел, – Катя сказала Николаю, что сегодня они ничего трогать не станут, оставят как есть, аккуратно застелила кровати новыми покрывалами и пошла убирать парк. Она знала, что им это не спустят – город полон курортников, в парке не протолкнешься, гуляют, смотрят выступления артистов, стоят в очередях на аттракционы, и на карусель тоже, а там – черт знает что, вместе со слонами, тиграми и жирафами крутятся кровати и шкаф.
Скандал и вправду вышел дикий. Директор должен был после курсов идти на повышение, его собирались сделать заведующим отделом культуры горкома, а тут отозвали обратно, дали строгий выговор и приказали в один день покончить с безобразием. Приехав в город, он, не заходя домой, сразу пошел в парк, остановил карусель и сказал, что ждет Николая у себя в кабинете. Катя пошла вместе с Николаем, но директор не пустил ее, вытолкал в коридор и закрыл дверь на ключ. Орал он страшно, целый час материл Николая, называл его подонком и мерзавцем, кричал, что он не мужик, а желе, и ему не с бабой надо жить, а в богадельне, потом вдруг замолчал, отпер дверь и позвал Катю. С Николаем было плохо. Он стоял, прислонившись к стене, совершенно белый, с полуприкрытыми глазами, и почти не дрожал. Вдвоем они дотащили его до кресла, посадили, и тут у него начался такой же припадок, какие были у ее матери. Катя побежала в медпункт за врачом, привела его, Николаю сделали укол, он успокоился и здесь же, в кресле, заснул.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































