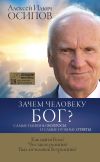Текст книги "Философская теология: вариации, моменты, экспромты"
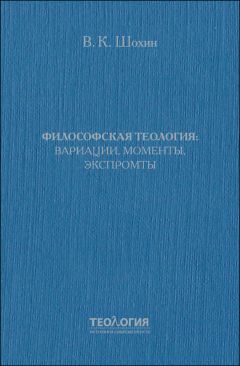
Автор книги: Владимир Шохин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Теологические дискуссии о парадигмах понимания Откровения следует признать и оправданными, и конструктивными. Разумеется, комбинирования (1) и (2), к которым склоняется большинство библейских теологов, значительно более правильны, нежели противопоставления их друг другу. Библейское Откровение есть откровение и пропозиций, и деяний, которые раскрываются в библейских текстах, и одно можно только искусственно изолировать от другого. Правда, само их сопоставление было бы невозможно без типологии Даллеса, которого замалчивают, но это уже вопрос не теоретизирования, а благодарности, точнее, ее отсутствия. Я думаю, что из всех изложенных авторов, несомненно, самым проницательным следует считать Пола Хелма с его разграничением библейских «фиксаций» и «регистраций», которое снимает множество проблем, выявляемых библейской критикой. Библия не теряет своей авторитетности вследствие того, что «фиксирует» не только приведенную ошибку царя Давида, но и значительно большую – другого псалмопевца, с точки зрения которого блажен тот, кто разбивает головы вавилонских младенцев о камни (Пс 136:9)[273]273
Принятое аллегорическое истолкования этого малоприятного стиха – в том смысле, что под вавилонскими младенцами следует понимать страсти, провоцируемые демонами, – вероятно, очень удивило бы того, кто сочинил этот псалом в совершенно конкретной исторической ситуации, не зная еще ни о какой духовной брани.
[Закрыть]. Не все в порядке и с тем, что Хелм называет «регистрациями»: один из библейских пророков «зарегистрировал», например, что Бог обещал непослушным израильтянам такие мстительно-фольклорные кары, что очевидно, что они не могут исходить от того Первоначала, «больше которого ничего нельзя помыслить»[274]274
«Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука Моя возьмет их; хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их; хотя бы скрылись от очей Моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их» (Ам 9:2–3).
[Закрыть], а потому благоразумнее отнести их (не идею, стоящую за ними) все-таки больше к средствам вполне человеческой (и далеко не самой высокой) риторики. Что касается указанного рода «фиксаций», то можно сказать, что Библия – текст правдивый par excellence, а что до такого рода «регистраций», то они объяснимы очень значительным присутствием в ней человеческого фактора[275]275
В том, что библейская историко-филологическая критика Библии с энтузиазмом этот фактор выявляла и выявляет – ее неоспоримая заслуга. Проблема только в том, что она, как правило, не замечает присутствия в ней другого фактора – Трансцендентного. Здесь, похоже, тот случай, о котором древние индийцы говорили, что не вина столба, что слепой его не видит. Разница в том, что тут требуются некоторые внутренние органы чувств (которые могут также не функционировать), а не внешние.
[Закрыть] и тем, что библейский Бог, уважающий свободу человека лишь немного меньше, чем Свою, скорее всего, не ставил перед Собой задачи быть цензором библейских авторов в частностях, если они устраивали Его в целом.
Однако ни сам Даллес, ни пользующиеся его схемой теологи не поставили другого вопроса: а можно ли считать все пять парадигм понимания Откровения действительно относящимися именно к общему понятию откровения, а не и к чему-то другому, близкому, но все же отличному? И здесь подходы теологии и философии религии не совпадают. Ведь одно дело оценивать, какие из парадигм понимания Откровения истинны, а какие нет с точки зрения христианской догматики, другое – какие из них соответствуют семантике этого понятия и самой, если угодно, религиозной жизни и общины, и индивида.
Взяв на себя полномочия говорить от лица философии религии, отмечу, что отнюдь не все пять «моделей Откровения», которые типологизирует Даллес, в одинаковой мере соответствуют этому понятию вследствие их разнородности. Открываемые в Писании и Предании «божественные пропозиции» (модель 1) и «божественные деяния» (модель 2) относятся к области духовной информации, которую субъект не может извлечь из собственных (естественных) ресурсов, а личные спиритуальные ощущения (модель 3), встреча с Трансцендентным (модель 4) и «расширение сознания» (модель 5) – скорее к области духовных переживаний религиозных индивидов, и больше относится к иной духовной реальности – к мистическому опыту (независимо от того, понравилась бы такая трактовка К. Барту или нет). Поэтому первые две «модели» относятся к откровению в собственном смысле (revelatio), которое дается через избранных свыше реципиентов всей религиозной общины[276]276
Этот момент важен, если вспомнить, что в соответствии с христианской антропологией образ Божий в человеке есть, помимо многого прочего, единство человеческой природы, воипостазированной множеством личностей – по образу триединого Бога (см. об этом со ссылками на свт. Григория Нисского: [Лосский, 2012: 65]). Отсюда и соборность реципиентов Откровения, которое можно трактовать как основной способ обращения Первообраза к своему образу. Правда, откровения могут быть и невербальными, например, в сообщениях в видениях отдельным лицам будущих действий, которые намерена осуществить «Божественная интервенция» для земной церкви непосредственно или через посредство Небесной Церкви (типа того события, которое отмечается в нашем календаре с недавнего времени 4 октября), но «информативный» и соборный их характер при этом не отменяется.
[Закрыть]. Откровение и открытия не суть одно и то же, хотя источник у них в религиях откровения предполагается один.
Но и в рамках тех парадигм понимания Откровения, которые соответствуют этому понятию, также отнюдь не все относится именно к откровению. Деление откровения на общее (естественное) и специальное (сверхъестественное), которое принималось и принимается, как мы в том убедились, большинством теологов-традиционалистов, не проходит потому, что «неспециального» откровения быть не может, ибо оно всегда есть «специальный Божественный акт», рассчитанный на конкретных людей в конкретном духовном состоянии. Если считать, что истинное постижение Бога через наблюдение природы также относится именно к откровению, то что нам препятствует отнести к откровению и конкретные открытия в научном естествознании, которые также могут интерпретироваться как то, что Бог открывает добросовестным ученым? Но тогда не следует ли отнести к откровениям и все истинные знания, приобретаемые человеком в этом мире, и не обеднеет ли (по закону логики) содержание этого понятия пропорционально бесконечному обогащению его объема, а базовое понятие теистических религий не станет ли абсурдным?[277]277
В эпоху схоластики явления Бога в мире через Его творения иногда правомерно обозначались через другой термин, чем revelatio. Речь идет о термине manifestatio, который, например, применялся у Бонавентуры (1218–1274), трактовавшего творение как божественную тень и след (umbra vel vestigium) (I Sent. D.3, р.1, а. uп., q.2). Правда, и в ту эпоху эти понятия нередко смешивались.
[Закрыть]
То, что Дэвис трактует как «вмещенное откровение», есть семантически избыточное понятие, поскольку Откровение с необходимостью предполагает Того, Кто нечто открывает, и тех, кто это принимает, и если последние «не вмещают» то, что призваны вместить, процесс не осуществляется. Он, конечно, прав в том, что религиозный индивид должен присваивать, относить к себе лично то, что открывается всей общине (церкви), ибо иначе он будет только потребителем «религиозных услуг», но речь идет не о получении им какого-то дополнительной духовной информации (сакральных знаний), а скорее уже о ее истолковании (в том числе и в применении к себе), адекватную способность к которому он приобретает через «вдохновение» свыше (inspiratio). Представляется, что акцент на различении Откровения и его реципиентов несколько отодвигает на второй план традиционный вопрос о соотношении Писания и Предания (который продолжает беспокоить теологов всех конфессий), поскольку речь должна идти в первую очередь о корреляции «вина» и «сосудов», а не о том, какой из «сосудов» можно считать «вложенным» в другой[278]278
Сказать, что Писание есть особая часть Предания – в полемике с протестантами, – в определенном смысле можно, хотя бы потому, что сам канон Писания селекционировался на церковных Соборах, но сказать это – не значит сказать о Писании много, и еще меньше это позволяет определить, какая, собственно, по «материи» это «часть». При этом и понятие Предания является, в свою очередь, весьма многослойным и тоже нуждается в стратификации. Ведь к этому понятию относятся и весьма разнородные корпусы текстов (от богословских до канонических), и правила (писанные и неписанные) всей церковной жизни, и личные духовные общения. Правильнее многих других о соотношении Писания и Предания писал, скорее всего, В. Н. Лосский, полагавший, что «Предание и Писание нельзя противопоставлять, ни даже сопоставлять как две отличные друг от друга реальности», так как лишь их нерасторжимое единство «дает полноту дарованному Церкви Откровению» [Лосский, 2000: 525].
[Закрыть].
Однако и помимо восприятия Писания имеют место партикулярные духовные открытия индивидов, в которых христианские субъекты религиозного опыта узнают «посещения» и «извещения» от Св. Духа – прежде всего получаемые ими указания на то, как им в точности исполнить волю Божью или как их внутреннее состояние оценивается свыше, но также и как понимать экзистенциально, в духе и истине (Ин 4:24) сами основоположения своего вероучения. Чаще всего такие «посещения свыше» постигают верующего во время соборной или личной молитвы. И эту модальность «религиозного отношения» я бы и обозначил в качестве духовных озарений, или «просвещений» (illuminatio).
Если попытаться обобщить сказанное, то, по крайней мере, с теистической точки зрения – а вне теизма реального Откровения быть не может[279]279
Причина в том, что источником Откровения может быть только та, выражаясь очень современным языком, Конечная Реальность, которая имеет признаки трансцендентно-личностного Абсолюта, осуществляющего «интервенции» в созданный им мир. Наиболее «откровенно» это подтвердил «с другого конца» Будда палийских текстов, призывавший перед смертью своих учеников опираться лишь на собственный разум, быть светильниками самим себе.
[Закрыть] – Откровение есть лишь одна, хотя и важнейшая модальность божественно-человеческой коммуникации (communio). Если говорить с позиций традиционной логики, то здесь мы имеем предельный род того, по отношению к чему обсуждаемое в этой статье является видом. А более подробные уточнения его границ с другими видами могут быть предметом специального исследования, в котором, конечно, большое внимание должно быть уделено историческим изысканиям о «ревеляторной терминологии» патристики и схоластики[280]280
Очень значительный и хорошо хронологически выстроенный материал из этой области представлен в фундаментальном исследовании [Seybold et al., 1971: 88–143].
[Закрыть].
Философская теология и библейская герменевтика: дискурс о постструктуралистском вызове[281]281
Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. 2014. № 6 (56). С. 41–51.
[Закрыть][282]282
В случае с этой статьей автор позволил себе ее небольшую правку при подготовке настоящего издания: два примечания были удалены и «компенсированы» двумя другими.
[Закрыть]
В одном из материалов, ранее опубликованных на страницах данного периодического издания, я предположил, что мы будем мыслить о философской теологии правильно, если допустим, что она может иметь две основные компетенции – апологетическую и герменевтическую[283]283
Шохин, 2014: 77.
[Закрыть]. Обе они должны соответствовать «инструментальной» функции теологии как таковой по отношению к Откровению, которое в ней принимается заранее (при беспредпосылочном дискурсе мы имеем дело уже не с теологией, по крайней мере в принятом смысле). Оба этих формата теологии не сводимы друг к другу, хотя не могут не пересекаться. В самом деле, Адаму была дана двуединая заповедь об Эдемском саде: возделывай и храни (Быт 2:15), из которой первая ее часть предполагала будущие герменевтические усилия (умственное «возделывание» богооткровений), а вторая – апологетические («хранение» возделываемого). Особенностью же теологии философской, поскольку она философская, должна быть еще одна компетенция – критическая, соответствующая ее определенному метатеологическому предназначению, которое может отличать ее от смежных теологических дискурсов, например, от естественной теологии[284]284
Там же: 62.
[Закрыть]. В применении к апологетике это выражается в экспертной установке по отношению не только к антитеологической, но и теологической аргументации, а в применении к герменевтике в том, что она призвана не только к экзегезе текстов, но и к экзегезе самой экзегезы.
Дальнейшие шаги, предпринимаемые в данной публикации, будут соответствовать, во-первых, констатации и осмыслению беспокойства современных христианских экзегетов в связи с новым явлением экзегетической вседозволенности в современной культуре и, во-вторых, установлению исторических прообразов данного явления не где-то вовне, а в самой глубине христианской богословской традиции. Хотя сами привлекаемые исторические материалы никак не будут относиться к малоизвестным, контекст их привлечения вряд ли покажется традиционным. Но востребованность их привлечения объясняется еще двумя другими обстоятельствами. Ответственность за библейскую экзегезу занимает совершенно маргинальное место в англо-американской философской теологии, которая как таковая функционирует именно в данной философско-богословской традиции, а если предполагается, что данный теологический дискурс может развиваться и в других ареалах (а это предположение, на мой взгляд, вполне рационально), то было бы естественно стремление восполнить то, чего нет в «исходнике». С другой стороны, библейская герменевтика в нашей стране если как-то и обнаруживается, то исключительно в патрологическом контексте, чему причиной отчасти сознательное нежелание делать какие-либо самостоятельные богословские усилия (притом не только герменевтические, но и любые), а отчасти опасение перед самой мыслью как-либо отклониться от consensus patrum (которого на деле и в библейской святоотеческой герменевтике никогда не было, а было серьезное противостояние герменевтических установок[285]285
Достаточно указать не только на расхождение александрийской и антиохийской традиций, которые были представлены (несмотря на то, что «чистых александрийцев» и «чистых антиохийцев» было не так много) и виднейшими отцами Церкви, но и на открытую полемику между ними, о чем свидетельствует хотя бы жесткая оценка «буквалистов» у такого последовательнейшего «аллегориста», как свт. Григорий Нисский, во вступлении к «Истинному истолкованию Песни песней» и едкая ирония по поводу фантазирующего аллегоризма у его же брата свт. Василия Великого в «Гомилиях на Шестоднев» (см. тексты с переводами [Fiedrowicz, 1998: 109–111, 114–116]). И это было вполне естественно, поскольку и отцы Церкви руководствовались (вопреки желанию носителей инфантильного религиозного сознания) помимо «соборного разума» и разумом индивидуальным, так как были людьми творческими.
[Закрыть]) и перед возможностью критического отношения к «канонизированным именам», что является на деле симптомом и того экклезиологического монофизитства, о котором в свое время писал В. Н. Лосский[286]286
Поэтому, когда о. Иоанн Брек, один из «практикующих» православных герменевтистов (Свято-Владимирская семинария в Крествуде), пишет о современном «библейском возрождении» в православии и прощании с временами «подчиненности Писания церковному учению» под влиянием рецепции достижений западных библеистов, это пока еще относится только к зарубежному православию: у нас обходятся преимущественно немногочисленными перепечатками дореволюционных изданий (см.: [Брек, 2006: 253–254]). Принципы современной православной экзегезы в контексте концепции θεωρία изложены в его монографии (см.: [Breck, 1986]).
[Закрыть]. В завершение преамбулы позволю себе то вполне ожидаемое терминологическое предварение, что под герменевтикой я буду понимать преимущественно теорию экзегезы, а под экзегезой – саму истолковательную практику, которую эта теория призвана обосновывать и норматизировать.
Консенсус католических и православных богословов – явление не частое, а полный консенсус – еще более редкое, и потому есть смысл обратить на один из таких прецедентов достаточное внимание.
В статье «Библейская герменевтика» (2003) католический экзегет Дж.-Т. Монтегю классифицирует современные типы толкования библейских текстов, приемлемые для Ватикана. Их оказывается столько, что они укладываются в хороший рубрикатор. В рубрике «Текст как он есть» Монтегю различает нарративный критицизм (исследование границ текста, сюжета, место действия и т. д.), риторический (интенция убеждения, значимая для большинства библейских текстов), структуралистский (семиотический анализ, рассмотрение формального соотношения текстовых элементов) и постструктуралистский – деконструктивный метод Жака Дерриды, исходящий из того, что текст содержит неограниченное множество сигнификаторов, не оставляющих ничего из собственного «мира текста», а это означает, что текст «не имеет никакого референта в реальном мире, а потому не означает ничего». Экзегетические стратегии, рубрицируемые как «Мир за пределами текста», распределяются у Монтегю на текстуальную критику (реставрация начальной формы текста), источниковедческую (исследование письменных источников текста), формальную (исследование преимущественно устных источников текста), историческую (исследование информации, содержащейся в тексте, средствами археологии, эпиграфики, папирологии, исторической науки), социокультурную, «публикаторскую»[287]287
Redaction Criticism – у Монтегю изучение работы автора текста с его материалами.
[Закрыть]. Остальные экзегетические стратегии распределяются на «канонический критицизм» (изучение места, занимаемого текстом в соответствующем текстовом корпусе), и «Мир перед текстом», куда инкорпорируются изучение истории влияния текста на его «окружающую среду», ответных реакций на текст со стороны читательской аудитории (с ее ожиданиями, интерпретациями и т. д.) и специально реакций групповых[288]288
Advocacy Criticism – интерпретации текста в определенных классовых интересах, теологии освобождения, феминистском движении и т. д. Методам библейской герменевтики посвящена специальная монография автора, предлагающая последовательный исторический обзор интерпретаций Библии от древности до конституции II Ватиканского Собора «Dei Verbum» [Montague, 1997].
[Закрыть]. Вывод, к которому приходит Монтегю, состоит в том, что для католической герменевтики все перечисленные современные стратегии экзегезы текстов (притом не только библейских) являются в разной мере приемлемыми – за исключением постструктуралистской, которая несовместима с любой интерпретацией, исходящей из того, что тексты содержат жизнесмысловое послание, и «является саморазрушительной, констатируя на деле, что ей нечего сказать»[289]289
Montague, 2003: 794, 796.
[Закрыть]. Усиленное утверждение несовместимости христианской и постструктуралистской экзегезы свидетельствует о том, что вторая вызывает у автора серьезную обеспокоенность.
Профессор университета в Фессалониках И. Каравидопулос во «Введении в Новый Завет» (второе издание – 2007 г.) в заключение своего труда также кратко обобщает современные методы интерпретации библейских текстов, выделяя среди них риторический и повествовательный анализ, а также метод исследования коммуникации текста и читателя. В завершение этого обзора он обращается также к постструктурализму, который, как он отмечает, будучи близок к изучению коммуникативного аспекта текста, идет гораздо дальше, отрицая не только любые устоявшиеся толкования текста, но и его идентичность как таковую, поскольку здесь делается попытка «развенчания мифа о тексте как о носителе конкретной информации». Возможности деконструкции смысла любого библейского текста православный библиолог демонстрирует на примере постмодернистского истолкования встречи Иисуса Христа с самарянкой (Ин 4:5–42). Постструктуралист может, согласно Каравидопулосу, усмотреть в этом мессионерском и мессианском нарративе что-то вроде иронии: хотя «внешне» Христос жаждет воду, на деле женщина жаждет истину; а если допустить, что Он все-таки жаждет воду, то на деле тут речь должна идти о жажде исполнения воли Отца и о «Жажду» на кресте (Ин 19:28); упоминание о пяти мужьях женщины «на самом деле» может указывать на религиозную неверность самарян и т. д. Каравидопулос одобряет мнение тех, кто сравнивает деконструкцию с методами аллегорического толкования, популярными «на заре истории библейских толкований» и называет ее просто – неоаллегоризмом[290]290
Каравидопулос, 2010: 348–349.
[Закрыть]. А это значит, что постструктуралистская герменевтика вызывает внимание, уже достаточное, для того чтобы осмыслять это явление через определенные исторические ассоциации и даже вписать в некоторый исторический контекст.
Начав эту публикацию с констатации герменевтических обязанностей философской теологии в виде экзегезы, попытаемся от ее лица начать их выполнение с истолкования тех реалий, которые стоят за описанной герменевтической тревогой.
«Экзегеза» современной герменевтической озабоченностиИ католический, и православный богословы нашли нужные слова для описания одной и той же герменевтической болезни и ее основного «пускового механизма» – в виде «демифологизации» текста как носителя «конкретной информации». Но они, мне кажется, не совсем точно определяют ее место на карте современных герменевтических трендов.
И Монтегю, и Каравидопулос дают своим читателям понять, что христианское истолкование библейских текстов совместимо с тем, что называется «Reader-Response Criticism», и не совместимо с постструктуралистской герменевтикой. Но соотношение одного с другим нуждается в уточнении, которым они читателя не обеспечивают. О том, что литературные тексты представляют интерес не только в своем собственном содержании, но и в их рецепции у их аудитории – рецепции, которая может и не во всем совпадать с первоисточником, – начали догадываться и до постструктурализма. Сама по себе постановка вопроса об этом является не только, да и не столько литературоведческой, сколько философской, притом более чем оправданной. В самом деле, материал литературных памятников с онтологической точки зрения представляет собой ментальную реальность, которая отлична от эмпирической, но никак не является фиктивной – потому что как раз является активной, действенной, о чем свидетельствуют хотя бы различные формы сопереживания читателей, слушателей, зрителей художественным персонажам, сознательное или бессознательное желание подражать одним из них или аналогическое отвращение к другим, да и просто трансформация художественных образов в различных ремейках, новых прочтениях и инсценировках классических произведений, когда они начинают жить «новой жизнью». Это значит, что рецепция вполне может и даже должна быть включена в «мир произведений», а потому ограничивать исследование произведения только изучением творческой биографии автора, наличного содержания и формы (на последнем аспекте усиленно настаивали структуралисты) отнюдь не обязательно. Об этом писали еще Луиза Розенблат в «Литературе как исследовании» (1939), критиковавшая литературоведов-формалистов, и замечательный писатель-теолог К. С. Льюис. Серьезное развитие этого литературоведческого подхода, который по существу своему есть подход герменевтический, начинается с 1970–1980-х годах и связывается с именами С. Фиша (идея «интерпретирующих общин»), В. Изера («теория читательского ответа» на текстовые «пустоты и лакуны»), Г. Яусса (концепция «горизонта ожиданий»), Н. Холланда (текст как способ выработки читателем своих паттернов) и др. К настоящему времени этот уже хорошо раскрученный тренд поляризуется по ряду показателей, важнейшим из которых является соотношение «объективизма» и «субъективизма». Если одна часть последователей «теории читательского ответа» полагает, что читатель является в определенном смысле соавтором произведения, но реализует себя все-таки под «контролем текста», то другая идет дальше, настаивая на том, что читатель не может быть соавтором, поскольку самого автора-то уже нет[291]291
Творческий период становления обсуждаемой литературоведческо-герменевтической теории представлен в сборнике статей, изданном Дж. Томпкинс [Tompkins, 1980].
[Закрыть].
Та деструктивная герменевтика, что вызвала тревогу обоих христианских экзегетов – в связи с возможностями ее применения к Библии, – была наиболее четко анонсирована в концепции смерти автора (la mort de l’auteur), которой было посвящено одноименное эссе постмодернистского литературоведа и философа Ролана Барта, вышедшее в 1967 г. по-английски, а через год переведенное на французский. Критика центрированности современных ему литературоведов на личности автора, его «намерениях» (что он хотел сказать) и на всей предыстории текста осуществляется Бартом через критику возникшей, как он считал, лишь в Новое время (при значительном вкладе в это протестантизма) идеи личностной идентичности индивида. Согласно Барту (который подкрепляет свою позицию литературными мыслями и опытами С. Малларме, М. Пруста и отчасти сюрреалистов), никакой предыстории текста до его создания не существует, так как через текст говорит не автор, а сам язык. Текст же представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников, а та точка, в которой связываются все смысловые линии, есть опять-таки не автор, а читатель, который также совершенно безличен. В итоге речь должна идти не об «авторе», а о «скрипторе», который несет в себе не индивидуальные мысли, страсти, настроения, а лишь «такой словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки». Правильно понимая, что «автор», в отличие от «скриптора», несет в себе отблеск и Божественного Автора (см. выше), Барт в определенном смысле правомерно называет свой метод и контртеологической революцией[292]292
Барт, 1994: 384–391.
[Закрыть]. Поэтому хотя и правы те, кто включает концепцию Барта в систему опций «критицизма с позиций читательского ответа», не следует забывать, что она является не столько литературоведческой, сколько выраженно философско-идеологической.
Идея Барта была охотно воспринята постструктуралистской Йельской литературоведческой школой и еще более охотно Ж. Дерридой. И это было вполне закономерно. «Смерть автора» просто идеально вписывалась в общий «метод деконструкции», который основывался на разрушении всех принятых в мире иерархизаций – таких как приоритетность слова по отношению к письму, бытия по отношению к существованию, разумного по отношению к чувственному, мужского по отношению к женскому, философии по отношению к беллетристике, универсального по отношению к частному. Но «смерть автора» прекрасно вписывалась и в идеологию, заложенную в деконструкцию. Контртеологичность «смерти автора», прямо эксплицированная Бартом и представляющая собой естественное продолжение концепции «смерти Бога», которую провозгласил Ф. Ницше (отсюда и прямой протест Барта против «Автора-Бога»), соответствует осуществлению этой «второй смерти» в деструкции иерархических отношений в мире, хотя сам Деррида не позиционировал себя в качестве атеиста[293]293
Более того, он рекламировал свой «метод» и в религиозных терминах, например, в терминах мессианизма.
[Закрыть]. И, конечно, «смерть автора» была лишь литературоведческим выражением постструктуралистского антиперсонализма: убежденность в личностной идентичности обычного автора настолько же неприемлема в мире деконструкции, как и вера в Автора мироздания[294]294
Отсюда и неприемлемость того, что текст имеет предысторию в авторском замысле, намерениях, идеях и т. д., так как эта предыстория предполагает континуальность личности создателя текста.
[Закрыть], и это опять-таки закономерно, так как персонализм связан с теизмом самыми тесными узами.
Все сказанное позволяет уточнить то, о чем пишут Монтегю и Каравидопулос. Они не точны, дистанцируя «деконструкцию», под которой на самом деле они понимают «герменевтику смерти автора», составляющую на деле только часть этой программы, от теорий читательского ответа (она в них естественно вписывается как вид, пусть и «радикальный», в род), но совершенно правильно отделяют ее от неидеологической установки на учет текста в диалоге с его реципиентами: вторая учитывает коммуникативное измерение текста, но не «опустошает» его по принципу «нет фактов, но только интерпретации». Можно было бы только уточнить, в чем заключается саморазрушаемость постмодернистской герменевтики. Я думаю, в том, что если текст лишен собственного назначения и идентичности, то прекращает существование и сам объект истолкования, а тем самым за «фактом» падает и «интерпретация», поскольку последняя может быть только истолкованием чего-то, а этого чего-то уже и нет.
Следует отметить, что тревога христианских экзегетов отнюдь не преувеличена. Уже в последней четверти ХХ века принцип «читатель – вместо – автора» начал активно применяться к библейским текстам, более чем к другим – к Четвертому Евангелию[295]295
Тревога, однако, была оправданна, поскольку тренд «теории читательского ответа» нашел свободный выход и в библеистику (см.: [McKnight, 1988]).
[Закрыть]. И несомненно прав Каравидопулос, когда дает понять, что «метод деконструкции» в своих истоках восходит к заре библеистики, намекая на александрийскую аллегорическую экзегезу. Нам, в частности, еще предстоит убедиться в том, что постмодернистская «цитатная интерпретация» евангельского повествования о самарянке, которую он приводит, как две капли воды похожа на ту, что предлагал в свое время Ориген, сам, в свою очередь, многому научившийся от критикуемых им гностиков, «на заре истории библейских толкований». Уточним только с самого начала, что «зарей» дело никак не ограничивается, потому что христианский Запад и Восток увлеченно «совершенствовались» в александрийском методе до начала Нового времени, не оставив его до конца и после.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?