Текст книги "Чучело-2, или Игра мотыльков"
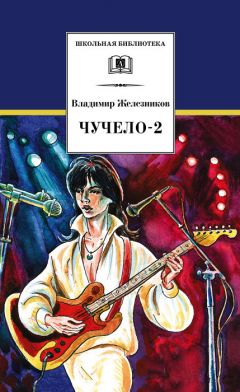
Автор книги: Владимир Железников
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мы пошли тебя искать, и вот тут-то выяснилось, что тебя не выпускают на прогулки, что ты, можно сказать, тюремная заключенная. Я хотела уйти, а он говорит: „Останься, погуляй со мной“. А сам такой грустный! Мне было его жалко. И я осталась. Мы с Кешкой долго гуляли, не заметили. Он всю жизнь свою в красках рассказал. Интересно. Оказалось, его сюда родители упекли. Он крестился – они его и упекли.
Живешь и удивляешься, каких только родителей не бывает! (Тут Зойка подумала про отца Глазастой, что он отправил сына Колю в специнтернат, что он тоже хорош гусёк, и хотела выбросить фразу про родителей, чтобы не травить Глазастую, но потом передумала – у нее был свой счет к нему – и продолжила письмо.) Кеша – студент политехнического. Учился на химическом, а на четвертом курсе забастовал. „Не буду, – говорит, – больше учиться, не верю в науку“. А у них в семье сразу три профессора-химика: дед, отец и мать. Жил паинькой, всегда отличником, победитель городских олимпиад, все им гордились: наследник, талант, надежда семьи. Он никогда ничего не делал самостоятельно, всегда с ними советовался, особенно с мамой. И вдруг как гром среди ясного неба – не буду учиться, и баста! „А что им объяснять, – говорит, – они все равно скажут, что я не прав, а они правы“. Хотя, честно тебе скажу, он меня удивил, все только и пишут: наука, наука, и по телику передают, а он в нее не верит. Но что делать – не убивать же его за это.
„Понимаешь, – говорит, – наука сделала много хорошего, но еще больше плохого. Наш город, например, химия, можно сказать, погубила: все отравлено – и вода, и земля, и воздух. И люди отравленные вроде меня, у них поражен аппарат сопротивления“.
Он замолчал. Смотрю: у него глаза полны слез. Конечно, я тут же отвернулась, чтобы он не подумал, что я увидела.
А сама так весело замечаю: „Ну как же у тебя нет аппарата сопротивления, когда ты бросил институт всем наперекор?“
„Если бы был, – отвечает, – они бы меня сюда не засадили… А из института я не уходил, не успел – меня выгнали за то, что крестился. И из комсомола исключили… Это был самый веселый момент, все были в отпаде. А потом началась паника, родители испугались и уговаривали меня сесть в психушку, чтобы доказать, что я ненормальный. Мама плакала, а отец сначала кричал, а потом передо мной на колени встал. И я согласился. Ничего во мне нет: ни веры настоящей, ни убежденности. Живу, как трава“.
„Ну вот ты бросил науку и ничего не будешь делать? – рассмеялась. – Станешь бродягой?“
„Почему же… Буду делать что-нибудь полезное“.
„А что – полезное?“ – пристаю. Я с ним запросто, мне с ним было легко.
„А ты что делаешь?“
„На повара учусь“, – ответила, а сама испугалась, что он начнет надо мной смеяться.
А он обрадовался, весь засиял.
„Вот здорово! – говорит. – Я тоже буду поваром“.
И мы оба стали хохотать. Отчего – не пойму, но было смешно.
После этого я ему поверила и тоже про нас все выложила. Ты не думай, я не просто так, решила потрепаться, мне показалось, что я его знаю сто лет. Все-все выложила.
За исключением, конечно, некоторых подробностей. Про тебя, как ты команду организовала, и про Ромашку и Каланчу, и песни Самурая спела потихоньку, чтобы не привлекать чужого внимания. Я ему всех нас в красках описала. Мне было приятно про вас рассказывать. Вдруг даже показалось, что ничего плохого с нами не было, что это был дурной сон. И с Самураем ничего не случилось, и с тобой, и Каланча нас не закладывала, и Ромашка не откалывалась. Меня пронзило насквозь, как иглой, – ведь могло не случиться того, что случилось!.. Жили мы и беды не знали, да сами себя под нее подвели. Так я подумала и надолго замолчала.
Он, конечно, заметил, что я сникла, в душу не полез, а стал меня нахваливать.
„Ну ты артистка, – говорит, – лицедейка!“ (Между прочим, что такое „лицедейка“, я не знаю, но молчу: не хотелось выставлять своей дурости.)
„А скоро, – говорю, – вернется Самурай, выйдет из больницы Глазастая, и мы заживем как прежде“.
А пока я ему это выкладывала, он все время наклонялся и что-то подымал. Я его спросила: что он собирает?… Он открыл ладошку, на ней лежало пять камушков.
„Ваша компания, – сказал он. – Камушек побольше – Самурай, вот этот – длинный и худой – Глазастая, вот этот – веселый, разноцветный – Ромашка, толстый и грубый – Каланча, а вот этот – шелковистый – ты. – Размахнулся и бросил. И камни разлетелись в разные стороны. – Видишь, в одну точку одновременно горсть камней не бросишь. Так и ваша компания разлетелась кто куда, и ее уже никогда не собрать вместе“. – И посмотрел на меня грустными глазами.
Чудик, я тебе говорю. Этими словами он меня не развеселил, но я теперь и сама поняла, что прошлого не воротишь. Но с камушками он ловко придумал, ничего не скажешь, прямо не в бровь, а в глаз, да как следует, с отмашкой.
А потом знаешь что произошло?… Он бросил меня и, не попрощавшись, ушел. Вот как это случилось… Идем бредем по вашему парку, часов не замечаем, а уже, можно сказать, вечереет… И вдруг Кешку как подменили, только что он весь сиял, а теперь я взглянула на него, не узнала. Ну совсем другой, незнакомый, я даже испугалась. А в это время до меня дошло, что кто-то его окликнул: „Кешка-а-а!“ Такой звонкий женский голос. Оглянулась, вижу: к нам идет высокая красивая женщина, улыбается, радостно машет.
Нет, не идет, про нее так сказать нельзя, она летела над землей, одна нога в воздухе, а другой она еле касалась земли и тут же отрывала ее. Скажешь, я придумала, но это чистая правда. Не успела я опомниться и что-нибудь сообразить, как она остановилась рядом, обняла Кешку, а тот сказал: „Здравствуй, мама!“ Она окинула меня внимательным взглядом, поздоровалась со мной, потом говорит: „Кешка, милый, я по тебе так соскучилась! – Повернулась ко мне: – Извините…“ Мол, нам не до вас. И они ушли. А он мне даже ни полслова после нашей длинной беседы. Я потом увидела их, когда шла к дыре в заборе, они сидели на скамейке, перебивая друг друга, смеялись и весело трепались. Только что ругал ее, а теперь все было наоборот. Что ты на это скажешь?
И все-таки он чудик, говорю тебе. Если он к тебе прорвется, ты с ним поговори, не отворачивайся и не прогоняй. Уйми свою гордыню, подруга, мой тебе совет. Чувствую, он хороший, только его окружает тайна.
Да, так насчет главного врача. Меня, конечно, к ней не пускали, но я проскочила на дурочка, шмыгнула в открытую дверь, и все. Секретарша, злющая старуха, ворвалась следом и кричит: „Эмма Ивановна, это хулиганка! Она без разрешения“.
А я как закричу на нее: „А не пропускать меня целую неделю – это что?“
И смотрю в прозрачные очи главной. Ну, я тебе скажу, она тоже тип. Ты, конечно, с нею встречалась? Помесь крокодила и лисы. Она когда узнала, что я к тебе, сразу усадила меня в кресло, чаю с печеньем предложила. Представляешь?!
„А вы кто ей?“
„Подруга, – отвечаю, – одноклассница, вместе проучились восемь лет“.
„Дружили?“
„Не разлей вода“, – отвечаю.
„А теперь?“ – спрашивает.
„Теперь я в училище“.
„Значит, вы когда-то дружили, и ты поэтому решила ее навестить?“
„Почему, – отвечаю. – Мы и сейчас не разлей вода“.
И вот тут она стала меня про твои привычки расспрашивать, про то да про се, ласково заулыбалась, слова как из соловьиного горлышка вылетали.
„Ох, – думаю, – охмуряют, хотят сделать стукачом, хотят, чтобы я раскололась и что-нибудь рассказала про тебя им необходимое“. Я же тебе говорю, она сколопендра, но сама виду не подаю, что догадалась, тоже вежливо улыбаюсь и прошу:
„Пропустите меня к ней, пожалуйста. Я ее повеселю“. – Это тебя, значит.
„Нет, не имеем права: ее отец возражает. Говорит, вы на его дочь дурно влияете“.
„Лично я? – спрашиваю. – С чего это вы взяли?“
„Лично про тебя он ничего не говорил, – ответила она, – но, с другой стороны, ваши дороги разошлись. Ты – в ПТУ, она осталась в школе. Что между вами общего?“
„А это уже не ваше дело!“ – разозлилась я.
И тут я совсем сорвалась, не выдержала. Заорала: „Что я, прокаженная, что ли, раз учусь в ПТУ?! Думаете, раз там, то бандитка или проститутка, да?! А у меня все органы нормальные, и я не заразная, учусь на повара, и нас все время проверяют!“
В общем, как понимаешь, мы ни до чего не договорились, друг друга не поняли и разошлись. Между прочим, странно: твой отец ни разу не разговаривал со мной, а сделал такие неприятные выводы.
Ну, ладно, поживем – увидим. А пока, дорогая подруга, поправляйся и укрепляй свое здоровье. Как видишь, без крепкого здоровья у нас не проживешь. Твоя Зойка».
… Письмо оказалось длинным и напомнило Зойке о многом, о чем бы она не хотела знать. Зойка спрятала письмо в конверт, старательно заклеила, чтобы там не вздумали прочесть. Она слышала, что врачи в психушках читают письма больных.
… Последние две недели Зойка сама не своя – Костя вернулся. Они его вместе с Лизой встретили на вокзале, привели домой к праздничному столу. Зойка заметила, что это было совсем некстати – Костя поковырял безразлично вилкой в салате, сказал, что ему охота спать, и завалился на тахту, повернувшись к ним спиной. Спина у него была худая, и Зойка поймала себя на том, что вслух считает его позвонки, которые выпирали сквозь рубашку. Лизок моргнула ей, и Зойка слиняла. Пришла домой и стала ждать: а вдруг он отоспится и позвонит.
Так прошли две недели. Зойка ни о чем не могла думать, только о Косте. Целыми днями дежурила у телефона или стояла у двери, стараясь подкараулить, когда он уходил или возвращался, часто пропускала занятия в училище. Иногда она проникала к ним в квартиру: ей необходимо было увидеть Костю. Но ничего хорошего из этого не получилось.
… Зазвонил телефон. Он разорвал позднюю вечернюю тишину. Зойка как бешеная бросилась, чтобы опередить Степаныча: а вдруг ей звонил Костя? Отца она чуть не сбила с ног, протаранила его, откинув в узком коридоре к стене, он едва устоял на ногах.
– Алло! – звонко сказала Зойка с надеждой в голосе.
Ей ответил совсем не Костя, а какой-то нереальный, тихий, далекий голос. Но она все равно почему-то выкрикнула:
– Костик, я тебя слушаю!
– Привет, Зойка, – ответил голос. – Ты что, совсем ку-ку?
Зойка узнала: Глазастая! Ну конечно, она, но не поверила, что это возможно. Ведь только вчера она отвозила ей в больницу передачу, и там все было глухо. Глазастая сидела за решеткой и под ключом. Кешка, по ее просьбе, сбегал к Глазастой, попросил, чтобы та написала записку, но к Глазастой ему прорваться не удалось, и записку та не написала.
Зойка неуверенно спросила:
– Глазастая?
– Ну я…
Зойка обрадовалась, засияла:
– Тебя выпустили?
– Нет, – ответила Глазастая все тем же тихим голосом. – Здесь автомат на лестнице.
– Автомат? – удивилась Зойка. – А что же ты раньше не звонила?
Глазастая помолчала, потом нехотя призналась:
– Двушек не было.
– Ну ты даешь! Я бы тебе их сколько хочешь накидала. У меня их навалом.
Глазастая не ответила. Зойка испугалась, что та бросила трубку, и закричала:
– Эй, Глазастая, ты где?… Что молчишь?
– Тут я, тут… Про двушки сочинила. Не хотелось звонить. Язык не ворочался.
Зойка примолкла, не знала, что сказать.
– Ты мне нужна для одного дела, – начала Глазастая. – У меня идея. Ты должна мне помочь.
– Сейчас или когда выйдешь? – спросила Зойка. – Я готова.
– Сейчас, – ответила Глазастая и добавила шепотом, по слогам: – Я должна отсюда сорваться. Мне Колю надо спасать…
– Усекла, – испуганно произнесла Зойка, лихорадочно соображая, что все это значит.
В коридор выглянул Степаныч:
– Зойка, не грызи ногти. Кому говорят! Уши оборву!
– Отстань, – отмахнулась Зойка.
У нее в голове роилась сотня вопросов: почему Глазастая не может просто выписаться, неужели еще не поправилась, неужели снова может перерезать себе вены, и что на все это скажет ее отец, и куда она собиралась срываться? Но ничего этого она не спросила – не хотела огорчать Глазастую вопросами. «Когда захочет, сама все расскажет», – подумала Зойка.
– Хорошо бы еще Самурая подключить, – попросила Глазастая.
– На него не рассчитывай. Он знаешь какой стал. Зверь. Меня в качку от него бросает. Тут такие дела разворачиваются, хоть стой, хоть падай. Тебя от телефона не гонят?
– Нет. Все наглотались пилюль и дрыхнут. А я на лестнице погасила свет. Дымлю. Спасибо тебе за курево.
– А тебе не вредно?
– Господи! – вздохнула Глазастая. – Жить вреднее, чем курить.
Зойка представила, как Глазастая сидит в полной темноте, ночью, а ведь там, в больнице, разные люди, и ей стало страшно. Вдруг какой-нибудь там тип не в себе нападет на нее.
– Глазастая, а тебе не страшно? – осторожно спросила она.
– Нет. Правда, здесь мыши бегают! – хихикнула Глазастая. – Но они меня не схватят. Я сижу на подоконнике.
– Если хочешь, я тебе кое-что расскажу, – неуверенно предложила Зойка, зажгла на всякий случай в коридоре свет и заглянула в комнату, чтобы увидеть Степаныча.
– Давай, – ответила Глазастая, – а то у меня бессонница.
Зойка подумала: «Ну дает Глазастая, бессонница!» Она даже не знала, что это такое, вечером падала на подушку и засыпала до будильника.
– Ну, слушай, Глазастая. Только тебе.
Зойку сразу залихорадило. Ведь до сих пор она ни с кем не разговаривала про Костю. А тут Глазастая подвернулась на счастье, она была рада ей все рассказать. Глазастая – человек, она не предаст и смеяться над ней не посмеет.
– Вчера вхожу к нему. Лежит на тахте. Дымит. Под банкой. Глаза бешеные, и в комнате пахнет спиртным. Ты удивишься, когда узнаешь, кто его спаивает.
– Не представляю.
– Куприянов. Вот кто. Они теперь друзья. Куприянов его понимает лучше всех, потому что знает, что такое зона.
– Вот подонок! – злится Глазастая. – Посадил и еще издевается. В душу залезает. Мразь милицейская! Лошадиная морда! Ненавижу!
Зойка продолжает:
– Я ему вежливо говорю: «Костик, здравствуй». Улыбаюсь. Не знаю, почему так его называю – «Костик», как и Лиза. Он этого не любит, выходит, я его дразню. Ну вырывается. А он не отвечает, косит на меня глаза, злые-презлые, прямо не человеческие, а волчьи. И вдруг объявляет: «А хочешь, я тебе сейчас врежу так, что в стену вклеишься?» Нутром чувствую: не шутит, прячусь за улыбочку, спрашиваю: «За что?» А он ухмыляется, отвечает: «А ни за что. Просто так, врежу, и все». Лениво так встает и наступает на меня. «Надо бежать!» – думаю, а сама стою, дура.
А он подходит вплотную и как двинет мне в челюсть… Знаешь, Глазастая, какое у него было лицо – убийцы! Вот что с ним колония сделала. У него на спине шрам от ножа и два зуба впереди выбиты. Он поэтому шепелявит. – Зойка жалобно всхлипнула.
Тут она впервые услышала резкий голос прежней Глазастой:
– Не распускай сопли! За битого двух небитых дают!
Зойка обрадовалась словам Глазастой, засмеялась, ей легче стало, и она продолжала свой рассказ:
– Пролетела я всю комнату, стукнулась головой о стену, так что искры из глаз вылетели, вскакиваю и убегаю. Дома – в рев. Сама понимаешь, обидно. Ты меня слушаешь, Глазастая?
– Слушаю, – еле слышно шепчет Глазастая.
– Мне бы к нему больше не ходить, ну забыть про него. А я каждый день тащусь, чтобы его хотя бы на полминуты увидеть. Дура я, дура! А у меня, между прочим, синяк во весь подбородок. Степаныч спрашивает: это у меня отчего? Отвечаю: «Упала». – «Странно ты, – отвечает, – падаешь». Представляешь, если бы он узнал, кто меня стукнул? Об этом подумать страшно. Степаныч спокойный, спокойный, а когда входит в ярость, его не остановить. Честно тебе скажу: когда он меня ударил, я к этому не была готова. Не знала, как реагировать. Потом подумала: «Не пойду больше к нему никогда!..» А потом – пошла. Гордости во мне никакой!.. Подумала вдруг: «Если он так сделал, значит, с ним плохо и его нельзя бросать…» Как ты думаешь, я права? – Зойка спросила и испугалась. Вдруг Глазастая скажет, что она не права. Что тогда делать?… Она ведь все равно не сможет бросить его.
Но Глазастая произносит совсем неожиданное:
– Не бросай его, Жабочка, не бросай.
Зойку ударило своей нежностью слово «Жабочка». Ее так только Глазастая звала.
– Ну а дальше – больше, – продолжает Зойка. – Лизок приходит домой после работы в шесть. А Костя, я заметила по часам, уходит около шести. Каждому понятно, что он сваливает, чтобы с ней не встречаться. А она этого не понимает – и все! Ее заклинило. Спешит, летит. Врывается, а его и след простыл. Только дымом от сигарет воняет. А тут она купила ему новые кроссовки. Чешские, с липучками. Она когда увидела кроссовки, то заняла очередь и побежала одалживать монету. А ни у кого лишних нет. У них на заводе, когда приезжает торговля, все сатанеют, ни у кого копейки не выпросишь. Люди! А ей знаешь как охота угодить Косте. Бежит к одному типу, он ее всегда клеит, не хочется, но что поделаешь. Прибегает, подкатывается, улыбается, закатывает глазки, она умеет, контактная, а он ее сразу начинает лапать, за грудь хватает, подлец, в шею целует, а ей приходится хихикать, терпеть, чтобы не обидеть его. Ну, в общем, деньги у него она вырывает. Бежит обратно в очередь, а ее не пускают: где, мол, пропадает, знаем мы таких ловких! Ее выпихивают, а она ввинчивается обратно. Чуть дело не доходит до драки, представляешь, сколько унижений, и все из-за Кости. Ну народ, ну народ, звереет! В общем, Лизок вырывает кроссовки. От счастья, говорит, прижимает их к груди, как ребенка, а потом целует, как маленького Костика.
Несется домой, сбивает встречных, думает: вдруг Костик дома, а она ему кроссовки в нос, и он закачается от счастья и упадет ей в объятия. Загадывает на это – она все время загадывает на удачу, ждет чудо-юдо. Ну, например, Костик ее встречает на пороге дома веселый, как раньше. Или похлеще: она застает Костю с Глебовым, те сидят в обнимку и мирно беседуют. Представляешь?!
– Типичный «совок», – презрительно цедит Глазастая.
– Значит, она влетает в лифт, – продолжает Зойка, – закрывает глаза и считает до двадцати одного – это ее волшебное число. Выходит из лифта, как лунатик, с закрытыми глазами, на ощупь открывает двери и кричит: «Костик, твоя мамочка пришла-а-а!» И ждет. Тут, конечно, ни ответа ни привета.
– Ой, умру от этой престарелой задницы!.. – стонет Глазастая.
– Глазастая, тебе не надоело? – Зойку лихорадит.
– Нет. Я здесь хорошо устроилась. Сижу на подоконнике, болтаю ногами.
– Лизок ставит кроссовки в центр комнаты, чтобы Костя сразу их увидел, ждет его, ждет, а его нет. У окна торчит, сторожит, потом тащится к нам – все двери оставляет настежь, чтобы услышать, если он заявится. Тащится обратно, я за ней. Подходит к зеркалу, румянится – макияж у нее на первом месте. И тут дверь – хлоп! Я сразу вскакиваю, чтобы уйти. Лизок меня не задерживает. Проплываю мимо Кости, он на меня ноль внимания. Понимаешь, какие у нас взаимоотношения?
– Понимаю, – глухо отвечает Глазастая.
Зойке кажется, что Глазастая отвечает ей с трудом. Она молчит, слушает. В трубке раздаются ритмичные удары: стук, стук, стук…
– Чего это? – пугливо спрашивает она. – Кто-то стучит? Ты слышишь?…
– Это я по стенке ногами бью.
– А-а-а… – тянет Зойка, снова представляя Глазастую одну на темной лестнице, где мыши шныряют и сумасшедшие бродят. Продолжает тихо, словно боится, что ее кто-то услышит: – Значит, Костя появляется перед Лизой, а на нее не глядит. Она рассказала мне: «Вдруг чувствую на своем лице, ну кожей чувствую, что меня обдает холодом, а на улице ведь тепло, а меня холодом, ну прямо мороз по коже». Представляешь, Глазастая, она догадывается, что это от него веет таким холодом при виде ее. Ужас, правда? Лизок не подает вида, что он ее обдает холодом, щебечет, ты же ее знаешь: «Костик, золотой мальчик, золотце мое, ужин готов».
– Золотые детки в золотые времена, – вставляет Глазастая.
Зойка хихикает, ей нравится, как острит подруга. Потом вспоминает последний разговор с Лизой и обрывает смех.
– Тут, понимаешь, какое дело, – шепчет Зойка. – Она себя виноватой считает… Ей иногда хочется остановиться на улице в толпе, упасть на колени и закричать: «Посмотрите на меня, люди!.. Я посадила своего сына в тюрьму!» Понимаешь, ей надо себя опозорить, чтобы кто-нибудь заорал на нее, или кто-нибудь ударил, или бросил в нее камнем.
Зойка вновь замолкает. До нее долетает храп Степаныча. Она теряет нить разговора, отчаяние овладевает ее душой.
– Ну, давай дальше, про кроссовки, – просит Глазастая.
– Давай, – спохватилась Зойка. – Ну, в общем, когда он отказывается от ужина, то Лиза начинает к нему приставать: почему ты не хочешь ужинать, где ты поел?… Она всегда себя ругает за то, что пристает к нему, а сама пристает. А Костя не отвечает, садится на тахту и замечает кроссовки! Представляешь?… А они правда законные… Лизок от радости улыбается, ждет, что он скажет, как схватит обновку и начнет примерять. В общем, она стоит и от радости балдеет. А он молчит, до кроссовок не касается, ложится на тахту, повернувшись к Лизе спиной. Тут Лизок не выдерживает, садится рядом, на самый кончик тахты, чтобы ему не помешать, и спрашивает: «Костик, что с тобой? Ты не заболел?»
Он оставляет ее вопрос без ответа. Она протягивает руку, кладет ладонь на его плечо, он дергается – отстань, мол. «Ну, расскажи, – просит Лиза. – Я ничего не понимаю. Что с тобой происходит?» Она спрашивает его вежливо-вежливо, а он отвечает грубо: «Отвяжись. Нечего рассказывать». Тут она бабахает не вовремя: «Но я вижу. Тебя узнать нельзя». Он хохочет и со злостью кричит: «Какая наблюдательная!»
– Засранка твоя Лиза, – говорит Глазастая. – Ну что она к нему в душу лезет, не дает очухаться?
– Может, и засранка, – отвечает Зойка, – а что ей делать, сама подумай… Она говорит ему: «Я хочу тебе помочь… Я все для тебя сделаю!»
Вот тут он как взметнется, как вскочит. Лицо перекашивает злоба, как заорет: «Ты мне один раз уже помогла!.. Я был слепой телок, а ты меня научила!.. Ты во всем виновата!.. Ты!.. Ты!.. С твоим идиотским „все будет хорошо, все будет замечательно“! Что ты лыбишься?… Ну что ты пасть открыла? Ненавижу тебя!.. Ненавижу этот город!.. Ненавижу эту проклятую страну!» – «Тише! – просит Лиза. – Тише, тебя посадят!.. Чем тебе не нравится наша страна, у нас хорошая страна». – «Пусть посадят! – орет Костик. – Пусть убьют!»
А она ему в ответ без всякой обиды: «Костик, за что ты так на меня? Ведь я твоя мама. А ты не прав, – говорит, – к тому же. Разве я такая, как раньше? Если ты посмотришь на меня добрыми глазами, то увидишь: я изменилась. Я другая! Глебова из-за тебя бросила, хотя он мне все простил. Но я ни разу, ни полраза с ним не встретилась». А он ей между глаз: «Ничего. Нового найдешь».
Представляешь, как ей обидно? Жалко ее, она правда бедная. Похудела, все время мечется туда-сюда, полночи печатает, деньги тоже нужны, полночи бродит по комнате или тихонько сидит в ванной, плачет и курит. А ходит она почему-то боком, как бы пытается проскользнуть везде незаметно. Говорит мне: «Чувствую, Зойка, скоро сердце у меня лопнет». А он ей: «Нового найдешь». Он умеет в угол загнать. Он просто ее растоптал. Она ему: «Я понимаю, Костик, я все-все понимаю – ты такое пережил». А он: «Что ты понимаешь, – с жутким пренебрежением к ней. – Что ты понимаешь? Разве это можно понять, это нужно самому испытать».
– И вот тут-то, Глазастая, все и случилось! – сказала Зойка.
– Что случилось? – спросила Глазастая.
– А то, – с угрозой в голосе произнесла Зойка. – Сейчас услышишь… Полный отпад… Когда он говорит Лизе, что все надо испытать самому, она ему отвечает: «Конечно, ты, Костик, прав… Чтобы тебя понять, нужно все самому пережить. Ты прав… Но я все-все сделаю для тебя!.. Все-все! Чтобы ты забыл про это и стал как прежде. Ты будешь еще радоваться – вот увидишь!» Тут он ударяет ее как хлыстом: «Замол-чи-и-и!» Так орет, что у нас слышно, мы со Степанычем обалденно застываем. Страшным, нечеловеческим голосом орет: «Замол-чи-и-и!.. Ничего мне от тебя не надо!.. Не лезь ко мне! Поезд ушел!..» И как загудит, изображая поезд: «У-у-у-у!» Я ухо к стенке, Степаныч меня оттаскивает: нечего подслушивать, а я вырываюсь: вдруг он там ее начнет убивать. А он вопит: «У-у-у-у!» Ну, бешеный, псих ненормальный!.. – Зойка осекается. Ей стыдно перед Глазастой, что она про психа говорит.
– Ты что замолчала? – Глазастая догадывается, почему Зойка молчит. – Валяй, не обращай на меня внимания. Ну, я тоже псих, ну и что?… Знаешь, сколько сейчас психов развелось?… Каждый нормальный человек – псих.
– Точно, – подхватывает Зойка. – Я тоже псих… Ну, в общем, он ей говорит: «Живи так, чтобы я тебя не замечал». – «Чтобы не замечал?!» – шепчет Лизок. Она сдерживается из последних сил, чтобы не заплакать, потому что боится Кости. Вот до чего он довел родную мать! «Не за-ме-чал», – повторяет по слогам, заикается, буквы, говорит, забывает: «Не за-ме-чал…» У нее хрустит что-то в груди, громко так – хруст! – и она вдруг понимает, что становится другой, будто у нее чужие руки и ноги, и внутри, в груди, все чужое, и голос чужое твердит не переставая: «Не за-мечал!.. Не за-ме-чал!» До нее наконец доходит, что это неправильно. Как она может жить, не замечая его? И она спрашивает: «А как же тогда?!»
Он не отвечает, и она начинает быстро одеваться, не понимает, зачем и куда собирается бежать на ночь глядя. Ничего не понимает. Натягивает пальто, бегает по комнате, потом выкрикивает: «Вот увидишь! Я и это сделаю для тебя!»
Она рассказывала, этот план у нее сам собой появился. Понимает: только так она вернет Костю к их прежней жизни.
– Какой план? – спрашивает Глазастая. – Я что-то не поняла.
– Счас поймешь, счас, – глотая буквы, торопится Зойка. – Лизок выскакивает из дома, хватает кирпич, у нас их во дворе полно, для ремонта дома сбросили, так она хватает кирпич и несется по ночной улице. А вокруг ни души, а она несется. Ты когда узнаешь, что она задумала, закачаешься…
– Ну, – говорит Глазастая хриплым срывающимся голосом, – давай быстрее. А то я нервничаю.
– Бежит она, бежит по улице, видит одинокого мента. Стоит под уличным фонарем около нашего универмага. Она бежит к нему, кирпич свой прячет, останавливается перед витриной. Видит в витрине звезды, луну… и свое отражение. И как шарахнет кирпичом! Говорит, целилась прямо себе в голову, в лицо, говорит, в этот момент себя ненавидела. Стекло как рухнет и рассыплется на мелкие осколки! Мент свистит в свисток. А она бросается бежать от него. Она, говорит, и не думала убегать, а вдруг побежала. Мент сначала пугается, когда она стукнула кирпичом по стеклу, а когда увидел, что она убегает, сразу успокаивается – и за ней! И как стукнет ее в спину, да еще изо всех сил. Ну, Лизок с размаху падает коленями и руками на асфальт и разбивается в кровь.
– Сколько подонков!.. – цедит Глазастая. – А ты удивляешься, что мы психи.
– А мент подымает ее и свистит без перерыва, – продолжает Зойка. – Выкручивает ей руки и орет: «Пьяная стерва!.. Что задумала, курва!.. Стекла бить?! Ну, я тебе разобью!» – и врезает ей кулаком между глаз. Лизок снова падает, он опять подымает ее, а она отбивается, царапается, вырывается, кусается. Мент балдеет от ярости. Ставит ее на ноги, а она садится на тротуар или вообще ложится. Он пинает ее сапогом, у нее на заднице знаешь какой кровоподтек, громадный, сначала был сине-красный, а теперь черный с желтыми разводами. А когда он пинает ее сапогом, то она этот сапог обхватывает руками, и мент тоже падает. Представляешь? Тут она видит, говорит, вполне соображая, рядом его лицо. До этого она ничего не соображала, а тут вдруг у нее в голове просветлело, и видит лицо мента и очень удивляется, потому что он совсем молодой, он ей кажется чуть старше Костика, а такой злой и дерется. И это на нее действует, и она смотрит, смотрит на него, а он, представляешь, не смущается под ее взглядом и отвешивает ей увесистую оплеуху. А она ему кричит: «Ну, убей меня, убей!» – и вырывается.
А в это время подъезжает патрульный на мотоцикле, и мент хватает ее за воротник пальто с такой силой, что отрывает его. А второй мент, который приехал на мотоцикле, смеется и говорит: «Ты что, с пьяной бабой не можешь справиться?» Тогда первый мент снова хватает Лизу, хлещет ее куда попало и орет: «Сволочь!.. Стерва!.. Пьянь!» – и никак не может запихнуть в коляску. «Ну ты, деревня!» – говорит второй милиционер, слезает с мотоцикла и врезает Лизе так, что она оказывается в полной отключке.
Ну, в общем, в милиции увидели, что Лизок никакая не пьяная – тоже, конечно, не сразу; ее сначала без всякого разбора запихнули в предварилку, а допрос снял через несколько часов, под утро, дежурный. Она ему рассказала, что у нее был нервный срыв на семейной почве и она почти ничего не помнит – как схватила кирпич, как бежала, как разбила витрину. Она рассказывает ему, а он смотрит на нее, ухмыляется. Не верит. Посылает ее на экспертизу в больницу. Там пишут справку: «Никакого алкоголя в организме не присутствует». Мент балдеет, ничего не может просечь: как это, не пьяная, а витрину разбила?… Что-то тут не так. Ну, составляет протокол, Лиза его подписывает, и он отправляет все это дело в суд, и она понимает, что стала теперь уголовной преступницей. Радуется. Чего хотела, того добилась – сравнивается с Костей. Мент ее спрашивает, чего она улыбается. А она не отвечает, улыбается. А Костя в это время спит себе спокойненько и ничего не знает о своей мамашке. И вдруг ему звонят из милиции и вызывают туда с Лизиным паспортом.
Теперь ей надо уплатить за разбитую витрину триста рэ и за злостное хулиганство еще сто. И на работу из милиции пришло письмо. Там они расписали во всех подробностях про нее и вроде того, что у нее случился срыв, а от себя почему-то добавили: неизвестно после какой пьянки-гулянки – это, мол, трудовому коллективу лучше знать. А у нее на работе, у Лизы, есть один вредный тип, он все время за правду борется, так он это письмо из милиции пропихнул в заводскую газету, чтобы все прочитали. Представляешь ее положение?… Конец света. А домой их знаешь кто привез?… Удивишься – тот же Куприянов! Он теперь на колесах, у него свой «жигуленок». Вот он их и прикатил. После этого два раза наведывался, один раз с бутылкой, когда Лизок была одна дома. Давал ей юридические советы, как себя вести в суде. Предложил устроить Костю на работу. Снова начал ее клеить. А та забыла про все и пускает его в дом.
– Ну курица! – зло сказала Глазастая. – Когда выйду из больницы, первым делом угоню у него колеса и разобью.
– Что ты! С ним лучше не связываться, – испугалась Зойка. – Он обязательно докопается, кто это сделал.
– А я не боюсь, – ответила Глазастая, – пусть докапывается. Поиграем в кошки-мышки, кто кого.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































