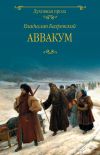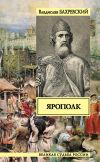Текст книги "Тимош и Роксанда"

Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава третья
1Пани Ганна Мыльская жила в землянке. В землянке, но в своем вотчинном, в родном селе Горобцы.
Приплелась она на пепелище в конце декабря, когда с неба валил мокрый тяжелый снег, когда дорога была как налитое до краев поросячье корыто, да какое еще корыто! – от горизонта до горизонта. Каждый шаг приносил страдание, а каждая минута жизни была долгой.
Но Господи! Все забылось: голод, мокрые ноги, тряпье на теле, чирьи и всякая зараза, стоило лишь увидеть пани Мыльской, что Горобцы ее милые – не черное пепелище, а хоть и маленькое, как всего-то разъединый воробушек, но – село!
Князь Иеремия Вишневецкий, наказуя людишек за то, что родились не с рабскою душою, не только село – саму память по Горобцам развеял по ветру. Да, видно, недаром кричит веселое племя воробьиное, на весь белый свет кричит: «Жив! Жив!» Вот и Горобцы, убиенные, сожженные, перепаханные, возродились из пепла и праха и были вновь живы…
Пяток хат сбились стайкой, по-воробьиному, согревая друг друга уже одним своим присутствием, потому что много было в те лета опустелой земли.
Боясь, что видение исчезнет, побежала пани Мыльская к этим хаткам, стукнулась в крайнюю и услышала:
– Пошла, старая! Нечего подать! Сами неведомо чем живы!
– У тебя-то, у Квача, человека бережливого, есть нечего?! – грянул голос из лохмотьев, и в хате все так и встрепенулись.
– Пани! – Женщины ахнули и заплакали.
Поставить дом зимою было не на что и некому. Да и заупрямились иные, приятно им было видеть пани униженной.
– Землянку тебе выроем, – сказали, – а хату сама лепи.
– Я согласна и на землянку. – Смирение пани Мыльской было непритворным, и хотя правыми почитали себя мужики, но кошки скребли у них на душе, когда копали они землю под землянку.
Злость бабья мужичьей не ровня, но и сердобольства им занимать не надо.
Порылись в сундуках – а сундуки были в те поры у казацкого народа полнехоньки, – собрали одежонку для пани. Не обноски какие-нибудь, ни одна баба тут не пожадничала. Принесли ей пару кунтушей, в талию, с рукавами в обтяжку, с откидными расшитыми отворотами на груди. Принесли пару скидниц, длинных юбок из хороших материй, на кумачовой подкладке, с немецким кружевом. Саяна без бострога – не саяна, подарили и бострог.
Перину дали, одеяло.
Землянку обмазали глиной, побелили, разрисовали цветами диковинными печку-малютку, стены, пол.
Сама пани в устройстве своего жилья участия не принимала. Болела. Лежала она в хате Кумы на печи. У Кумы росла всего-то одна дивчинка, а муж, огонь-человек, казаковал.
Пани Мыльскую мучили простуда и голод. Голодно жили в Горобцах, сундуки у всех были полны, а закрома – пусты.
Истосковавшись по бане, однажды пани Мыльская взмолилась:
– Кума, голубушка! Натопи печь, нагрей воды. Сил моих нет, истосковалось тело.
Кума просьбу исполнила. Нагрела воды целую кадку. В эту кадку и забралась пани Мыльская смыть с себя коросту дорог, а заодно и все застарелые беды свои.
Кума глядела на обнаженное, исхудавшее, пожелтевшее тело пани во все глаза.
– Что ты так смотришь? – удивилась пани Мыльская.
– Смотрю, какая ты! А по мне – такая же, баба и баба.
Пани Мыльская засмеялась, лицо у нее стало молодое, красивое. Кума даже глазами заморгала.
– Все люди – люди, – сказала пани Мыльская.
– Тебе сколько лет-то уже? – спросила Кума. – Ни одной сединочки в голове не видно, а пережила не меньше нашего.
– Природный шляхтич, Кума, сладкое вино и горькое вино жизни должен пить не морщась! – сказала, на слова не налегая, но Кума призадумалась.
2Намылась пани Мыльская – и на печь. Уснула тотчас. И снились ей холсты. Всю ночь устилала она белыми холстами землю и шла потом по ним, удивляясь безмерно: не было тем холстам ни конца ни края.
Утром открыла глаза и поняла: здорова.
Кума уже трудилась: перетирала осиновую кору.
– Муки осталось на одно ситечко, – сказала виновато.
– А зерно есть?
– Зерна две меры всего, на семена держу.
Пани Мыльская оделась.
– Дай мне, Кума, лошадь и седло. Поглядеть хочу поместье.
Снег прикрыл землю второпях, где густо, где едва припорошив, словно бы стыдясь за людей.
Вместо пашни, вместо привычной стерни, как волчья шерсть – бурьян.
– Боже ты мой! – застонала пани Мыльская. – Да как же ему не быть, голоду?
Съездила на то место, где собиралась ставить мельницу. И снова удивилась. Ее постройки были сожжены, но на их месте стояли палаты.
Она подъехала ближе и увидала старуху Дейнеку, поившую во дворе красавицу-лошадь.
– Вот так, – сказала себе пани Мыльская, – доброе место не пустует.
Поехала к роще, изуродованной порубками.
Глядела на пни, торчащие из-под снега, и, опустив повод, сидела на грустной чужой лошадке, не думая ни о чем, не имея за душой ни единого желания.
Лошадка озябла и потихоньку пошла куда-то, и пани Мыльская не мешала ей.
«Умереть бы!» – подумала она с тоской.
В Горобцах, теперь уже далеких, ударили в било. Пани Мыльская встрепенулась, но с горы ей было видно: нет, не горит. А не горит, так и спешить незачем. Ей-то, владетелю землянки, и о пожаре волноваться не стоит.
Однако поехала потихоньку на зов: чего там приключилось?
Увидала невеликое сборище на пустыре, где церковь когда-то стояла. По тому, как все смотрели в ее сторону, поняла: ждут. Ее ждут. Сердце сжалось от тревоги. Недоброй. Добрых тревог у пани Мыльской не бывало уж два года кряду. Но и недобрая тревога только пыхнула в сердце, как пыхают на небе дальние зарницы, и опять подернулись глаза пани серой налетью безучастности. Подъехала к людям. Люди смотрели на нее, молчали, опускали головы.
– А чего?! – крикнул вдруг весело казак Дейнека. – И скажу! Как промеж нас решено, так и будет. Слышь?
– Что же вы решили? – спросила пани Мыльская негромко.
– А то и решили: если есть хочешь, будешь сама пахать, как все. И земли тебе отведено столько, сколько нам тебе не жалко было дать.
– Хорошую тебе землю отвели, не беспокойся! – крикнул старик Квач.
– Вот и весь сказ! – закончил казак Дейнека.
Пани Мыльская, словно бы и не слушая его, глядела куда-то поверх голов, и Дейнека тревожно обернулся, но ничего не увидел.
– Церковь надо ставить, – сказала пани Мыльская твердо.
– Эка! – захохотал Дейнека. – Жрать нечего, людей раз-два – и нетути, а она вон чего загнула!
– В степи и межевой столб, как колокольня, – сказала пани Мыльская. – Будет у нас церковь, будут и люди.
– Ты скажи, если умная, где жратвы раздобыть. Дети пухнут! – зло скривился Дейнека.
– Есть ему захотелось! Не о том надо думать, что пузо у тебя с утра урчит, а о том надо думать, что весной в землю кинешь.
– А пошла ты к чертям в пасть! – заорал Дейнека. – Твоя сила вся в песок ушла. Катись, пока в речке тебя не утопили!
Пани Мыльская тронула лошадь на казака, и он попятился, схватившись за саблю, но пани только развернула конягу, бросив казаку через плечо серьезно и печально:
– Твоя правда! Нечего мне здесь делать.
Подъехала, провожаемая взглядами, к хате Кумы. Завела лошадь в сарай и направилась к своей землянке.
Как стемнело, прибежала к ней Кума:
– Пани! Они собираются стакнуться с соседними селами и ограбить хоть своих купцов, хоть русских.
– Вот и вся их смекалка!
– Научи, что делать, будь милостива! – взмолилась Кума.
Пани Мыльская обняла ее:
– Да разве мы казаков переупрямим?! Нет! Наше дело ждать да терпеть. Вот станут как шелковые, тогда уж бабьему уму – простор.
Пани Мыльская открыла дверцу игрушечной своей печи, бросила в огонь кизяку, подумала про себя: «Ну куда вы годитесь без пана? Поклонилась одна, и все село поклонится. Дай только срок!»
Подняла ясные глаза на Куму:
– Сундуки ваши проредить придется. Собирайте, бабы, товар. К русским надо ехать. Только не с саблями, а с рухлядью.
3День был морозный. Под высоким крестом из жердей, на месте бывшей и будущей церкви, стояли два стола. На одном столе – мраморный челом, сдвинув черные брови, лежал в гробу убиенный казак Дейнека. На другом столе торчал мешок овса.
Обозы свои купцы охраняли, как царей охраняют: не подступись. Набежали удальцы из Горобцов на обоз, когда тот в село входил и когда большинство охранников ушли вперед, заботясь о добром ночлеге. Наскочили казаки на последнюю подводу, выкинули из саней возницу, развернули лошадь, но те несколько охранников, что были при обозе, подняли стрельбу, началась погоня. Пришлось уносить ноги. Сани бросили, но Дейнека, бесшабашная голова, вернулся, схватил с возу мешок, а он словно с камнями – пшеница. Не поднять. Схватил другой, перекинул через седло. Тут и достала казака пуля.
…Подходили люди к двум высоким престолам. Прощались с Дейнекою и черпали невеликой братиной овса из мешка, себе на жизнь.
Пани Мыльская тоже пришла с казаком проститься, хотела было пройти мимо второго престола, да мать Дейнеки за руку ее остановила.
Сразу после похорон всем селом явились люди к пани Мыльской за советом. Совет у нее был прежний, что Куме давала. Обошла пани все хаты, отобрала товар, и уже на следующий день отправились мужчины сельца малого Горобцы в русские пределы продавать дорогую рухлядь, купить хлеб и скот.
4Государь царь и великий князь московский Алексей Михайлович слушал дела. Порубежные с Украиной воеводы писали о купцах и переселенцах. Приходили беженцы целыми селами, занимали пустоши.
«И я, холоп твой, без твоего государева указу принимать тех крестьян и ко кресту приводить и в книги записывать не смею потому, что их вдруг идет много», – писал брянский воевода.
Отписку воеводы читал государю думный дьяк Посольского приказа Алмаз Иванов. От себя добавил:
– Твой государев указ о перебежчиках в Разряде.
– Пошлите указ в Брянск и в другие места, – сказал Алексей Михайлович и рукою сделал нетерпеливое движение.
– Из города Вольного воевода пишет: «Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси холоп твой Федька Арсеньев челом бьет.
Приезжают, государь, на Вольное из литовские стороны литовские люди со всякими товары и присылают ко мне, холопу твоему, в город з гостинного двора целовальников, говорить, чтоб я, холоп твой, тех литовских торговых людей пускал в город к церкве Божией молиться…»
Государь слушал, глядя перед собой, и, как только дьяк кончил чтение, тотчас вздохнул и сказал:
– К церкви небольшими людьми и в город пускать. А которые русские люди ездят в Литву с торгом, и тово не заборонить. Также и литовским людям, которые ездят для покупки.
Тут государь вздохнул еще раз и покосился на стол, с которого Алмаз Иванов брал и читал грамоты. Думный дьяк заметил, что государь проявляет нетерпение, и тоже вздохнул.
– Великий государь, осталось мне прочитать тебе наказ Посольского приказа Григорию Унковскому, твоему послу, к гетману Богдану Хмельницкому.
– Чти, – сказал покорно Алексей Михайлович и снова стал глядеть перед собою, ему не сиделось нынче на месте.
Две великие охоты хотелось справить государю: поглядеть на сыночка новорожденного, на Дмитрия, да пойти к своему духовнику Стефану Вонифатьевичу, который только вчера воротился из Новгорода, где ныне митрополитом любезный сердцу святой отец Никон. Ах, недоставало ему, государю великому, Никона. Но ведь для того и послан святой отец в Новгород, на митрополию, чтоб, когда время приспеет, когда Бог укажет, вернуть его в Москву, на еще больший престол…
Спохватился государь, далеко залетел мыслью. Алмаз Иванов читал:
– «…и Григорию быти у гетмана наодине и говорити ему: “И ныне б он, гетман, и все Войско Запорожское… послали от себя к панам раде Коруну Польские и Великого княжества Литовского послов и велели им говорити, чтоб они, паны рада, царского величества милости поискали, обрали себе государем на Коруну Польскую и на Великое княжество Литовское великого государя нашего, царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии самодержца, его царское величество, и тем межусобную войну и кровь уняли…”»
Желалось ему – как желалось-то! – получить обе эти короны, польскую и литовскую. С Федькой Ртищевым, со спальником, много раз про то говорили. Если бы два народа, русский и польский, соединились, то произошло бы великое государство. Великая тишь снизошла бы на мир, защитив его от бесконечных войн. Сколько ведь сил было потрачено на истребление друг друга, сколько придумано было хитростей, дабы ослабить соседа! Но почему у славянского племени должен быть король из французов или шведов? Славянин славянина верней поймет.
Наказ был дотошен и безмерно длинен. Алексей Михайлович, послушав со вниманием малое время, опять уплывал мыслями к другим делам и заботам.
Кречет на днях издох, хороший кречет, ставок по двадцати делал. Разобрать надо дело, не от лености ли сокольника погибла птица? Ну а если сама собой, от болезни или от старости, то это дело Божее.
И встрепенулся! Алмаз Иванов читал про него…
– «…А кто в дороге учнут его, Григория, спрашивати о летах и о возрасте великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии, и Григорью говорити: великий государь наш… всея Русии самодержец, его царское величество ныне в совершенном возрасте, двадцати лет, а дородством, и разумом, и красотою лица, и милосердным нравом, и всеми благими годностьми всемогущий Бог украсил ево, великого государя нашего, его царское величество, хвалам достойного паче всех людей».
Невольно улыбнулся Алексей Михайлович, глазами улыбнулся, а брови, смутясь от хороших многих похвал, чуть принахмурил. Дьяк, понимая, что государь слушает сие место с особым вниманием, замолчал на мгновение, набрал воздуха в грудь и продолжал чтение с радостью на лице:
– «А ныне Бог подаровал ему, великому государю нашему, его царскому величеству, сына, а нам всем государя благоверного царевича и великого князя Дмитрия Алексеевича, и нам всем, его царского величества подданным, радость и веселие велие».
Все слова были лестные, но несправедливыми их Алексей Михайлович назвать не мог и потому никаких замечаний не сделал.
5Пани Мыльская не смогла бы ответить, сколько дней прожила она без пищи. Однажды она поняла, что никто к ней не придет поделиться последним куском, потому что последнего куска уже ни у кого не было. Шатаясь от слабости, она натаскала в землянку кизяка и хворосту, чтобы потом не тратить сил, истопила печь и залегла в постель.
Обозу, ушедшему к русским, давно пора было бы вернуться, но то ли казаки побиты лихими людьми, то ли их распутица держит. Весна случилась ранняя. Вся надежда была на этот обоз.
– Придут! – говорила себе пани Мыльская, очнувшись из забытья.
Сны ей снились яркие. Всё праздники. С музыкой, с мазуркой.
Свернувшись калачиком, маленькая старушка лежала, греясь у печи, и казалась себе котенком. Она подумала, что надо бы сходить за водой. Вода у нее кончилась. Сходить за водой и сварить какую-нибудь кожу. Бросить в котел нечто кожаное и варить… Она упрекнула себя, что раньше не додумалась до такой простой истины.
– Воды у нас много! – напомнила она себе и тотчас увидала серый поток, сплошь закрывший землю.
«Потоп, что ли?» – подумала она, ничуть не встревожась.
Увидала себя в этой воде. Она была кленовым высохшим листом. Лист крутился над воронками, но был слишком легок, чтобы утонуть.
– Нет, я буду жить! – сказала пани Мыльская. – Ради Павла…
Она и впрямь поднялась с пола, взяла ведро и, ловя ногами ходуном ходящий пол, пробралась к двери и толкнула ее.
Розовый, как степная мальва, вечер стоял над Горобцами. Влажные ветерки стрижами реяли над крышами хат, распрядали на нити кудели печных дымов, и дымы эти пахли теплым хлебом. Ведро выпало из рук пани Мыльской, небо перевернулось, но она усилием воли отсрочила миг беспамятства и увидала-таки: лошади во дворах – пришел обоз.
6Опять ее выхаживала Кума. Как с малым дитем нянчилась, а когда пани Мыльская окрепла и начала подниматься и ходить по хате, Кума вдруг стала выказывать власть: не пускала пани на улицу, да и только.
– Рано тебе, – говорила, – застудишься, опять сляжешь.
Пани Мыльская покорилась. Как знать, что там, в мире? Может, Кума от смерти ее оберегает. Казаки на расправу скорые.
Но однажды Кума принесла пани из ее землянки лучшее из дареных платьев и велела одеться.
Пани Мыльская умылась, оделась, причесалась. Она видела, что Кума сияет, и сама заразилась надеждой: уж не Павел ли объявился?
Они вышли из хаты на весеннее зеленое диво. Пошли за дворы. И увидела пани на пригорке новый, сверкающий белыми бревнами дом, а возле дома людей.
Пани Мыльская, опираясь на руку Кумы, поднялась на пригорок. Люди сказали ей:
– Здравствуй, пани!
Она поклонилась им:
– Здравствуйте!
И тут случилось долгое молчание. Выручил старик Квач. Поддернув атласные, как огонь, шаровары, он выступил перед пани, снял с головенки своей шапку да и кинул наземь, себе под ноги.
– А принимай-ка, пани, дом от людей! Живи, будь ласкова!
Всякое было в жизни пани Мыльской. Сама немало добра переделала людям, но тут подкосились ноги.
– Господи, мне ведь и угощения не на что поставить!
– Все уже готово, – успокоили ее и повели в дом, где и стол стоял, и на столе стояло.
Глава четвертая
1Король Ян Казимир застыл у окна в кабинете прежних польских королей, в Вавеле. Он приехал в Краков для встречи с легатом римского папы. Папа Иннокентий X (Джованни Баттиста Памфили), семидесятипятилетний старец, подпавший под влияние корыстолюбивой невестки Олимпии Майдалькони, посчитал бунт Хмельницкого удобным моментом для уничтожения силой оружия православия на Украине. А может быть, так считала синьора Олимпия, которая просторы Малороссии издали принимала за роскошное, оставленное без призору золотое руно.
На сегодня была назначена тайная беседа с сенаторами. Думал король, но придумать нечто значительное, меняющее весь ход событий, был не в состоянии.
«Убить его, вот и все!» Это относилось к Хмельницкому.
Вспомнил, как он ехал с казаком в одной карете. О чем тогда шел разговор? Ах да! Будущий гетман сказал дельное: «Вольности шляхты когда-нибудь обернутся против нее самой». А потом рассказал о Вырии.
– Да, все они – сказочники. А в сказках все просто.
Ян Казимир отошел от окна, сел в кресло. Давая себе отдых, вспомнил прелестную мадам Гебриан.
– Ах эти француженки!
Адам Кисель, бледный после перенесенной болезни, усохший лицом и телом, красноречиво, но без лишнего словоблудия, рассказал о пережитом во время поездки в стан Хмельницкого и о тех, безнадежных почти, усилиях всех членов посольства, которые, однако, привели к желаемому результату: перемирие добыто.
– Можно ли верить Хмельницкому? – спросил примас.
– Хмельницкий сам, и неоднократно, говорил нам, что ему надо навести порядок в собственном доме.
– Так, может, гетману как раз удобнее махнуть рукой на устройство мира, которое всегда непросто, и послать своих дейнек в пекло, которое им по сердцу? – высказался канцлер Оссолинский.
– Весенняя распутица все равно стоит поперек пути разбойничьих планов, – сказал Адам Кисель. – К тому же пан Хмельницкий настойчиво ищет новых союзников.
– Ищет, но не без разбора, – сказал Оссолинский. – От союза с Венгрией он уклонился.
– Зато пытается вовлечь в войну московского царя, – сказал Смяровский.
Все посмотрели на королевского секретаря. Здесь собрались люди более высоких степеней, и королевскому секретарю надлежало бы не высказывать свои мысли, но ждать, пока его спросят.
Король уловил тонкости момента и поддержал секретаря:
– Не будете ли вы любезны, пан Смяровский, сообщить нам ваше мнение о делах на Украине.
– По всем городам продолжаются грабежи и убийства шляхты и католических священников. Примирение невозможно. Я знаю, что у его милости пана Киселя другой взгляд на вещи, но вы, ваша королевская милость, хотели знать мое мнение.
– Что же вы предлагаете? – спросил раздраженно канцлер Оссолинский. – Идти на Украину войной? Но с какими силами?
– Силы Хмельницкого уже не те, – возразил пан Смяровский. – Украина вымирает от голода.
– Вымирает, но не вымрет! – мрачно пошутил канцлер. – Что вы, однако, предлагаете? Какое дело вы можете задать нам всем, по крайней мере, для рассмотрения?
– Хмельницкого надо убить! – сказал пан Смяровский и сел.
– Вы беретесь за исполнение этого предприятия? – спросил канцлер.
Пан Смяровский опять встал, опять поклонился:
– Да, я берусь лишить казаков их вождя.
– Что это даст? – спросил примас, но слова его прозвучали притворно.
– Рассмотреть этот вопрос следует уже потому, – сказал Адам Кисель, – что его очевидная ясность вызывает во мне многие опасения. Правая рука Хмельницкого, обозный пан Чернята, убежденный враг Речи Посполитой. Другой вождь казаков, который не уступает Хмельницкому по числу сторонников, – бесшабашный, прямой Данила Нечай. Хочу обратить ваше высокое внимание также на лицо, ныне совершенно неприметное в когорте Хмельницкого. На его сына Тимоша.
– Но это же мальчишка! – воскликнул примас.
– Москва объединилась вокруг шестнадцатилетнего Михаила Романова, – мрачно напомнил Оссолинский.
– Так что же вы хотите? – спросил король Адама Киселя, явно теряя терпение. – Вы хотите уберечь Хмельницкого?
– О нет! – воскликнул Адам Кисель. – Я понимаю, сколь внушительна будет потеря для Украины, если Бог пожелает смерти гетмана. Я опасаюсь другого. Мы уже знаем, чего ждать от Хмельницкого. Мы знаем, что это человек осторожный, и мы знаем еще о нем самое главное: он, очутившись во главе… – Адам Кисель замолчал, ища осторожные слова, – …стихийно разбунтовавшегося казачества, не кинулся очертя голову уничтожать Речь Посполитую. Если мы пойдем на установление на Украине удельного княжества наподобие княжества Литовского…
– Этому не бывать! – властно и грозно сказал примас.
Канцлер Оссолинский поклонился королю:
– Я вношу предложение: оказать пану Смяровскому полное доверие и всю необходимую помощь для завершения его дела, которое уже начато…
– Да, – сказал король. – Да!
Других мнений не было.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?