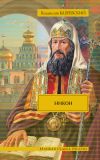Текст книги "Аввакум"
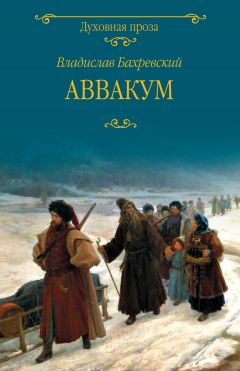
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Монастыри строил Никон, но кирпичи таскал – крестьянин. Никон души спасал, а тело ныло у крестьянина. Ему и помолиться было недосуг: хлеба дай, рыбы налови, телегу поставь. Вези, крестьянин, вези! И каким-то чудом вез. Даже на островах поспевал трудиться.
Савва сидел на прогретом солнцем камне, слушал, как море раскачивает берег. И поплевывал. Он, Савва, плюнет, а каменщики, возводящие стены храма, камень положат. Он – плевок, они – камень, он – плевок, они – камень. И в том была великая разница между ним и множеством работающих людей. Они строили, он – надзирал. Они были муравьи, он – птица, пусть хоть и воробей. И впрямь ведь мог любого на острове Кий щелкнуть со стены, будто муравья, в море: муравьем больше, муравьем меньше.
Крикливое разноголосье перебило вдруг и шум прибоя, и, кажется, само течение облаков над землей. Люди Саввы, твердолобые его сторожа, волокли под руки к нему на расправу горемыку.
– Лег, скотинушка, и лежит! – доложил старшой страж.
– Че-во? – грозно спросил ослушника Савва.
– Живот скучерявило! – Колени мужик держал вместе, то ли от боли, то ли от страха. – Вчерась дюже камень большой на леса взволакивали. Должно, надорвался.
– Покажи!
Сторожа, не мешкая, задрали на мужике рубаху.
– Пузо твое бело, как у лягушки. Было бы синё – простил. Соврал ты, паря! – Савва глянул на сторожей. – Макните его.
Сторожа замерли и не двигались.
– Че-во? – рыкнул Савва.
– Скоко раз? – У старшого от раздумья лоб сморщился и собрался в шишку.
– Сто разов, – сказал Савва.
– Батюшка, пощади! – заверещал несчастный. – Ты ведь сам из наших, из мужиков.
– Я тебе покажу из наших! Сто разов! – заревел Савва и, когда вся эта засопевшая, загундевшая братия кинулась прочь к обвалу, с которого макали провинившихся, принялся так и сяк морщить лоб, но шишки не обозначилось.
«Малюта[53]53
«Малюта», – подумал об усердном старшом Савва. – Малюта – прозвище Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского (?—1573), думного дворянина, приближенного царя Ивана Грозного, главы опричного террора. Он был участником многих убийств, в том числе князя Владимира Старицкого, митрополита Филиппа и др. Его имя стало нарицательным для обозначения человека крайне жестокого, коварного, опасного.
[Закрыть], – подумал об усердном старшом Савва. – Перед таким кто хошь в штаны напустит. А передо мной и без шишки напустит. Яко передо львом!» Савва благодарно перекрестился – все от Бога – и поискал глазами свои хоромы, построенные прежде храма.
Обедал Савва по-богатому. Бояре небось этак не кушают. Всякий день ему ставили целого осетра в морошке, поднос с птицей или с поросенком, все на шафране, меды с ароматами, квас на изюме. Хмельного Савва не пил. Пробовал, но пробуждение было хуже ада.
На обед к прикащику обязательно приходил иеромонах Иннокентий, любитель осетрины и морошки. Приглашал его Савва к столу с умыслом. Пища получала благословение из уст человека, который к Богу много ближе, чем любой на острове. К тому же Иннокентий долго не засиживался. Отведывал осетра и, благословя домочадцев, отбывал в обитель, к братской трапезе. Вот тогда-то и несли Саввины слуги скоромное. И обязательно с пением!
Удивительные порядки в доме и на всем острове Савва завел с первого дня, как ступил на берег Кия. Будто и не было иного Саввы, кроме нынешнего, будто с рождения помыкал людьми. Его ничуть не заботило, что, кроме пения к столу, он почти и не слыхал в доме своем человеческого голоса. Молчуны молчали, Енафа и сынок помалкивали.
Савве все было хорошо. Братья толстели, сын подрастал, Енафа, забывая скитские дурости, в супружеских тайностях ночь от ночи становилась слаще.
В тот день начинался Петров пост, ели блинчики с грибами, но по отбытии отца Иннокентия слуги принесли дичь и запеченную в тесте телятину. И пели.
Савва махнул на них и, обгладывая косточку бекасова крыла, поднял указательный палец. Все затаили дыхание, прислушивались.
– Ведут, – сказал Савва и поспешил к растворенному окну.
Во дворе стояла бочка с морскою водой, к ней-то и приволокли кормщика.
Возле бочки кормщик опустился на колени и, глядя с мольбой на прикащиково окно, поклонился, истово и с плачем.
– Кушай на здоровье! – весело крикнул ему Савва.
Кормщик достал из-за пояса деревянную ложку, перекрестился и, подойдя к бочке, начал хлебать морскую воду. Вода не больно-то шла, но кормщик хлебал в корчах и стонах, и сторожа серьезно помогали ему тычками пик.
Кормщик этот в свежую погоду утопил корабль с хлебом. Савва, узнав о беде, приказал начерпать с того места, где канула в море мука, сорокаведерную бочку и назначил кормщику урок: опорожнить бочку до дна.
Натешившись страдальческим обедом виноватого, Савва вернулся наконец за стол. Слуги тотчас понесли пироги и питье: мед, квас, пиво.
Было слышно, как у Енафы ресницы касаются ресниц.
К еде ни братья-молчуны, ни Енафа, ни сынок даже не прикоснулись.
– А по мне порядок дороже, чем вы с вашими постными рылами! – Савва выпил с жаром кружку пива, разорвал пирог с рыжиками и ел – чавкая, шмыгая носом. Назло всем этим родным дурням и дуре. Дуре! Заступница обиженных!
– Вот сдам в самый худой бабий монастырь, чтоб не корчила из себя Богородицу!
В ответ шелест ресниц.
Савва усмехнулся:
– Закормил, видно, я вас. Завтра с собаками посажу, коли мною брезгуете.
Отер губы шелковым платком и ушел надзирать за надзирателями.
Одного мягкосердного Савва уж посадил на цепь со сторожевыми собаками. На всю жизнь научил уму-разуму.
После обеда по издревле заведенному на Руси правилу прикащик острова Кия почивал. Грибы – еда тяжелая, придавило Савву сном, как стогом сена. Мать пришла к нему на порог. А он, окаянный, не узнал ее, куражился хуже некуда. Как давеча Енафе грозил, посадил обедать с собаками. И ведь то не собаки грызут мать, совесть душу его поедом ест. Он еще и хитрит: дескать, старушка на вид чужая. Но сердце волком воет: мать перед ним. Хотел Енафу прогнать от окна, чтоб не смотрела. А Енафа, как тополиный пух, поднялась с земли с сыном на руках, и понесло ее ветром над морем и за море.
Силится Савва пробудиться от жуткого сна, и уж получилось было, да тут схватили его братья-молчуны за руки и не пускают.
– Можно ли сон силою удерживать? – удивился Савва.
Молчуны молчат, и видно ему через них, как через бычий пузырь.
В трубе стонал ветер.
Савва сел на лавке, отирая ладонями мокрые от пота волосы.
– Енафа! – позвал по-божески, как в былые времена, готовый испросить прощения за всякий свой грех, хоть на коленях.
Не отозвалась.
Наливаясь злобой, Савва крадучись прошел на женскую половину и разом, с маху пнул ногой дверь.
И замер. Скатерть на столе собрана с трех сторон в узел, в узле бабьи тряпки… Не взято, однако. Оставлено.
Савва на цыпочках, уж совсем как вор, выбрался из комнаты, проскользнул к себе, сел на резной стул за дубовый стол и тогда и гаркнул:
– Провалились, что ли?
Вбежал слуга.
– Где Енафа? Где мои братья?
– На пристань пошли.
– Коня подай.
Подождал, пока слуга затворит за собою дверь, надел кафтан, снял со стены плеть с ручкою в виде рыбьего хвоста, из рыбьего зуба резанную. Поискал глазами шапку, не увидал, схватил со стены лисий треух, бухнулся перед иконой Спаса на колени:
– Господи! Ради тебя, Господи, стараюсь! Ради патриарха Никона!
И опрометью – скакать, догонять, на разум наставлять батогами.
17
Над морем, как вымя на шести сосках, стояла розово-синяя туча, а на море хоть бы единый светлый блик – ходит туда-сюда серая мутная брага.
Вдруг Савва увидел парус – белое перышко между небом и водой. Похлопывая кнутовищем по сапогу, красный от нетерпения, полез на самую легкую, самую скорую сторожевую ладью.
– Догнать! – указал на парус.
– Буря, господин! – сказал ему кормщик.
– Для беглецов – бури нет, а для нас так уж и буря?
– Худо им придется. Через час света белого невзвидят.
– Тебе море страшнее, чем гнев мой? Так я постараюсь!
– Утопнем, – сказал кормщик.
– Чтоб храбрости тебе прибыло – коня дарю.
– Зачем утопленнику конь? Брата моего от морских вшей избавь.
– Эй! – крикнул Савва страже. – Освободите дурака кормщика. Да поднимай же ты парус! Батогами, что ли, тебя подгонять?
Кормщик перекрестился, обнялся с другими мореходами.
– Брату скажите, чтоб детишкам моим и жене не дал бы с голоду помереть.
Волны ладье под бока бухают, ветер в парусе звенит. Такой простор с четырех сторон, что чертополох души, растравляющий колючками спесь, сам по себе завял.
Парус беглецов показался вдруг гораздо мористее.
– Поворачивай! Чего же ты? – через ветер покричал кормщику Савва.
– Сразу нельзя! Перевернет!
В голосе кормщика достоинство, взгляд спокойный, вроде бы и с усмешечкой.
Савва вспомнил, что, кроме кнута, ничего у него нет в руках. Кормщик ненадежен, ладья беженцев большая, сколько там народу? Возьмут и утопят. Заслужил ведь!
Покосился на кормщика, но тот на море глядел.
Один из сосцов небесного вымени коснулся моря, море хлюпнуло, столб зеленой воды встал под явившимся вдруг солнцем, и капли дождя засвистали, как пули. Море вскипело, поднялось, и парус спорхнул с ладьи вместе с мачтою.
Савва упал на дно ладьи под скамью и, трясясь как студень, запричитал вскочившую на язык молитву:
– Господи! Сделай меня мразью-улиткой, мразью-медузой! Только жить оставь, Господи!
Он очнулся под тишайшими, под смиреннейшими небесами Беломорья. Солнце стояло за пеленой облаков, косицами тянувшимися от горизонта до горизонта. На дне ладьи бултыхалась вода, но под его глухой скамьей было сухо.
Море словно бы корочкой льда подернуло – ни морщины! И чудный свет, как от нимба. Ни птиц, ни рыб, ни берегов. Савва вздрогнул, поглядел на корму – никого. Встал на ноги, чтоб под лавками видеть, – никого.
– Покинул, – сказал Савва, и ему стало жарко от нечаянного слова.
Воды в ладье было на донышке, и звук бултыханья показался деревянным. Савва сообразил наконец, что звук этот посторонний, что он идет извне. Наклонился над бортом и ахнул: его ладья трется об иную ладью, стоящую вверх дном. Савва поискал глазами багор, толкнулся прочь. И тотчас та, иная ладья вздохнула и послушно отправилась в глубины моря.
Савву забила дрожь. Трясло каждую клеточку его большого, его живого, не желающего пропасть тела. Он, новорожденный, вспомнил, что это была за ладья, кто был в ладье и почему.
Озираясь на тихо светящую пустыню, дрожа и мечась душой в смертной тоске, Савва завопил, но несуетный, не терпящий беспокойства простор погасил его крик. Тогда он принялся шептать молитвы, не прерываясь ни на малое мгновение. Пусть как муху, но услышат.
– Николай Чудотворец! Никола Святой! Мирликийский угодник! Господин и заступник святой Руси, не оставь, явись! Ты стольких спас и вызволил, и меня, худшего, не оставь. Дай мне послужить имени твоему. Не стану жить с людьми, не стану жить в избе, только избавь, избавь, избавь от смерти на море. Избавь, избавь! Никола! Ты же первый защитник русскому человеку. Никола! Я буду падать в ноги каждому встречному человеку, виноватый заранее, ибо согрешил перед людьми тяжким сатанинским грехом. Никола! Я в лютые морозы ради славы твоей буду опускаться в прорубь. На вешний твой день буду коней пасти и всякому коню расчешу гриву и хвост. Спаси, милый! Спаси, любезный! Спаси, золотой!
Он заснул, но и во сне не смел прекратить своей многословной неумеренной молитвы.
У него не осталось сил удивиться, когда к ладье подошел человек. Наклонился. Лицом строг и глазами строг.
– Пусть каждое твое слово станет для тебя обетом. Живи, Савва!
Поплевал на ладони, налег на корму, толкнул, и ладья, покачиваясь, пошла к берегу, гонимая попутной чередою волн.
Савва даже ног не замочил. Вышел на берег, и первое, что пришло ему в голову: у него своя ладья, которая чего-нибудь да стоит. И застонал от подлой этой мысли. Как зверь, катался по песку. За всю-то бурю ни единой молитвы у него не нашлось, слова единого ради сына, жены, братьев.
Потом он лежал, сидел, но летом на Севере тьмы не дождешься. И тогда пошел он, пронзенный светом, пошел куда глаза глядят, но прочь, прочь от моря и от прежней жизни своей. Не ведал, что сын, Енафа и братья-молчуны успели уйти за горизонт до бури. Смерч, опроставший его душу, опрокинул иную ладью.
У каждого зверя есть свое логово, у каждой птицы – гнездо. Вот и человек смел по земле гулять, по морю плыть, если хоть за Семигорьем стоит у него изба, или ветла, или речка течет, где в детстве воды нахлебался. Пришла Енафа сама-четвертая в Рыженькую.
Пришла к Настене в дом, и сестра приняла странников.
18
Савва был голоден, а потому зорок. И все же его и в жар и холод бросило, когда увидал на рыжем суку сосны рыжего, отливающего кошачьей серостью зверя – рысь. Над тропой устроилась. Еще бы десять шагов… При Савве была можжевеловая дубинка. Он нашел ее на берегу реки. Отмытая водами добела, прокаленная солнцем, она стала ему вместо посоха. Ею и стукнул по вывороченной с корнем березе.
– Вижу тебя, уходи!
Рысь охотно поднялась на лапы, беззвучно ощерила пасть, показывая клыки-ножи – вроде бы улыбнулась. Сиганула на соседнее дерево и пошла в глубь дебрей, сотрясая вершины.
У Саввы за ушами потекли струйки пота. Он сел на ствол березы, пожевал листочек. И хотелось ему, чтобы все у него было позади и всему конец. Довольно! Всякого нагляделся. Впереди лес да лес. Но в следующую минуту он уже торопливо шагал берегом реки, пока рысь не передумала.
Путь пересекла протока. Темная, глубокая. Пришлось пойти вдоль этой то ли старицы, то ли ручья. Лес пошел как волчья шерсть, дерево на дереве, теснота, темнота. Савва уж подумывал назад повернуть, как вдруг вышел на поляну с избушкой. Возле избушки стоял монах и, приложа руку к глазам, смотрел на пришельца.
Соловецкий инок Епифаний спасался в одиночестве. Река, которую он избрал для жизни, была рыбной, лес – грибной, болото – ягодное. Было у подвижника и два малых поля. На одном сеял рожь, на другом – горох.
Зимою гость – лишний рот, летом – помощник.
Епифаний, не спрашивая Савву, кто он и откуда, накормил ухой и клюквенным киселем.
– У меня верши поставлены, проверить пора, – сказал Епифаний, и Савва обрадовался делу.
Верши стояли в перегороженных протоках. Во всех трех была рыба: калуга, лещи, язи, нельма.
Мелочь Епифаний отложил на уху. Остальную рыбу распластал и кинул в котел с рассолом, а ту, что успела просолиться, повесил сушить.
– Часть рыбы у меня рыбаки забирают. Хлеб дают, соль. Мне больше ничего и не надо.
Епифаний, закончив работу, стал на молитву, а Савва до того устал, что пошел в избу, лег на пол и заснул. Пробудился от взгляда: Епифаний сидел на скамейке и глядел ему в лицо.
– Что? – спросил Савва.
– Ничего! – ответил монах и пошел к своей постели из елового лапежника.
– Спал, что ли, долго?
Епифаний помолчал, но признался:
– Третий день заканчивается.
– Так ты на покой?
– На покой.
– Старец, – сказал Савва, садясь. – Идти мне некуда. Совсем некуда. Дозволь пожить с тобою.
– Живи, – сказал Епифаний.
– Может, ты на меня испытание наложишь? Что у вас за самое строгое почитается?
Епифаний улыбнулся:
– Строже столпничества ничего не бывает… Если выспался, ступай к реке. Погляди на ее красоту. Там и Богу помолись. Квас – в корчаге, рыба – в горшке.
И заснул.
Квас был крепок и приятен – ягодный.
В узкое оконце, через бычий пузырь свет шел несмелый, но ровный. Савва сладко зевнул и вышел на волю. Небо и река, словно раскрытые створки жемчужницы, мерцали чудным святым светом. Савва сел на берегу реки, свесил с обрыва ноги.
Берег был усеян высушенными ветром, солнцем, морозом деревьями.
– Что же ты берега не жалеешь? – сказал Савва реке, горюя о погибших деревьях, и тут его осенило: «Поставлю-ка я себе столп!»
Он сходил в избушку, нашел топор и принялся за дело.
Когда Епифаний пробудился – столп уж был готов. Савва вкопал в землю пяток елок, каждая чуть потолще хорошей слеги, устроил в двух аршинах от верхушек настил. Вместо лестницы – удобные сучки. Епифаний удивился: скор пришелец и неистов. А Савва, поглядывая сверху вниз, вообразил себя пустынножителем и распевал молитвы, какие только знал.
Епифаний ушел в лес, примолк и Савва. Попробовал о вечности думать, о душе – перед глазами встали Енафа, весь его молчащий стол. И загляделся Савва на речную даль, сел, задремал.
Пробудила его – сырость. Небо от края до края серое, дождевая пыль сплошняком. Реки не видно. Изба едва мерещится.
Епифаний принес еду и овчину:
– Укройся!
В шубе теплее, но дождь все сильней да сильней. Назавтра так и не унялся, на третий день тоже.
– Хорошо столпникам в Палестинах! – сказал с досадой Савва и сошел на грешную землю.
Исповедался Епифанию во всех грехах. И монах сказал ему:
– Молись, Бог простит тебя.
Но Савва только плюнул под ноги, взял рыбы на дорогу и ушел к морю. Решил вернуться на остров Кий.
Может, и вернулся бы, да ладьи своей не сыскал. То ли унесло, то ли рыбаки увели.
Посидел на бережку, вспомнил все свои безобразия: уж наверняка послали Никону известие о его гибели. Новый прикащик разбираться с ним долго не станет, еще и на Соловки упечет, в каменный мешок.
– Не было тебя, остров Кий, – сказал Савва. – А может, и всей жизни моей не было.
Так и вернулся к Епифанию.
19
А где же, где же протопоп Аввакум со своею Анастасией Марковной, с детьми Иваном, Агриппиной, Прокопием, Корнилкой? А все там же – на корабле судьбины. Гнало тот корабль бурей все дальше и дальше от милой родины, от церквей с золотыми куполами, от домовитых людей, от всей русской жизни.
Ребята в дороге росли незаметно. Старшим было тринадцать, двенадцать, девять, младшему – четыре года. Аввакум, затаясь сердцем, ждал, что о нем забудут в переполохе воеводского отбытия. Енисейск – городок крепкий, деревянные стены крыты тесом. Одна сплошная башня по всей ограде. Жизнь устоялась, успокоилась.
Да и что такое протопоп для Российского государства? Сосна в бору. Но ох как зряча злоба! Она и в подлесок сунется, коли в лесу не сыщет. Сам святейший Никон вспомянул Аввакума и, не имея власти сдунуть непокорного, как пылинку, с самой земли – из Енисейска вытряс. Даже Якутск для протопопа был слишком хорош. В Дауры спихнул. В поход. С семейством, с малыми детьми, в трясины и пучины, под стрелы иноверцев, под десницу Афанасия Филипповича.
Протопопа отправили с последними судами, везшими продовольствие Пашкову. Отправили честь по чести, с государевым жалованьем – шесть пудов соли дали и дощаник – суденышко невеликое. Тот самый корабль, что во сне себе высмотрел.
Плыть хорошо!
В добрую погоду, под парусом – течешь с рекою, как облако в поднебесье.
– Вот тебе и Тунгуска – дикая река! – Аввакум блаженно щурился на светило, отирая с шеи благостный пот.
Берега стояли громадные. Лес, как войско перед врагом, – зело грозен, но и тих безмерно.
– Батюшка! Батюшка! – прошептал, бледнея, старшой сынок – Иван.
На каменной круче, заслоня глаза лапою, стоймя стоял здоровенный медведь.
– Любопытствует! Хозяин здешний.
– Петрович, неужто не боишься? – удивилась Анастасия Марковна.
– Который далеко, того не боюсь, – совсем развеселился Аввакум. – Ах, славно на воде! Меня к водам-то с детства тянуло.
– Вот и плаваем.
– Да нет, Марковна. Я про другое… Сколько мне тогда было – с Прокопку. Мы и от Волги-то далеко жили, но дохнуло вдруг на меня, Марковна, таким великим водным духом, что все во мне вскрутнулось, как в омуте. С той поры я все к отцу ластился, просил на Волгу взять. Почему-то понял, что не с Кудьмы пришел тот ветер. – Аввакум расстегнул рубаху на груди, оглядел ребятишек. – Снимайте, снимайте свои одежки, лето, чай! Мошку ветром сносит… Взял меня однажды отец на Волгу. В Лысково с ним ходили. Пеши! Отец на ногу был скор. Первый раз я тогда в Волге купался. Приобщился к России-матушке…
Примолк.
– Что же дальше-то? – спросил Иван, закидывая в реку удочку.
– Отец был добрый человек. Прихожане его любили. Но кто без греха… Сапоги он себе на базаре купил, да, прежде чем покинуть Лысково, выпил чарку на дорогу. Где выпил, там и оставил сапоги. Идем восвояси. Я помалкиваю, но – вздыхаю. Отцу же и вздохи мои показались укором. Кричит: «Иди сюда, сей же миг прибью!» Я не иду. А он пуще сердится. Что делать, покориться батюшкиной воле – страшно, не покориться – грех. Вот и подошел я к нему, как велено было. Взял меня отец за ухо и потянул за собою, не хуже упрямого быка. Я уж бегу, а он пуще моего спешит. Слезы из глаз сами собою льются, но молчу. Отец и опамятовался. Упал мне в ноги и вопрошает: «За что я тебя мучаю?» Криком кричит: «За что?» А я бы и сказал, да слов нужных не разумею. Уснул отец прямо на дороге. А проснулся – выздоровел от своей болезни и говорит: «Аввушка, пошли грибов наберем, с пустыми руками стыдно домой явиться». Так мы две рубахи белых принесли, батюшкину и мою.
– Водит! Водит! – закричал вдруг Иван, упираясь в палубу ногами.
Аввакум ухватил сына, потом уду, но и его тряхнуло.
– Не рви! – взмолился Иван. – Леска порвется. Таймень взял.
Так и вышло. Рыбу добыли саженную. Анастасия Марковна попотчевала рыбарей золотой ушицей.
– Скажи, батюшка! – спросил за ужином Иван. – Кто выше, отец родной или боярин?
– Отец боярина превыше.
– А превыше ли отец царя?
– И царя превыше.
– И Бога?
– Глупец! – И тяжелая длань взяла Ивана за вихор. – Бог сам всем отец! Неужто мякина в твоей голове? Ты погляди вокруг себя! Дети мои, посмотрите на небо, на реку, на берега – все от Бога. Великую красоту даровал нам Господь, и ничто не застит глаза нам в сей добрый час.
И запел Аввакум:
– «Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!»
Так и сидели они, прижавшись друг к другу, глядя на утесы, на кедры, – отец семейства, матушка, детушки.
– Сколько плывет в сей миг кораблей по морям, по рекам, по океанам? – вздохнул Аввакум. – И мы с ними, с плывущими. И на всех нас Бог глядит.
Аввакум с Марковной спали на палубе.
Налюбившись, глядели на звездные трясины, грея друг друга, чтоб теплом унять нутряную дрожь счастливого ужаса.
Небесное скопище неприметно для глаз ворочалось, придвигалось к земле, того и гляди хлюпнет и поглотит.
– Вот уж утроба-то! – сказал Аввакум.
– Люблю на Млечный Путь глядеть, – вздохнула Марковна, – на облачка звездные хоть бы разочек дунул звездный ветер. Грех, а знать хочется, что там сокрыто?
– Небесные пологи! – согласился Аввакум. – А укрывают они от наших глаз ангельские чертоги. Чего же еще?
Река несла дощаник[54]54
Дощаник – большая плоскодонная лодка.
[Закрыть] по самой середине, но заспаться крепко – Боже упаси. Еще и на медведя наедешь. Прибьет к берегу, а медведь, как баба, любопытен.
В предрассветных сумерках, очнувшись от дремы, Аввакум и впрямь увидал медведицу с пестуном и двумя медвежатами. Пили воду с берега. Медвежата еще кинулись берегом вослед кораблю, но пестун нагнал их и нашлепал.
Аввакум хотел Марковну разбудить, чтоб поглядела медвежьи игры, пожалел – спала не хуже Агриппины. Губки пухленькие, личико милое, стрельчатыми ресницами украшено.
– Спасибо тебе, Богородица, что даровала мне такую ласковую жену! – Аввакум покрестился и уж запел было потихоньку утреню, как трубный звук потряс горы, ударился о воду, сорвал с нее разом пробудившихся птиц.
– Лебеди! – ахнул протопоп.
Белое облако сошло с воды, взвилось в небо, запуржило круговертью и, редея, растаяло.
На сверкающем, как зеркало, утесе, вытягиваясь короной рогов к небу, ревел могучий изюбрь. То ли беда с его стадом приключилась, то ли здравствовался с белым днем.
Изюбрь низко склонил башку и водил ею над пропастью, вынюхивая врага, и ударил рогами кверху, и поднял само солнце.
– Господи! – Радость взрыдала в Аввакумовом сердце. – Господи! Сколько же красоты растворил ты в мире своем! Не нарадоваться нам до гробовой доски благодатью мира твоего!
Вместе с солнцем явилась его крылатая свита – соколы, и кречеты, и орлы поднебесные. Птицы изумляли красотой паренья и ужасали тех, кто спиной чуял орлиные взгляды.
За излучиной стояли три дощаника.
– Тебя поджидаем! – крикнули казаки Аввакуму. – Пашков прислал сказать, чтоб вместе шли, подождав отставших.
– Тати шалят?
– Шалят. Ссыльные люди, человек с пятьдесят, ушли на легких стругах из Балаганского и Братского острогов. Все с ружьями. Илимских пашенных крестьян пограбили, теперь на реке буйствуют.
– А я-то зверя страшусь! Думаю, что река мне защита.
Поплыли вместе. И уж ни земные, ни небесные красоты не ласкали взоры. Тревога погасила радость, река стала опасной, хуже некуда.
Насупились люди, и река насупилась. Потемнела, заплескала волнами. Низовой ветер вспенил барашки. И такая непогода занудела, хоть глаза закрывай.
Дощаник скакал по реке, как по булыжникам. Вдогонку ему накатывали волны, да такие, что берега потерялись. Бедное суденышко не успевало отряхнуться от одного вала, как обрушивался новый. Страх объял Аввакума. Он видел, как дощаник, будто тонущий человек, хлебал воду и, тяжелея, терял само желание побороться с волнами.
– Воду вычерпывай! – кричал Аввакум на свое вымокшее семейство и сам махал ведром скорее, чем машут лопатой.
Стало совсем черно. Дощаник осел по самую палубу.
– Господи, спаси! – кричал Аввакум клубящемуся над головой небу. – Господи, помози!
Марковна, прижимая к себе Корнилку и Прокопку одною рукой, другою Агриппину с Ваней, уводила их на нос, на самое высокое на дощанике место. Ветер унес с ее головы платок, волосы, такие тяжелые в косах, летали на ветру так и сяк, и то женщине в стыд и в укор, но жизнь детей была дороже срама.
И спасибо, спасибо ветру! Прибил дощаник к берегу, выскочило Аввакумово семейство на твердь, как с того света.
Сам Аввакум так написал о той буре: «И Божию волей прибило к берегу нас. Много о том говорить! На другом дощанике двух человек сорвало, и утонули в воде. Посем, оправяся на берегу, и опять поехали вперед».
20
Пашков стоял со своим отрядом на Шаманском пороге. Приводил к послушанию взбудораженное пашенное крестьянство. Свирепство беглецов до того напугало население края, что никто не решился поехать на ярмарку. Лучше без товара нужного пропадать целый год, чем лишиться живота на этой же неделе.
Прибежал к Пашкову Распутко Степанов, крестьянин Братского острога. В остроге сидело шестеро стрельцов. Где им было устоять против полусотни татей? Разграбили Братск с таким усердием, что и подметать не надо.
А тут еще илимский воевода Оладьин сообщил, что из его острога побежали Пронька Кислый да Васька Черкашин с товарищи. В Дауры подались.
Мрачен был Афанасий Филиппович Пашков. До Даурии тыщи верст, но можно ли оставить у себя в тылу лихоимцев, которые того и гляди затопчут едва зазеленевшие всходы крестьянской жизни? Уйдут местные пашенные крестьяне – на московский хлеб надежда малая.
Послал воевода своих сотников изловить разгулявшихся мужиков. Вестей от сотников не было. То ли сами пристали к вольнице, то ли сил мало, одолеть не могут гультяев. Как тут не помрачнеть? Сам себя упек в Дауры.
Еще в 1650 году, сразу как притащился в Енисейск на воеводство, отправил Пашков для проведывания новых земель боярского сына Василия Колесникова. Через год Колесников подал о себе весть из Баргузинского острога. Дескать, возле озера Иргень, в шести днях пути от острога, живут во множестве неясачные тунгусы. Озеро длиною в пятьдесят верст, шириной в двадцать. В трехстах саженях от Иргеня другое озеро – Ераклей. От Ераклея по Иногде можно дойти до Великой Шилки, а в Шилку впадает река Нерчь. Колесников просил сто человек стрельцов, чтобы поставить острожки и объясачить тунгусов.
Петра Бекетова отправил Пашков приводить тунгусов под руку царя. Бекетов же и дорогу уточнил в Дауры. От Иногды до Шилки четыре дня волока. Река Нерчь от устья Иногды в пятидесяти верстах. Земли здесь лучше, чем по реке Лене. Хлебопашество может быть отменным. Неясачных людей тоже много. От Иргеня до Нерчи три месяца пути.
В Москве, получив вести о новых землях, встрепенулись, да и прислали указ: «А ну, Пашков, ступай сам в Дауры, приведи даурские народы под руку великого государя».
Отвалили воеводе и его людям пятьдесят пудов пороху, сто пудов свинца, сто ведер вина, восемьдесят четвертей муки ржаной, десять четей круп, столько же толокна. Прибавили двух попов и – прощай.
Наказ о Даурской земле тоже не забыли прислать. Расписали, как жить и что делать, до мелочей, со строгостью. Воеводе надлежало «искати прибыли, которая вперед была прочна и стоятельна, и про золотую, и про серебряную руду, и про медь, и про олово, и про всякие узорчатые товары против сего указу проведовать, и даурского Лавкая князя к своей государевой милости призывать, что быти им под его государевой царского величества высокой рукою навеки, неотступно. И держать к тем иноземцам и ко всяким русским людям ласку и привет и бережение, а жесточи и изгони и насильства никому не чинить, чтоб Даурская земля впредь пространялась».
В Москве были рачительны к государевым людям и к государеву имуществу, а потому не забыли предупредить:
«В Даурской земле воеводе Пашкову всех людей посмотреть в лицо, принять челобитные. Чтобы они на Урке-реке жили милостивым призрением и жалованьем в тишине и покое. А которые начнут воровать – унимать. Зелье, пищали, соболей собрать, пересчитать у служилых. Поставить острог, воеводский двор, амбар для государевых запасов, жилецкие дворы, погреб для пороха.
Иноземцев принимать в цветном платье, служилым людям тоже быть в цветном платье и с ружьями.
Ясачных кормить и поить довольно. Проведать, есть ли пашни, чтоб впредь хлеба не слать».
Не забыли дьяки указать воеводе, что ему можно, что нельзя:
«На себя у торговых людей соболей, шуб, лисиц черных, шапок горлатных не покупать. С Руси товаров для себя не возить. Вина не курить. У себя держать людей для работ нельзя, чтоб утеснения не было».
В Москве зорко смотрели, чтоб воеводы за счет государя не разживались. За неисполнение указа полагалась воеводам казнь смертию.
Наказ не выделял, что по важности первое, что второе, но ведь недаром Афанасию Филипповичу от архиепископа Тобольского Симеона были присланы антиминсы для трех церквей[55]55
…были присланы антиминсы для трех церквей… – Антиминс – «вместопрестолие»: четырехугольный из льняной или шелковой материи плат, на котором изображается положение Христа во гроб; по углам помещается изображение четырех евангелистов, а на верхней стороне вшиваются частицы мощей.
[Закрыть] и приказано взять двух попов и диакона. В наказе значилось: «По сю сторону Шилки на устье Урки или в Лавкаевых улусах, где пригоже, где не чает приходу воинских богдойских людей, поставить острог и церковь Воскресения Христова с двумя приделами во имя Алексея митрополита и Алексея, человека Божия». Один Алексей был ангелом-хранителем государя, другой – наследника. Эти храмы на краю земли и были сутью похода.
Нет, не оттого хмурился Афанасий Филиппович, что далек его путь и что многое ему было заказано в государевой грамоте. Другое сердило: прошел такой большой рекой, столько верст позади – и ни гроша прибыли. Да и все не так, как надо. Глупый протопоп где-то застрял. И хоть знал Афанасий Филиппович, что протопопа отпустили из Енисейска на добрых полторы, а то и две недели позже, чем сам он ушел, но то печаль Протопопова.
Афанасий Филиппович желал, чтоб все было так, как сию минуту на ум ему, воеводе, пришло. Аввакум далеко, а поп Сергий близко. Приказал привесть.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?