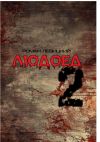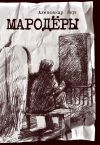Текст книги "Живые души, или похождения Лебедько"

Автор книги: Владислав Лебедько
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 4
«…старый мост над бывшим оврагом отделял собственно город от Троицкой слободы. Новый мост бывшей Московской заставы устроили в ходе начавшейся в 1891 году прокладки Великой Сибирской магистрали. К мосту подходила улица Ново-Александровской слободы, и от вокзала – Малое бывшее шоссе, после 1864 года – Вокзальная улица. На мосту, над полотном Рязано-Уральской железной дороги – расстаёмся с улицей Ново-Александровской слободы и вступаем на Московскую улицу города. По сторонам улицы сохранились прилепившиеся один к другому каменные двухэтажные особняки состоятельных купцов, разнясь, порой, лишь стилем неброских фасадов. Отдельные здания примечательны не столько внешним видом, сколько историей своей и хозяев. Жили на Московской улице до 1917 года семьи таких фамилий: Придонцевы, Селивановы, Юкины, Чуковы, Абумовы, Любимовы, Маркины и другие…» – сию путевую заметку, невесть откуда взявшуюся, читал Владислав Евгеньевич, въехавши в славный город Рязань. Лебедько, как истый сын не токмо Европы просвещенной, но и безбашенной Азии, отдавал себе, в некотором роде, отчёт о роли последней в русской жизни. Как говаривал в своё время герой Достоевского – Митя Карамазов, «широк человек, слишком даже широк. А я бы сузил». Вот ведь и складывается, что широтою души своей русский человек обязан бескрайним азиатским просторам, начинающимся отнюдь не от Уральского хребта, а как раз таки от Рязани, автор хотел было, попервоначалу, замахнуться так, чтобы сказать, что, мол, даже не от Рязани, а от самой Москвы-матушки, да не дерзнул – робок.
Однако же давай, дорогой читатель, на пару минут отвлечёмся, оставив нашего путешественника, сидящего в своей «тройке» при въезде в Рязань, изучать схемы и путеводители, а сами пустимся неким образом в философствование… Итак – Азиат – слово сие отсылает нас к великому множеству смыслов. Среди оных найдём мы свободолюбие, простор и вседозволенность, – ту самую вседозволенность, что проистекает не из консервативной морали, а из глубинных недр души человеческой. Русский азиат не сводим ни к истерику, ни к пьянице или преступнику, ни к поэту или святому – в нём всё это помещается вместе, в лихо закрученной совокупности всех этих свойств. Русский азиат – это одновременно и убийца, и судия, буян и нежнейшая душа, законченный эгоист и герой совершеннейшего самопожертвования. В таком человеке внешнее и внутренне, добро и зло, бог и дьявол неразрывно слиты. Ежели мы сподобимся окинуть взором ближайшую перспективу времени, то, несомненно, углядим в русском азиате новый идеал, угрожающий самому существованию прогнившего насквозь европейского догматического духа. Идеал, как представляется нам, обладающий совершенно аморальным образом мышления и чувствования, способностью прозревать божественное, необходимое и судьбинное во всём окружающем его, в том числе, в так называемом зле и безобразии, которые он способен чтить и благословлять. Однако же, двигаясь подобным образом в дальнейших рассуждениях, рискует автор заехать напропалую к вещам совершенно уже невообразимым, могущим сбить добросовестного читателя с панталыку. А посему не будем так уж сразу усердствовать, хотя автор и имеет к данной теме некое пристрастие.
Вернёмся к нашему герою: изучивши, помимо карты, путевые записки некоего, не оставившего нам своего имени, негоцианта, с кратким отрывком из которых досточтимый читатель имел удовольствие ознакомиться в начале главы, Лебедько с негодованием выругался, ибо не нашёл среди перечисляемых там Юкиных, Чуковых и Абумовых, славной фамилии Карамболь. Григорий Михайлович Карамболь, делавший при произношении своей фамилии акцент на второе «а», во всякой беседе, сего предмета касавшейся, был настойчив, что называется, до мордобоя, утверждая, будто фамилия его принадлежит истинно русской династии и даже будто бы восходит к кому-то из бояр времён Ивана Грозного. Являлся он уроженцем Рязани, впрочем, в буйные годы молодости проживал некоторое время и в Москве, обучаясь в Высшей Художественной Школе, а позже – в начале восьмидесятых сойдясь коротко с кружком Югорского переулка. После перестройки Карамболь воротился в Рязань, где и проживал, между прочим, как раз на Московской улице, ныне переименованной в Первомайский проспект. К началу нового века Григорий Михайлович достиг довольно громкой и даже скандальной известности в художественных кругах Рязани. Картины его неплохо продавались, а выставки случались в Москве, Питере и даже за границей. Писал Карамболь сначала довольно-таки реалистичные картины с выраженной славянской тематикой: эдакие, знаете ли, хороводы на фоне берёзок, бородатые мужики в вышитых рубахах или, положим, стоптанные крестьянские лапти, от которых исходит немотствующий зов земли русской. Затем живопись его стала всё более съезжать в область каких-то загадочных символов, появились в ней даже некие ацтекские мотивы, однако сам Карамболь настаивал, что сии символы явились ему в результате изысканий истоков славянской цивилизации.
Григорий Михайлович считался носителем древней русской традиции скоморошества. Учеников у него по этой части было много и, как правило, ими являлись представители бомонда питерских и московских художников, писателей и рок музыкантов. На каждом из них Карамболь норовил как-нибудь, да нагреться, называя это учебными ситуациями. Обыкновенно подобная история выглядела следующим образом. Григорий Михайлович брался оформить обложку диска или книги кого-либо из своих учеников. А, настропалившись ещё в молодые годы по части тонкостей юридических операций, так улаживал дело, что весь гонорар с диска или книги шёл ему прямёхонько в карман, а ученик оставался с носом. А если и пробовал кто-то причитать, то мастер, гневно сверкая очами, грозился выгнать недовольного из учеников. Методы же обучения у Карамболя были самыми что ни на есть экстравагантными. Руководствовался Григорий Михайлович, по правде говоря, прежде всего, своей наглостью и ярко выраженной смекалкой, – совершая с учениками разного рода трюки и провокации, он умел ловко вытащить на свет божий самые грязные струны их душ и вволю потешался над ними, называя эти свои фокусы самым что ни на есть скоморошеским искусством. Впрочем, возможно, всё так именно и обстояло, да вот, однако же, получалось, что с каждой подобной выходки имел сей скоморох весьма существенную поживу, как правило, выражающуюся в денежном эквиваленте.
Автор не ставит своей целью подробно распространяться о многих весьма забавных историях, связанных с именем Карамболя, потому как читатель уже, вероятно, догадался, что художник, черты неугомонного характера коего мы набросали несколькими достаточно грубыми мазками, как раз таки и являлся целью приезда Лебедько в Рязань. Для большей полноты картины стоит лишь заметить, что это был человек долговязый, лет шестидесяти, однако изо всех сил молодящийся, говоривший по обыкновению энергично и задиристо, и норовящий с первого же шага залезть собеседнику, что называется, прямо в селезёнку. Жил он со второй своей женою Евфросиньей Сергеевной, рекомендовавшейся, впрочем, как Ева и с двумя её сыновьями-десятиклассниками. Про неё можно сказать отдельно, что это была поистине продувная баба, в чём собственно читатель в своё время будет иметь удовольствие убедиться. Здесь же в Рязани жила и дочь Карамболя от первого брака с мужем своим – Валерием Георгиевичем Маламентом, мужчиной лет пятидесяти, ходившим у Григория Михайловича в учениках, причём сие можно понимать буквально, ибо Маламент всюду, где только возможно, увязывался за учителем, отважно претерпевая всяческие выходки и насмешки последнего.
Всю эту информацию Владислав Евгеньевич дотошно выпытал ещё в Питере у словоохотливого Малкина, который, в свою очередь, в начале девяностых годов двадцатого века находился с Григорием Милайловичем Карамболем в весьма тесных сношениях. В чём, однако, эти сношения состояли, Малкин так и не открылся, всячески увиливая от вопросов Лебедько на эту тему, из чего можно сделать один только вывод, что был Фёдор Валерьевич из числа тех, кого рязанский скоморох ушучил и высмеял на свой лад.
Замешкавшись несколько в дороге, Владислав Евгеньевич едва поспевал на назначенную Карамболем встречу, которая была уготована ему на той самой Московской улице, о которой уже шла речь, в трактире с бойким названием «Ядрёна Матрёна». Трактир был обустроен как бы нарочно для иностранцев, то бишь, так называемые русские черты, к примеру: дубовые лавки, сарафаны, надетые на официанток, разного рода предметы домашней крестьянской утвари, развешанные на стенах – не хватало разве что медведя, приплясывающего с балалайкой, – все эти черты были выказаны на вкус автора, излишне выпукло, да вот, поди ж ты, – может разве остановиться русский человек возле какой-то разумной границы? – нет, норовит он размахнуться, как говорится, во всю Ивановскую.
Путешественник наш прибыл в «Ядрёну Матрёну» с десятиминутным опозданием. Посетителей в дневное время оказалось немного, и Лебедько в два счёта угадал столик, за которым маячила долговязая фигура Карамболя. Последний был не один, а как то и предчувствовалось, в сопровождении неотвязного Маламента, казавшегося по сравнению со своим спутником даже каким-то лилипутом. Не будучи ещё в годах преклонных, лицо Маламент имел весьма изжёванное, голову его украшала большая круглая лысина, да и сам он производил какое-то неопрятное впечатление, хотя и был одет в весьма модный костюм. Учитель же, напротив, являл собой пример эдакой глянцевой моложавости: лицом был гладок, шевелюра его была густа и ниспадала на плечи, щегольская рубаха производила вид отменной отутюженности. Ко всему прочему, Карамболь распространял вокруг себя густой запах дорого одеколона, чувствовавшийся метра за три. На столе высился внушительных размеров початый графин водки, в круг которого стояло ещё и несколько закусок. Григорий Михайлович пребывал в благостном расположении духа и, вопреки переживаниям Лебедько, не проявил никаких признаков недовольства опозданием гостя. Напротив, приезжему была налита рюмка водки и предложено отведать «всё, чем боги послали», как выразился мастер. Все попытки Владислава Евгеньевича увильнуть от выпивки под предлогом нахождения за рулём оказались несостоятельны. Карамболь, чокаясь за знакомство, приговаривал: «Помилуйте, голубчик, да как же это вы грибочки будете помимо водочки кушать?!» Впрочем, далее художник уже решительно не замечал Лебедько, оставив его в зрителях разгорающегося своего спора с зятем. В таком пренебрежении всяк, кто хоть немного знаком с приёмчиками русских мастеров провокаций, разглядел бы, пожалуй, некий ход, типа проверки на вшивость, мол случится гостю обидеться или из гордыни пытаться встревать – так и ступай себе прочь не солоно хлебавши. Приезжий смекнул, к чему может привести его неосторожное поведение и, успокоившись, подналёг на жареные баклажаны да на мясное ассорти. Тем временем учитель вещал, обращаясь к Маламенту: «Ты, брат, учти, что славянская ментальность – тема особая. Это, можно сказать, наиболее обширная ментальность в Евразии. В своё время – десятки тысяч лет назад, опосля всемирной катастрофы, остатки арийской расы стали уходить из зоны резкого похолодания, образовавшейся примерно там, где сейчас находятся Ямал и Таймыр, – на этих словах он даже ткнул Маламента вилкой в грудь, – и вот, душа моя, шли они двумя рукавами – одна часть дошла до Индии, а другая – на запад, где и осела в виде таких племён, как поруссы, полабы, поляне, коих мы сейчас можем иметь удовольствие лицезреть как чехов, поляков и югославов. А вот северная ветка славян угнездилась в районе между Ладожским озером и Волгой, смешавшись там с татарами, половцами, тюрками и хазарами. Это племена взяли основу славянского языка, который, заметь, – тут вилка вновь была нацелена в Маламента, однако тот выказал даже некоторую ловкость, не свойственную его облику, умудрившись увернуться, – так вот язык этот стал русским. Но русский как национальность – недоразумение. Русский, душа моя, – это прилагательное, и заметь, единственное среди названий народов: немец, поляк, англичанин, китаец и даже папуас – всё это существительные, а русский – прилагательное. Тут, брат, сложное смешение кровей имеет место быть. Поэтому мы – как бы люди без национальности, а это не что иное, как либо преступление, либо диверсия, любо ещё что-то в этом роде. Русский – это недоразумение. Это неграмотно. Неграмотно и название Россия. Правильно было бы назвать Рассея, как зона рассеяния славян, а мы с тобой, душа моя, знаем, что, ежели в начале лежит ошибка, то в конце – уж непременно ложь. И ложь эта пронизывает насквозь всю русскую ментальность!» – сказано сие было с пафосом, а вилка ухитрилась-таки достать Маламента, несмотря на его отчаянные попытки улизнуть. Впрочем никакого физического вреда она ему не принесла, а однако ж оставила на и без того несвежей рубашке жирное пятно. «Позволь, – отвечал Валерий Георгиевич, отмахиваясь от вилки – но ведь сама Русь возникла и сколько-нибудь упорядочилась из разрозненных племён только после крещения». Карамболь страстно воздел руки к небесам, после чего с грохотом опустил их на стол – «Э, брат! Вот тут ты как-нибудь да заврался! Признайся, что заврался! Христианство – это диверсия, я лично исповедую одного только бога – Природу. А для чего нужен христианский обман, – только для одной цели: если стадо баранов не знает, куда их ведут, то они спокойно придут даже на бойню. Не дай бог, в стаде заведётся овца, которая узнает, что их ведут на бойню. Поэтому народ должно держать в темноте. Кому это выгодно – отдельная история. Православие же – несъедобная смысловая смесь, которая забивает головы поколению за поколением. Массовый обман и калечение людей – вот что я тебе скажу. Тут, душа моя, имела место долгосрочная диверсия – стаду баранов подкинули морковку, повредив славянскую ментальность» – «Это какую такую морковку? Объяснись» – «Изволь! Морковка эта – пресловутое бессмертие души. Ведь простой человек не имеет в себе сил почуять разницу между душой и духом, а посему и рад верить, что вот так как он есть, так прямо в рай и попадёт, ежели будет следовать церковной догме.
Подкинули нам эту морковку, и теперь делай с нами что хоть». Маламент изобразил на лице своём крайнее удивление и встрепенулся: «Позволь, Гриша, я тебя не понимаю. Ты же сам сколько раз, помню, твердил о бессмертии – как же ты противоречишь сам себе?» В ответ Карамболь лишь рассмеялся. «Вот тут ты, милок, и попался! Человек бессмертен на духовном уровне, а телесное и душевное – оно пришло и ушло, но девяносто девять процентов людей решительно не понимают разницы между словами дух и душа, посему – о чём тут говорить? Конечно, всякое время рождало попытки разобраться в сути вещей, те же христианские мистики – Экхарт, Таулер, Сузо, Дионисий Ареопагит – намекали об этом, рискуя попасть на костёр инквизиции. Многие и попадали, а остальные или молчали, или писали иносказательные тексты» Можно было бы написать в этом месте, что «повисла тишина», спорщики и впрямь смолки, но тишины не образовалось, ибо из колонок над барной стойкой наяривал «русский шансон». Карамболь и Маламент в этот момент выпили ещё по рюмочке, не удостоив на этот раз Лебедько никаким вниманием, как будто бы его здесь и вовсе не было. Затем Валерий Георгиевич проявил некое оживление, должно быть, осенённый мыслью: «Ну а скажи, Гриша, можешь ли ты привести в пример кого-нибудь, кто явил бы в себе черты, так сказать, незамутнённого славянского духа», – «Отчего ж, и приведу! Вот тебе, душа моя, – Фёдор Карамазов – отец» – «Шутить изволишь? Ведь это же известный подлец из подлецов, каких земля русская знала!» – «Отнюдь! Конечно, ежели смотреть с консервативно-буржуазных позиций, то Фёдор Карамазов – герой отрицательный, но мы же с тобой, душа моя, делаем себе отчёт, что сами основы консервативно-буржуазного мышления как раз и являются источником разложения и смрада в наше время, стало быть, отрицание отрицания даёт нам в высшей степени положительную окраску Фёдору Павловичу Карамазову. Это, можно сказать, символ, несущий в себе не только вызов христианскому консерватизму, но и его конец, который уже близок. Фёдор Карамазов эксцентричен, в нём мы можем видеть игрока, балансирующего в неустойчивом равновесии, здесь он сродни самому Джокеру, срывающему с людей все и всяческие маски. Он жизнелюб и любит жизнь во всех её проявлениях, что заметь, душа моя, очень ценно. Современный, знакомый нам повсеместно человек, перестал любить жизнь. Он уныл и депрессивен, погружен в свои личные страхи и надежды, и тем только и занят, что ищет повсюду иллюзорные гарантии собственной безопасности. Не таков Карамазов – отец, проживающий обнажённым нервом каждое мгновение жизни и, кстати, – вилка вновь потянулась к Маламенту и упёрлась в его живот, – умеющий наслаждаться и радоваться и по мелочам и по-крупному! Это человек, который рвётся прочь от определённых свойств, качеств и от самой морали. Он ничего не любит и любит всё, он ничего не боится и боится всего – этот человек – снова неоформленный праматериал духовной плазмы. Такие люди отличаются от христианизированных людей, напитанных одним только порядком, расчётом да показной положительностью. Постигни, душа моя, суть Фёдора Карамазова, и ты постигнешь нашу русскую тайну!»
Налили ещё по рюмке и, осушивши, собрались покинуть трактир. Тут только взгляд Карамболя как бы невзначай скользнул по Лебедько. Голос его изобразил удивление: «Ба! А гость то наш, поди, заскучал!» – «Ничуть! – бодро отозвался Владислав Евгеньевич – премного преуспел в постижении, так сказать, русского духа, наслаждаясь вашею беседой». Григорий Михайлович потрепал приезжего по плечу: «Давайте-ка, голубчик, завтра зайдите в мою мастерскую часам эдак к трем – там и посудачим о том да о сём», – передана была визитка, после чего наш герой, выйдя из трактира, стал приискивать себе жильё, в чём через некоторое время преуспел, ибо недорогих гостиниц в Рязани хоть пруд пруди.
Занявши номер, приезжий отправился бродить по городу. Однако прилежности внимания его не хватило на то, чтобы хоть как-то оценить архитектуру строений города или же присмотреться к его обитателям. Мысли путешественника были сбиты с толку тем приёмом, который явил ему Карамболь в трактире. О, это был далеко ещё не маразматик, а напротив человек в зените духовной силы. Это был мастер, если так можно выразиться, – «вычитания». Лебедько слыхал про таковых от Малкина: в некоторых советских эзотерических подпольных группах, работавших в семидесятые-восьмидесятые года двадцатого века, знаменитый тезис Фридриха Ницше: «падающего – подтолкни» – понимался совершенно буквально. Люди в такой группе норовили подставить друг друга в какую-нибудь пренеприятнейшую историю, так, чтобы проходящий проверку смог испытать не только некоторый конфуз или замешательство, но зачастую и вовсе потерять лицо – публично или хотя бы перед товарищами. Ежели после такой проверки на вшивость человеку удавалось оправиться, то считалось, что испытание пройдено. Объяснялась подобная жестокость друг к другу модным в ту пору убеждением, состоявшим в том, что выйти к Сущности невозможно иначе, как путём «вычитания» всего, что проявляется в личности. Великим мастерством считалось умение узреть в товарище ту потаённую слабость или черту характера, которую может он сам-то от себя тщательно скрывал, и выставить её напоказ. Карамболь как раз и прослыл мастером такого рода экзекуций. Надобно сказать, что, обладая подобным талантом, Григорий Михайлович принялся применять его не только к сотоварищам и ученикам, но и ко всем, кому ни попадя. Можно сказать, что Карамболь был исторический человек. Где бы он ни появлялся, – не обходилось без историй. Несколько таких историй Малкин поведал нашему герою, напутствуя его в путешествие.
Году в девяносто пятом дочке Григория Михайловича от первого брака приспела вдруг охота выйти замуж. Родители жениха были людьми весьма уважаемыми в Рязани и всенепременно хотели устроить сватовство, как говорится, «по правилам». Назначали смотрины, где должны были встретиться родители невесты и родители жениха. Карамболь явился в отутюженном костюме и учтиво со всеми раскланивался. Родители жениха были в восторге. Они поминутно вскидывали руки и восклицали: «Ах, какая у вас чудесная дочь!» Григорий Михайлович несколько времени смотрел на их восторги, а затем, после очередного восклицания, расстегнул ширинку на брюках, достал свой детородный орган и, постукивая им по столу, молвил: «Конечно, чудесная! Вот этой самой штукой я её и сделал!» В рядах родственников жениха случилась паника и ажиотаж; жених, красный как рак, шлёпал губами, не в силах произнесть что-либо внятное, а его родители, страшно суетясь, пытались судорожно одеться, что в таком состоянии им давалось трудно, ибо рука в рукав не попадала или попадала, да не в тот. Наконец, это им удалось, они схватили под микитки несопротивляющегося жениха и умчались восвояси. Жених оказался разоблачён как «маменькин сынок», что дочка Карамболя смогла увидеть сразу же, а не спустя пару лет маяты с ним. Вступивший с ней в супружеские обязанности Маламент, по-видимому, так же был подвергнут суровым испытаниям, о содержании коих, впрочем, сказать сложно. Судя по взаимоотношениям Маламента с Карамболем, Валерий Георгиевич сумел-таки как-то приспособиться к выходкам тестя, более того, в случае надобности Карамболь использовал его в качестве поддужного, заставляя подыгрывать себе тогда, когда необходимо было «вычесть» кого-то третьего.
Лебедько ни минуты не колебался в том, что, будучи натурой артистической, и никогда не упуская шанса проявить свой талант вычитателя, Карамболь наметил его в качестве очередной жертвы. Судя по всему, прелюдия к «вычитанию» началась уже в трактире. Владислав Евгеньевич вообразил, что весь разговор Карамболя с Маламентом был сыгран специально для него, и, судя по его реакции на нарочитое пренебрежение, будут выстраиваться следующие ходы. К ужасу своему, Лебедько вдруг понял, что не владеет никаким козырем, дабы выудить очередное посвящение – более того, ему уже приуготовляется участь позорно провалиться, а случись подобный провал – дальше ходу нет. Слухи о подобном казусе неминуемо дойдут до Муромцева, и вход к нему будет заказан, несмотря даже на уже имеющиеся рекомендации от Беркова и Закаулова.
«Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить! – пытался успокоить себя Владислав Евгеньевич, – вообразил, будто бы тебя-то тут только и ждали, чтобы поглумиться», – однако подобные самоувещевания особой бодрости не прибавляли. Тогда наш авантюрист решил, что нарочно употребит все свои силы не столько, чтобы получить посвящение, сколько для того, чтобы не упасть в грязь лицом и уйти от Карамболя с минимальным убытком для своей репутации. Что и говорить, герой наш трухнул, однако ж, порядком. И, воротясь в свой номер, прилёг в меланхолическом настроении на диван. Время было ещё не позднее, спать Лебедько пока не намеревался, а лишь лежал да пытался судорожно сообразить, как бы ему половчее отбиться от посягательств Карамболя. Да только посуди сам, почтенный читатель, – что тут можно заранее придумать, ежели даже и не знаешь, с какой стороны последует зуботычина. Помаявшись часик в бесплодных поисках упреждающих действий, путешественник, не найдя оных, стал даже злиться на то, что судьба занесла его в Рязань, – а нет бы поехать мимо к кому-либо более безобидному. Тут было много посулено Григорию Михайловичу всяких нелёгких и сильных желаний; попались в его адрес даже и весьма крепкие слова. Что ж делать? Русский человек, да ещё и в сердцах. К тому же и дело было совсем не шуточное. Исчерпавши запас гневных посулов, Владислав Евгеньевич несколько успокоился, начал, было, позёвывать, да как-то незаметно провалился не то что бы в сон, а в лёгкую полудрёму. Давай и мы с тобой, драгоценнейший читатель, поднатужимся заглянуть под покрывало Морфея, дабы разглядеть привидевшиеся Лебедьку образы да послушать его обращение с ними.
А видится ему донская станица и бравый казак, возлёгший отдохнуть на крутом берегу великой реки. Он усат, лихой чуб вьётся, вырываясь из-под круто заломленной фуражки. Острая сабля лежит рядом в траве, хлопец же устремил взоры свои к величавому закату. Оставим Владислава Евгеньевича созерцать сей колоритный персонаж и задумаемся на минуту, что он может явить для нашего героя в эту нелёгкую для него минуту. Казаки, как издревле повелось на Руси, завсегда слыли как передовые отряды бойцов с очень высоким качеством самоорганизации и дисциплины. Казаки, в отличие от других военных частей, располагались не отдельно, а целыми станицами, включая баб, стариков и детей, живших практически по военному распорядку. В высшей степени важным являлся налаженный тыл и быт, где немалым подспорьем была семья. Дисциплину в такой семье надобно было держать на должном уровне: бабу – строить, детей с малолетства обучать военному искусству, стариков – поддерживать и слушаться. Вообще, казак – это человек определённого морального склада, можно сказать, правильного склада, имеющего твёрдые убеждения, неколебимую веру в бога, царя и отечество, готовность по первому сигналу напропалую рвануться в самую горячую схватку.
Размышляя подобным образом, мы можем сказать, что наш герой по отношению к казакам имел решительно как некое превосходство, так и определённого рода недостатки. Он мог себе позволить запросто поведение аморальное и бесшабашное, отсутствие определённой веры и уж, тем более, твёрдых убеждений, что придавало поведению его известного рода гибкость. Лебедько, пожалуй, не раз хвалился перед собою же или, случись, перед кем другим этим вот своим вольнодумством, сибаритством и отсутствием всяческих обязанностей, что давало видимость некой свободы. Свободолюбием своим Владислав Евгеньевич дорожил и весьма. Зачем же явился ему в вечерней дрёме накануне трудного испытания образ казака? Единственный вывод, который напрашивается сам собою – казак вызвал к жизни символ той части души нашего героя, которая старательно им вытеснялась и подвергалась жёсткой цензуре. Всем своим видом прилёгший отдохнуть казак говорит, несмотря на свою внешнюю расслабленность, о подтянутости и дисциплине. Он готов в любую минуту, даже будучи пьян, собраться и выступить на защиту рубежей и традиционных ценностей, на защиту дедовского родового уклада, коим он гордится, который любит и чтит, зная своё место и вписанность в систему, намного большую, чем он сам. Практика построения дома и семьи, ведение и управление хозяйством, порядок, цепь преемственности, приставленные где надо руки и голова, смекалка, интуиция и смелость, и очень крепкий стержень внутри. Стержень, имеющий корни в родимой земле. И, с точки зрения казака, наш Лебедько оторван от корней, оторван от земли. У него нет стержня, да и все-то его рассуждения о свободе – не более чем попытка убежать в какие-то непонятные иллюзорные миры. Дом казака – его крепость, семья казака – его крепость, и поэтому он неуязвим, ибо крепость эта даёт казаку причастность к месту своему в жизни. У Лебедька крепости нету, он уязвим, ежели всмотреться пристальнее, то он даже не перекати-поле, а чёрт знает что, какая-то размазня и тряпка, соскальзывающая с тех незыблемых ценностей, кои должны пронизывать всю основу бытия каждого человека. Вот что мог бы сказать наш казак, о Владиславе Евгеньевиче, а последний только бы руками развёл, не имея чем оправдаться.
Тут автору представляется Родион Раскольников, сидящий в своей чердачной комнате и с тоскою глядящий в окно. Ему, как известно, надобно мысль разрешить и притом так, чтобы к этому решению прислушалась вся общественность. Властителем дум хочет быть Раскольников, понимая, в то же время, как трудно осуществить заветное желание, ведь все места властителей заняты. Периодически взгляд его скользит по окнам дома, стоящего напротив: на окнах висят красивые ситцевые занавесочки, одно из окон приоткрыто: виден стол, самовар, девушки, пьющие чай с бубликами. Вот, казалось бы, о чём можно взгрустнуть, о чем позавидовать, глядя со своего чердака. Но даже в страшном сне не пожелал бы себе Родион Раскольников такой доли – просто пить чай, сидя за ситцевой занавесочкой. Лучше уж побрататься с пьянью кабацкой. Так и Лебедько не пожелал бы себе и в страшном сне такой степени порядка и дисциплины, как у казаков, и несёт он свои свободолюбивые мысли, за которыми, признаться, маячат расхлябанность и разболтанность, – в мир. А казак-то тот, что на берегу Дона развалился, уже и смехом заливается и тычет пальцем в сторону задремавшего путешественника-авантюриста. И один этот жест как бы выказывает последнему всё, о чём мы с тобой, дорогой читатель, размышляли. И вот уже Владислав Евгеньевич очнулся и, пребывая в замешательстве, долго трясёт головой, приговаривая: «Надо же такому привидеться, чёрт возьми! А ведь и впрямь тут, сударь ты мой, конфликт, – можно сказать драма души!» Сотрясая воздух указательным пальцем правой руки, как будто грозящим кому-то, путешественник тужится, было, свести открывшуюся ему в видении, мягко говоря, неловкость к шутке, театрально разыгрываемой перед неким воображаемым «сударем». Однако на душе нашего героя скверно, ибо, как нарочно, не отбиться уже никак от горького осознания заполонившего мысли. И самые мысли эти мечутся в разные стороны: с одной стороны, теперь уже никак не отмахнуться от видения того, что то, что ранее считал достоинством, – является самым что ни на есть недостатком, и выглядит он сам в своих же глазах аки шут гороховый. С другой стороны, шут гороховый – это же и есть настоящий скоморох, а посему – может, все и так достаточно ладно? И всё же остаётся горький привкус, что вся жизнь его выказана ему как неубедительная и неосновательная. Однако же неубедительная перед кем? Перед самим собой? Тогда кто этот самый «сам собой»? Перед какой частицей души своей приходится Владиславу Евгеньевичу сейчас держать ответ?
И тут Лебедько вспоминает, что давеча в трактире Карамболь увещевал Маламента в том, что циник и негодяй Фёдор Карамазов, дескать, сродни самому Джокеру. Разволновавшись не на шутку, Владислав Евгеньевич тщится вызвать в воображении своём образ этого самого Джокера, что, в конце концов, ему сколько-нибудь да удаётся. Образ рисуется весьма абстрактный и туманный. Однако же, нет сомнения в том, что сей мерцающий всполохами огоньков то здесь, то там и постоянно норовящий измениться контур не то карлика, не то исполина – и есть этот самый Джокер. Взывает к нему наш бедолага: «Вразуми меня непутёвого – скоморошество ли мой удел, либо жизнь моя действительно бестолкова и расхлябанна?» Как будто бы из бури ответствует ему хитрый голос образа: «А ты, братец, человек пилотажу высокого, но не убедительного, – оригинал величайший – самого Джокера сымитировал. Ты – пародия на меня!» – «Пародия на Джокера? Наконец-то имя для меня найдено, как говаривал старик Островский!» – «Да ты хват! Откусил от меня кусок и фактически создал вокруг него некий мирок и даже убедить и себя и окружающих умудрился, что вот такой Джокер и есть! Комнатный Джокер, ха-ха-ха! Да ты, брат, не стыдись, ибо в тех условиях, в которых ты живёшь, это можно даже неким мастерством назвать. Я, как Джокер, свидетельствую – ты мастер! Очень своеобычный, ибо остальные мастера, они в чём-то основательные, а ты – мастер неосновательности. Надобно тебе медаль соорудить специальную и выдать от имени международной организации «Рога и копыта», – тут расплывчатый до того образ превратился в Арлекина с бубенчиками в голове и пошёл ходить колесом, удаляясь к линии горизонта, а затем и вовсе превратившись в точку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?