Текст книги "Петербургские трущобы. Том 1"
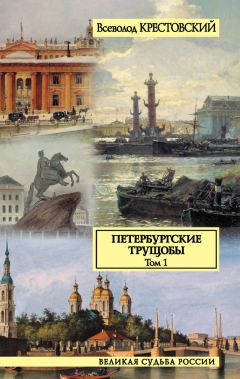
Автор книги: Всеволод Крестовский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 49 страниц)
XXX
ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В карете она молча сидела, завернувшись в салоп, и не снимала маски. Князь насвистывал какой-то куплетец.
– В чем же дело? – спросил он с улыбкой, стараясь отыскать ее руки.
– После, – коротко ответила маска и завернулась еще крепче, стараясь этим движением положить предел его исканию.
– Ну, теперь мы можем говорить спокойно: сюда больше никто не войдет, – сказал он, запирая на задвижку дверь за ушедшим татарином, который принес им в отдельный кабинет ресторана ужин с замороженной бутылкой вина в серебряной вазе и затопил камин.
Женщина сняла свою маску – и князь Шадурский, при первом взгляде на ее лицо, невольно отшатнулся несколько в сторону от неожиданного изумления.
Перед ним стояла Бероева.
Читатель помнит, конечно, что одна из невинных шалостей молодого князя Шадурского выпала на долю Юлии Николаевны Бероевой и была разыграна с нею в блестящем будуаре генеральши фон Шпильце, при непосредственном участии этой добродетельной особы, купно с доктором Катцелем. Вероятно, не забыты также и те печальные последствия, какие шалость эта принесла за собою Бероевой.
Муж ее предполагал вернуться из Сибири не ранее семи-восьми месяцев, но подошли такие обстоятельства с промысловыми делами, что задержали его не на восьми-, а на одиннадцатимесячный срок.
Юлия Николаевна, всеми силами скрывавшая от окружающих свою беременность, разрешилась мальчиком в его отсутствие. Она сказала домашним, что едет недели на две в Москву, к родным своим, оставила деньги на содержание детей и дома, а сама отправилась к одной из петербургских акушерок. Мучительная боязнь подорвать свое тихое, невозмутимое счастье семейное, боязнь за странную участь ребенка, если бы он остался непрошеным членом в семье, и страх за то невольное сомнение, которое, быть может, затаенно заронилось бы в душу так многолюбимого ею мужа, не покинули ее и до последней минуты. Вместе с ними не покинуло и раз принятое решение – скрыть все эти грустные обстоятельства от окружающих и прежде всего от мужа.
Ребенок родился хилый, слабый – и, Боже мой, с какою гнетущею тоскою посмотрела на него мать в первую минуту облегчения после родов, когда акушерка поднесла к ней показать его! Какое-то странное, раздвоенное чувство проснулось в ее наболевшей душе: мрачная ненависть к отцу и теплое чувство материнской любви к не повинному ни в чем ребенку.
– Что ж, как вы думаете, отправить бы нам его поскорее в воспитательный? По крайней мере разом концы в воду? – предложила акушерка.
Бероева до рождения на свет младенца и сама думала то же. Она еще прежде советовалась на этот счет с нею и вполне соглашалась на ее предложение как на самое удобное и благоразумное средство. Но теперь, держа в объятиях своего ребенка, она как-то невольно испугалась, услыша эти слова, словно бы что кольнуло ее в сердце каким-то болезненным укором, – и почувствовала она, что любит этого несчастного мальчика столько же, как и других своих детей, что было бы безжалостно, бесчеловечно бросить его почти на произвол судьбы, на чужие холодные руки, когда завезут и сдадут его в какую-нибудь деревню на воспитание, да и решимости и сил не хватало подавить в себе невольное материнское чувство, отказаться навеки от своего ребенка, вычеркнуть его совсем из памяти и сердца. Душа щемила и надрывалась при одной этой мысли, и стало ей мучительно жаль теперь этого хилого, болезненного мальчика.
– Нет… он такой слабенький, – нерешительно возразила она, глядя полными ожидания глазами на повивальную бабку, потому что думала услышать ее согласие.
– Так неужто ж оставлять его? – спросила эта с холодным удивлением.
– Да, я думаю, оставить лучше будет… Жаль ведь бедняжку.
– Ой, что вы! Есть чего жалеть! Да и стоит ли оставлять-то? Ведь только была бы охота, а этих поросят всегда вдоволь будет, – шутила акушерка.
– Нет, уж я оставлю, – положительно сказала Бероева. – Больно бросить его, да и грех… Посмотрите, какой он больной.
– Да, кажись, не живучий.
– Так уж если умирать ему – пусть лучше умрет на моих глазах… Все же спокойнее, да и совесть не так мучить будет… Мы хоть сколько-нибудь похолим его, – говорила она, тихо целуя младенца.
– Что ж, стало быть, вы его с собой брать хотите? – спросила акушерка.
– Н-нет, – раздумчиво проговорила больная. – Если б вы так добры были… я хотела бы лучше у вас; ведь вы принимаете иногда на воспитание? Я платить вам буду.
– Отчего же не принять? Мы берем иногда, – согласилась акушерка. – Двадцать пять рублей в месяц; деньги помесячно вперед; а уход за младенцем – уж вы не беспокойтесь – хороший будет, – объявила она, употребив минуту на соображение: стоит ли игра свеч, то есть брать или отказаться?
Бероева пожала ей руку и от души поблагодарила за это согласие.
Ребенок остался у акушерки. Мать очень часто ходила и навещала его. Но надо было подумать, из каких доходов платить за воспитание? Где взять денег на это? Средства Бероевых были довольно ограниченны, да и нравственное чувство ее возмущалось при мысли употреблять деньги мужа на чуждого ему ребенка. Первый месяц она попробовала заложить кое-какие вещицы свои и заплатила положенную сумму. Ей пришла мысль переводить статьи в журналы. Она сделала опыт – перевод оказался удачен, но ни одна редакция не согласилась принять его и отказала в работе на будущее время, так как эти «места» бывают постоянно заняты собственными, привилегированными сотрудниками. Тогда Бероева обратилась к модным магазинам, прося у них поденных заказов, – неудача и здесь. Одна только лавка в Гостином дворе вошла с нею в соглашение и за довольно скудную плату поручила доставлять на себя вышивание по батисту. Все это оказалось весьма ничтожно и далеко не пополняло необходимую на воспитание сумму.
Между тем приехал муж, и с его приездом прекратились и те скудные ресурсы, которые она могла зарабатывать в его отсутствие.
Акушерка, с замедлением платы, стала изъявлять сильное неудовольствие и предупредила, что если дела пойдут таким образом, то она должна будет отказаться от воспитания ребенка и передаст его с рук на руки, по принадлежности – матери.
– Ведь у него же есть какой-нибудь отец, – говорила она, – ну, отец и должен позаботиться, обеспечить…
Бероева рассказала ей все дело – сколько она помнила и понимала его.
– Вы видите, – заключила она, – что я его совсем почти не знаю, а встретиться с ним мне решительно негде.
– Ой, как негде? Помилуйте!.. Да вот вам первое место – хоть бы маскарад… Вам, конечно, лучше всего самолично переговорить с ним, напишите ему бильеду, назначьте рандеву — он и приедет.
Бероева поразмыслила над этим предложением: оно показалось ей достаточно основательным – и она решилась.
Муж ее, вместе с Шиншеевым, должен был ехать на несколько дней в Москву.
Отсутствием его воспользовалась Юлия Николаевна и, дождавшись кануна первого маскарада, написала Шадурскому известную читателю записку.
– Я не стану корить вас тем, что вы со мною сделали, – Бог вам судья за это, – говорила Бероева с полными слез глазами, объяснив уже князю все обстоятельства, – но ребенок… он ведь ваш… о нем заботиться надо.
– Пожалуй, я не прочь, – равнодушно прожевал князь Владимир, запивая шампанским котлету, – только с условием, – прибавил он с двусмысленной усмешкой.
– С каким условием? – выпрямилась Бероева.
– Весьма легким для женщины.
– Князь, говорите яснее, – с строгим достоинством заметила она, сдерживая в себе то чувство мрачной ненависти, которое почти неудержимо заклокотало в ней с первой минуты маскарадной встречи.
– Я говорю довольно ясно, – ответил он, наливая новый стакан.
– В таком случае, мы не понимаем друг друга.
– Ну, объяснимся еще яснее. Я обеспечу этого… ребенка, – говорил он с прежним невозмутимым равнодушием «элегантно-порядочного» человека, которое все более и более возмущало Бероеву. – Что касается до вас – вы ведь женщина небогатая, можете располагать мною, как вам угодно… А условие – ваша благосклонность.
Глаза Бероевой как-то зловеще засверкали. Раненая волчиха поднялась со своего места.
– Ваше сиятельство, – произнесла она тем нервно-звучным голосом, которым особенно ярко высказывается у человека чувство глубочайшего презрения, – все сказанное вами до такой степени низко и грязно, что мне гадко даже дышать с вами одним воздухом.
Она сделала движение к двери. Шадурский остановил ее.
– Ne vous еchauffez pas, madame[278]278
Не горячитесь, сударыня (фр.). – Ред.
[Закрыть], – сказал он, став между нею и дверью, – я, право, не понимаю, что же тут оскорбительного?..
Он действительно не постигал, чем может оскорбляться женщина, не принадлежащая к его избранному сословию, жена какого-то господина, служащего в конторе у какого-нибудь Шиншеева.
– Впрочем, – прибавил Шадурский, повинно наклоняя свою голову, – если я сказал что-либо неприятное, беру назад свои слова и приношу тысячу извинений!.. Но послушайте же, – продолжал он, делая поворот на прежнюю тему, потому что чудная красота стоявшей перед ним женщины распалила его голову, и без того уже сильно разгоряченную вином: он не мог теперь уже давать себе ясного отчета ни в словах, ни в поступках. Винные пары сняли ту гладенькую и чистенькую оболочку порядочности и сдержанности, которая так присуща людям этой категории в трезвом их состоянии и по большей части покидает их в состоянии, противоположном трезвости, обнажая всю грубую, животную сторону их натуры, отменно полированной, но совсем не развитой человечески.
– Послушайте, – говорил он, – вы не совсем правы… Если я соглашаюсь обеспечить ребенка, то ведь только для вас. Почему же я знаю, мой ли это ребенок? И кто меня убедит в этом?
– Подлец! – задыхающимся от бешенства шепотом сказала ему Бероева и сделала новое решительное движение к двери.
Шадурский опять загородил дорогу.
– Подлец? – повторил он с улыбкой. – А знаете ли, чем каждый порядочный человек обязан ответить хорошенькой женщине, если она даст ему пощечину или скажет «подлец»? Он должен обнять и поцеловать ее тут же… Pardon, madame: noblesse oblige![279]279
Извините, сударыня: положение обязывает! (фр.) – Ред.
[Закрыть] – говорил князь, внезапно схватив ее в свои объятия и целуя в лицо.
Бероева вырвалась и закричала.
Шадурский, вконец уже опьяненный этим близким прикосновением к женщине, позабыл все и с помутившимися от хмельной страсти глазами бросился на нее снова.
Вся старая ненависть и все те чувства, которые возбудили в ней его слова, вместе с самосохранением и оскорбленным достоинством женщины – с новой и стремительной силой поднялись в ней в это мгновение. Вне себя, схватила она со стола серебряную вилку – и в то время, как Шадурский снова успел уже поймать ее в свои объятия, Бероева с неимоверной для женской руки силой вонзила ему вилку в горло и потом в грудь.
Князь Владимир с отчаянным криком повалился на пол. Кровь ручьями брызнула из раны.
В ту же минуту сильным натиском с наружной стороны задвижка отскочила, и дверь отворилась; при виде раненого ужас охватил вбежавших на крик людей.
Бероеву застали стоящею посреди комнаты, с окровавленной вилкой в руке. Она вся дрожала и бессознательно водила кругом мутными, но грозными глазами. Кисть руки так конвульсивно крепко держала свое оружие, что казалось, будто закоченела в этом положении.
Тотчас же явилась полиция.
Когда Шадурского подняли с пола и Бероева увидела кровь – мгновенный отблеск сознания и какой-то гнетущей мысли тоскливо мелькнул в ее взорах. Она выронила вилку, зашаталась и упала без чувств.
В то время как раненого Шадурского положили в карету, чтоб отвезти домой, Бероева была уже арестована.
Часть четвертая
Заключенники
I
ДЯДИН ДОМ[280]280
Первые одиннадцать глав четвертой части не заключают в себе исключительно романического интереса. Это, так сказать, этнографический очерк быта и жизни петербургской тюрьмы. Такое же значение отчасти имеют и те главы, которые впоследствии коснутся женского отделения тюремного замка. Дядиным домом на воровском арго называется тюрьма; сидеть у дяди на поруках – сидеть в тюремном заключении.
[Закрыть]
Между петербургскими каналами есть один, называемый Крюковым. Отличительных достоинств он не имеет, если не считать достоинством его ноголомную набережную. Каждый добросовестный петербуржец, движимый чувствами человеколюбия, конечно, не посоветует ни одному вновь приезжему прогуляться темным вечером по этой гранитной набережной, если только, из личного мщения, не пожелает, чтобы тот свернул себе шею. Эта достопримечательная набережная имеет столь своехарактерный вид, что любой человек, не знакомый с геологическими свойствами петербургской формации, ни на минуту не усомнится отнести Крюкову набережную к плачевным следам недавнего землетрясения – до того оселись вглубь, расщелились и повыдались торчащими косяками ее массивные гранитные плиты. Это память 7 ноября 1824 года[281]281
Наводнение.
[Закрыть].
Крюков канал служит границей между нарядной, показной частью города и тою особенною стороною, которая известна под именем Коломны.
Морские солдаты да ластовые рабочие, часто под хмельком; лабазники из Литовского рынка, которые прут перед собою двухколесные ручные тележки с кладью; театральные мастодонты-колымаги, развозящие с репетиций балетных статистов и оперных хористок; мелкий чиновничек с кокардой на фуражке, гурьба гимназистов, гулящий «майстровой человек» да фабричный с Бердова завода – вот характерные признаки уличного движения Коломны. Впрочем, и здесь есть обитатели весьма комфортабельных бельэтажей, даже красуются пять-шесть барских домов, напоминающих «век нынешний и век минувший», но главный-то слой населения все-таки составляют те классы, представителей которых мы только что показали читателю.
Чуть перевалитесь вы через любой из горбатых, неуклюжих мостов Крюкова канала, особенно вечером, как разом почувствуете, что вас охватывает иной мир, отличный от того, который оставили вы за собой. Вы едете по Офицерской: улица узкая, сплошные каменные громады, в окнах газ, бездна магазинчиков и лавочек, по которым сразу видно торговлю средней руки; посередине улицы то и дело снуют извозчики; по нешироким тротуарам еще чаще сталкивается озабоченный разночинный народ – и это вечное движение ясно говорит вам про близость к городскому центру, про жизнь деятельную, всепоглощающую, промышленную – одним словом, про жизнь большого, многолюдного города. Но вот узкая улица с ее шумом и суетней впала в окраину громадной площади. Тут движение еще сильнее, eщe быстрее. Огни газовых фонарей пошли еще чаще. Ярко освещенные подъезды и еще ярче залитые светом ряды окон двух огромных театров, быстрый топот рысаков, отовсюду торопливое громыханье карет, ряды экипажей, «берегись» и «пади» кучеров да начальственный крик жандармов – все говорит вам, что элегантный Петербург торопится убивать свое многообильное праздностью время. Но чуть перевалились вы за горб Литовского моста, как вдруг запахло не центром, а близостью к окраине города. Офицерская улица, кажись, и та же – да не та. Пошла она гораздо шире, просторнее; дома, в общей массе, менее высоки и громадны, инде виднеются сады, инде постройки деревянные. Свету вдесятеро меньше, народу тоже, и нет ни этого снования, ни этого грохота экипажей.
В самом деле, какой резкий контраст! Там, за вами, – шум и движение, блеск огней и блеск суетливой жизни, балет и опера, все признаки веселья и праздности; а здесь – тишина, и мрак, и безлюдье; здесь первое, что встречает вас за мостом, – это казенно-угрюмое здание городской тюрьмы, которую вечером, подъезжая к одному из двух театров, и не заметите вы в окутавшем ее мраке.
Если бы кто вздумал вообразить себе нашу тюрьму чем-нибудь вроде Ньюгет или Бастильи, тот жестоко бы ошибся. Внешность ее совсем не носит на себе того грандиозно-мрачного характера, который веет воспоминанием и стариной, этим мхом и плесенью истории, этой поэзией мрачных легенд былого времени и эпизодами картинных страданий. Наша тюрьма, напротив, отличается серо-казенным, казарменным колоритом обыденно-утвержденного образца. Так и хочется сказать, что «все, мол, обстоит благополучно», при взгляде на эти бесконечно скучные прямые линии, напоминающие своею правильностью одну только отчетистую правильность ружейных темпов «раз-два!». Но знаете ли, мне кажется, что впечатление нашей тюрьмы чуть ли не будет еще потяжелей впечатления, производимого лондонским Ньюгет или какой-либо другой из средневековых европейских тюрем. Там эта архитектура, эти воспоминания наводят на вас хотя и тяжелое, но все-таки, благодаря некоторым из исторических эпизодов, своего рода поэтическое впечатление. Здесь же ничего подобного нет, и вот эта-то самая казенность и давит вашу душу каким-то тягуче-скучным гнетом.
Неправильный и не особенно высокий четырехугольник, нечто вроде каменного ящика, с выступающими пузатым полукругом наугольными башнями, низкими, неуклюжими, – здание, выкрашенное серовато-белою краскою; ряды черных окон за толстыми железными решетками; внизу – форменные будки и апатично бродящие часовые – таков наружный вид главной петербургской тюрьмы. Только два ангела с крестом на фронтоне переднего фасада несколько разнообразят этот общеказенный скучный вид всего здания. В передней башне, выходящей к Литовскому мосту, вделаны низкие и тяжелые ворота, обок с ними – образ Спасителя в темнице и в узах да несколько кружек «для арестантов, Христа ради», и над воротами – черная доска с надписью: «Тюремный замок». В народе, впрочем, он слывет исключительно под именем «Литовского замка» – название, данное от соседства с Литовским рынком.
Над домом вечного позора
Стоят два ангела с крестом.
И часовые для дозора
Внизу с заряженным ружьем.
Серо, мрачно… В окне решетка,
За нею – воля впереди, —
Но звук шагов считаешь четко,
То будто звук: «сиди, сиди!»…
Так когда-то сложил стихи про Тюремный замок один из арестантов, и стихи эти сделались весьма популярны в среде заключенников.
Около трех часов пополудни со скрипом растворились ворота Литовского замка, за ними завизжали на несмазанных петлях ворота внутренние – железные, решетчатые, – и в низкую полутемную подворотню въехал запряженный понурою клячею четырехколесный черный ящик с нумером, окруженный шестью штыками военного эскорта. Не успел арестант в последний раз, через маленькое решетчатое оконце ящика, бросить взор «на волю», то есть на мир затюремный, на эту жизнь городскую, как ворота снова захлопнулись с грохотом железного засова – и в сводчатой подворотне стало еще темнее.
Конвойный унтер-офицер отомкнул железную задвижку в дверце ящика и крикнул:
– Живее, вы!.. Марш в контору!
Из двери вылезли три-четыре человека в безобразных серых шапках, а один – в своем «вольном» партикулярном платье.
Пока тюремный служитель, известный в замке под именем Подворотни, осматривал внутренность фургона и ощупывал возницу: нет ли чего запрещенного, вроде карт, табаку или водки, военный эскорт повел приехавших арестантов по звучному коридору.
– Отвести на второй этаж![282]282
Во втором этаже Тюремного замка помещаются камеры татебного отделения, куда сажают по тяжким преступлениям. Первый этаж занят бродяжным отделением. Третий этаж – по подозрению в воровстве, мошенничестве и краже; четвертый – по воровству, мошенничеству и краже. Второй, третий и четвертый слывут в тюрьме просто под именем этажей.
[Закрыть] – распорядился письмоводитель тюремной конторы, прочтя бумагу, при которой был прислан молодой арестант в «вольном» платье.
– При себе ничего нет? – отнесся он к последнему.
– Ничего.
– Осмотреть! – кивнул письмоводитель.
Один из сторожей выворотил карманы арестанта и приказал разуть ему ноги. Оказались: карандаш, клочка четыре бумажки, какая-то веревочка и в старом портмоне рублевая ассигнация да копеек шесть меди.
Все эти вещи, за исключением медяков, были записаны и оставлены в конторе[283]283
Деньги менее рубля отдаются на руки арестанту, с рубля же отбираются в конторе. Арестант еженедельно может брать некоторую сумму на свои житейские потребности, на чай, булку и т. п. Мелкие вещи, ценные или ничего не стоящие, отбираются сполна, особенно бумага чистая, хоть будь это простой клочок. Почему, для чего последняя строгость – неизвестно, тем более что по камерам бумага все-таки есть, и иногда в изрядном количестве.
[Закрыть].
Дежурный повел арестанта через главный тюремный двор, посередине которого стоит голубятня, поставленная на собственный счет одним из «благородных» подсудимых, ради общего развлечения заключенных. Кое-где за решетками окон виднеются их невеселые лица. Вокруг двора идет бревенчатый палисад более двух сажен вышиною; за ним разбиты маленькие садики, отгороженные один от другого точно таким же высоким палисадом и служащие единственным официальным развлечением арестантов. То там, то сям в разных концах огромного двора прохаживались часовые с ружьями, а «первое частное», с красными воротниками на серых пиджаках, пилило дрова и таскало их на всю тюрьму, по камерам[284]284
Отделения отличаются по воротникам: татебное отделение – черный воротник. По этому случаю татебных называют «егерями». По подозрению в воровстве – синий; по воровству – желтый. Первых зовут «гарнизоном», последних – «уланами».
Первое частное отделение, куда забирают по преимуществу беспаспортных, из Вяземского дома и т. п., носит красные воротники. Военного названия не имеет, но, как видно из одной арестантской рукописи, находящейся у автора, прозывается «мрачным светом».
Второе частное отделение – малиновый воротник, известно под именем «старого благородного», называют его также «бесхлопотным». Сидят там иностранцы, купцы, мещане, даже крестьяне случаются; но попасть на это отделение преимущественно можно по протекции, потому что со второго частного не гоняют ни на какую работу и позволяют ходить в собственном «вольном» платье.
Бродяжное – воротник зеленый, «чтоб, значит, вольные поля да леса напоминало», говорят арестанты.
Подсудимое отделение – серый; прозывается, по той же рукописи, «хамовым отродьем», потому что из этого отделения назначаются люди в прислугу на благородное и секретное отделения, в банщики, кашевары, портные, хлебопеки, сапожники.
На благородном отделении – черные пиджаки с черным отложным воротником; допускается также и свой собственный костюм. Тюремная работа заключается в качании воды да в пилке и разноске дров. Третий и четвертый этажи таскают сами на себя, для прочих же отделений эту обязанность исполняет первое частное. А работают первые два «по переменкам»: сегодня четвертый, например, воду качает, а третий пилит дрова; завтра наоборот. Этим только и разнообразится работа по замку.
[Закрыть].
– Деньги есть? – вполголоса обратился «провожатый» к своему спутнику, покосясь на него вполоборота, что явно обозначало интимно-секретное свойство вопроса.
– Отобрали, – коротко отвечал арестант.
– Экой дурень! И чему вас, право, учат в этих сибирках по частям?.. Отобрали!.. А того не знает, что на этакое дело мутузка[285]285
Мутузка – поясок, которым служит веревочка тоненькая. Есть два способа протаскивать с собою деньги. О наиболее употребительном, благодаря его оригинальности, нет никакой возможности сказать что-либо не в строго специальном трактате. Второй же способ представляет именно мутузка, или мутузок. Вокруг нее свертывается ассигнация и заматывается ниткою. Впрочем, для арестантов невыгодно брать с собою более крупные деньги, потому денежное воровство сильно развито между арестантами и часто соединяется даже с открытым грабежом. Был случай, что один с помощью нецензурного способа протащил с собою на этаж триста рублей и зашил их там в жилетку. Об этом проведали трое арестантов и подкараулили его однажды в коридоре, при выходе из ретирадного места. Они кинулись на него, двое схватили за руки, третий – сорвал жилетку и затем, давши ему тумака в голову, от которого тот упал без чувств, грабители успели скрыть жилетку. Все это делается на глазах приставников и коридорных, которых ни в грош не ставят арестанты и которые, состоя частенько в общей дележке, находят, что такая кража весьма даже законное явление, «потому не бери с собой много денег, коли начальство запретило». Ну, опытные арестанты и точно не берут, а не то прячут так ловко и осторожно, чтоб уж никто не догадался.
[Закрыть] есть: замотал в нее сигнацыю да и обвяжи поясом по телу: там не щупают!.. Дурень! право, дурень! А сколько денег-то? – спросил он еще тише.
– Рубль… да шесть копеек еще – эти не взяли.
– Фи! – презрительно свистнул солдат. – Шесть копеек! Туды же – деньгами величает!.. Ну да Бог с тобой, давай уж и их, что ли, сюда, а я словцо такое замолвлю за тебя приставнику!
Арестант отдал не прекословя.
– Живее, марш! – прикрикнул дежурный, подымаясь с ним по лестнице, на площадке которой, у дверей налево, виднелась каска и штык часового – специальная привилегия татебного отделения, куда сажают «по тяжким преступлениям», и тут сдал приведенного с рук на руки приставнику, дюжему солдату с черными погонами и в высокой фуражке. Коридорный, по приказу последнего, выкликнул из камеры старосту, «сиделого человека» с широкими калмыцкими скулами, и поздравил его «с новым жильцом». Приставник показал старосте «новичка», переговорил, где поспособнее посадить его, то есть в каком нумере имеется незанятая койка, и, получив надлежащее сведение, вместе с «сиделым человеком» провел «нового жильца» по коридору в дверь небольшой конурки, которая зовется «приставницкой». Сюда же был «выкликан» и «дневальный» той камеры, где предполагалось поместить приведенного[286]286
На каждое отделение полагается по одному приставнику, который играет роль гувернера при арестантах: присутствует при их обеде, два раза в сутки ходит в лавочку за припасами для желающих; выгоняет на работу, наблюдает в рекреационное время, на прогулке по садикам, по средам и пятницам сопровождает в контору желающих писать о себе прошения. У него есть два помощника: коридорный и подчасок, обязанность которых главнейшим образом заключается в том, чтобы во время обходов начальства двери в камерах, ради порядка, были заперты на ключ. Во внутреннем управлении арестантов искони ведется выборное начало. Большинством голосов на каждое отделение выбирается староста, а в каждой камере дневальный и поддневальный. На работу они не ходят, зато обязаны принимать на свое попечение «новичков», получают белье на всю камеру, ходят за хлебом, принимают со старостой подаяние, каждый день подметают у себя пол, а по субботам моют его. Обязанность старосты довольно мудреная: он – судья и вершитель междоусобных недоразумений и споров, ответчик перед начальством за дух своего отделения и за разные происшествия, проступки и т. п. Ему нужно потрафлять и на начальство, и на арестантов, чтобы и те и другие были довольны, по пословице: «Волки сыты, и овцы целы».
[Закрыть]. В приставницкой обыкновенно совершается переодевание «в новые виды», то есть первое посвящение в жизнь заключенную. Новичка заставили снять с себя вольное платье с бельем, а взамен выдали костюм арестантский.
Через минуту молодой человек очутился в толстейшей дерюге-сорочке, серых штанах грубого сукна и таком же пиджаке.
– Вот ты, стало быть, в егеря поступил, – заметил солдат, указав на черный воротник пиджака и кидая ему плетеные лапти с неуклюжей серой шапкой. – Береги вещи, потому они казенные: взыскивать будут. Видишь?
И он ткнул пальцем на нумер и клеймо, выставленные на каждой принадлежности костюма: «РАЗ. Т. 3.».
– Это значит: ты – «разночинец Тюремного замка» – так оно и обозначено, понимаешь? – пояснил дневальный. – А теперь пойдем на «татебное», к милым приятелям, познакомиться.
За арестантом затворилась дверь предназначенной для него камеры – и хриплое щелканье запираемого замка возвестило ему окончательное вступление в мир новый, своебытный, оригинальный и мало кому знакомый на воле.
У вновь приведенного помутилось в глазах: его ошибло этою духотою и вонью, этим прокисло-затхлым и спертым воздухом тюремной камеры. Дневальный дал ему толстую суконную подстилку да тощий тюфячок с подушчонкой и указал место на одной из свободных коек, которые тесно идут по двум противоположным стенам. Почти бессознательно стал он оглядывать настоящее свое жилище, избегая взглянуть на лица новых товарищей.
Это была не особенно просторная комната в два окна с давно потускнелыми стеклами, с низким закоптелым сводом и железною печью в углу. Кое-где по стенкам торчали убогие, маленькие полочки с хлебом и «подаянными» сайками да разной посудой, вроде чашек и кружек; кое-где над койками красовались прилепленные картинки и вырезанные из бумаги петушки, то и другое – изделия самих арестантов. На передней стене висели темный образ и лампада, заменяющая собою ночник; в углу – бочонок с водою, а на дверях повыше надзирательской форточки расписаны были ряды цифр и следующие знаки: «В. П. В. С. Ч. П. С».
Это – календарь, лежащий, по приговору членов камеры, на обязанности дневального, который отмечает мелом начальные буквы дней недели и под каждою ставит цифру. Наутро каждого дня стирается цифра, обозначающая вчерашнее число, и так до конца месяца. В камере помещалось тридцать человек заключенных. На двух побрякивали цепи. Это – «решенные»; сидят и ждут себе скорого и дальнего странствования в палестины забайкальские. Иные спят врастяжку каким-то тяжелым, безжизненным сном, какой мне случалось подмечать доселе у одних арестантов да у людей натруженных. Иные «дуются» в шашки «на антерес», которым служит грош или милостынная булка. Шашечницу устроить нехитро: взял нож да и наскоблил им клетки на коечной доске, а из соснового полена повырезывал кружки да квадратики – и готово дело. Несколько человек книжку читают и предаются этому занятию с видимым наслаждением. Книжками снабжает их тюремный священник; но «божественные» если и читают арестанты, то больше под праздник, а в мирские дни предпочитают чтение «с воли» и ищут в нем то, что позанятнее. А с воли может протащить книжку хоть тюремный солдат, хоть любой посетитель; и тут есть всякая книжка: и историческая, и нумер старого журнала, и путешествие, и роман, какой попадется; все это поглощается с равным удовольствием, которое выражается в своеобразных комментариях и поощрительных возгласах. Иногда очень уж занятную книжку целая камера, как один человек, слушает, никто слова стороннего не шепнет, никто не спит, никто даже в кости не играет, а об картах на этакую пору и помину нет[287]287
Это показывает, как сильна у арестантов потребность к чтению и вообще к умственной деятельности. Между прочим, надо заметить, что арестанты очень любят стихи читать. Я знаю нескольких, которые говорили мне на память стихотворения некоторых современных поэтов, а один валял даже в прозе целый отрывок из «Мертвого дома» Ф. Достоевского.
Замечательно еще то, что предпочитают стихи не юмористические, которыми так богаты нынешние сатирические листки, а сентиментальные, чувствительные, элегические или же такие, где говорится про горе людское, страдания, неволю; особенно в ходу у них Лермонтов, Кольцов, Никитин, Некрасов, Полежаев, наравне с их собственными тюремными произведениями. Преимущественно же литература и потребность чтения развита на четвертом и третьем этажах. Это даже может заметить каждый случайный наблюдатель: стоит только, для сравнения, хотя раз обойти все отделения замка. А между тем тюремной библиотеки не имеется, да едва ли и думает кто об этом, кроме священника, снабжающего книгами духовно-нравственного содержания.
[Закрыть].
А лица, а физиономии? Каких тут только нет, между этими тридцатью существами, которых случайная судьба свела на неопределенное время под низкие своды тесной камеры и заставила денно и нощно пребывать всех вкупе, нераздельно! Лица старые и молодые, по которым угадаешь все степени человеческого возраста, за исключением детского да глубоко старческого, угадаешь разные национальности и оттенки личного характера в каждом. Вот открытая, добродушная и красивая физиономия молодого парня. Это – убийца. Спросите его, не официально, а по душе, – за что он содержится?
– А из ружья стрелили, – откровенно ответит вам парень, если только на ту пору будет в добром юморе и захочет ответить.
– Как стрелили? кого?
– А начальства своего стрелили – потому женку скрыл под свою милость. Теперичи решенья ждем.
Рядом с ним чухна из-под Выборга. Этого как уж ни спрашивай, вечно получишь один только ответ: «еймуста», ничего не знаю! А содержится «по подозрению» будто в убийстве. Но стоит только взглянуть на эту неуклюже обтесанную, словно дубовый обрубок, приземистую, коренастую и крепкую фигурку, ростом меньше чем в два аршина, на этот приплюснутый книзу череп, на эти узенькие маленькие щелки-глаза и апатично-животное выражение лица, чтобы с полным внутренним убеждением сознать в нем убийцу.
Вон там, в углу, растянувшись, руки под голову, лежит на койке литвин, промышлявший на пограничном кордоне смелою контрабандою. Что за беззаботно-отважная физиономия! А там вот немец, Bayerischer Untertan[288]288
Баварский подданный (нем.). – Ред.
[Закрыть], который сидит себе сиднем семь лет уже в одной и той же камере; поступил – ни слова не знал по-русски, а теперь режет, как истый русак, без малейшего акцента: в тюрьме научился.
Далее выглядывает тоненький носик черненького жидка: на фальшивой монетке попался.
А это что за крупные, сладострастно очерченные губы? Что за ненормальное развитие задней части черепа? И спрашивать нечего! Сразу угадаешь тебя, богатырь Чурило Опленкович. Только ты не тот хороший Чурило, не древний донжуан земли русской: никакая-то княжая жена Опраксия у души своей тебя не держала, и не было у тебя своей Катерины Микуличны Бермятиной, жены купецкой; и когда поведут тебя, раба божьего, на место лобное, высокое, так киевские бабы не взмолятся: «Оставь-де Чурилу нам хоть на семена!» – не взмолятся потому, что не горела к тебе ни одна-то душа бабья, ни одно сердце девичье, хотя и тебя, как древнего Чурилу, тоже, быть может, погубила какая-нибудь девка-чернавка. А не горела ничья душа потому, что уж больно неказист ты с поличья, сластолюбие твое было и есть в тебе явление уродливое, болезненное: лютым зверем на меже да в перелеске кидался ты на прохожую, полонил ее себе не красными словами, не ухваткой молодецкою, а насильством да ножевою угрозою. Ну за то самое, друг любезный, и обретаешься теперь «в доме дядином», вместо дома сумасшедшего.
Рядом с Чурилой пригорюнился еще один обитатель тюремный. Этот красного петуха пущал на всю деревню родимую, когда стала она для него пуще ворога лютого. Было время, что вились его кудерки, вились-завивались, да пришла на кудри черная невзгода, сбрили с головы его красу светло-русую и повели в город во солдаты. Из города парень убег; осеннею ночью на деревню вернулся, стукнул под окошко, брякнул во колечко: «Пустите, родимые, сына – обогреться!» Не пустил батюшко – бурмистра испужался; не покрыла матушка – хозяина побоялась. «Ты ж гори огнем, батюшкино подворье, пропадай пропадом, матушкина светлица!» И пошел мытариться по белу свету, разные виды на себя принимал, пока не изымали в городе Петербурге. Что-то думает он да гадает, про то знает одна голова его забубенная, а что наперед приключится и чем кончится – про то Бог святой ведает.
Всякого народу в этой камере вдосталь, и есть представители многих родов преступления. Тут и святотатцы, и корчемники, и убогий мужичонко, что казенную сосенушку с казенного бору срубил, и покусители на самоубийство; сидят и за воровство большое, и за «угон скамеек», то есть лошадей, и за грабеж с разбоем; тут же и отцеубийца-раскольник, которого мать родная, старуха древняя, сама упросом просила отвести ее в моленную и там порешить топором душу ее окаянную, многогрешную, чтобы через страстотерпную кончину праведную мученический венец прияти. Сын так и исполнил матерний завет, да и сам помышлял о таком же блаженном конце через своего сына, как до старости доживет, а тут начальство, на грех, не сподобило: таскало, гоняло по разным судам и острогам, пока не попал, какими-то судьбами, в петербургский.
И на каждой из этих физиономий своя печать и своя дума – а дума одна: как бы вынырнуть из дела да из когтей острожных. Иные лица, впрочем, кроме полнейшей безразличной апатии, ничего не выражают; на других – животная тупость; иные же дышат таким добродушием и откровенностью, что невольно рождается вопрос: «Да уж полно, точно ли это преступник?» Но зато есть и такого сорта физиономии, на которых явно лежит печать отвержения. Приплюснутый сверху череп с сильным развитием задней его части на счет узкого, низкого и маленького лба, узкие же глаза исподлобья, широкие, вздутые ноздри, широкие скулы и крупно выдающиеся губы являются по большей части характерными признаками таких преступников. Это – преступники грубой, зверской силы и животных инстинктов – совершенный контраст с мошенниками и ворами городскими, цивилизованными, из которых если вы спросите любого: кто он таков? – то можете почти наверное услышать в ответ: «кронштадтский мещанин». Мне кажется, что больше трети петербургских мошенников называют себя кронштадтскими мещанами. Почему уж у них такая особенная привязанность к Кронштадту, наверное не знаю, но чуть ли не оттого, что легка приписка в общество этого города. Контраст между физиономией плутяги-мошенника, то есть так называемого мазурика, слишком легко заметен: у этого последнего умный, хитрый, уклончиво-бегающий и проницательный взгляд, который и всему лицу придает выражение пронырливого ума, изворотливой хитрости и сметки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































