Текст книги "Петербургские трущобы. Том 1"
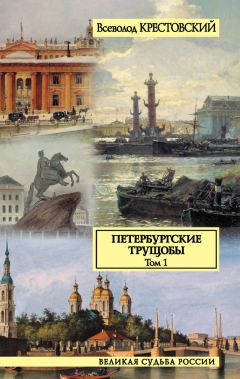
Автор книги: Всеволод Крестовский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 49 страниц)
Всеволод Крестовский
Петербургские трущобы, т.1
От автора к читателю
Прежде чем читатель раскроет первую страницу предлагаемого романа, я нахожу нелишним сказать ему несколько слов.
Когда, еще до появления в «Отечественных записках» первой части моего романа, которая сама по себе составляет как бы введение, пролог к нему, я читал ее некоторым друзьям и знакомым – мне приходилось не однажды выслушивать вопрос: да неужели все это так, все это правда?
Вопрос относился предпочтительно к темному миру трущоб. Весьма может статься, что он же придет в голову и не знакомому с делом читателю. Поэтому позвольте мне рассказать, каким образом пришла мне первая мысль настоящего романа, что натолкнуло на нее и что побудило меня приняться за мой труд. В этом будет заключаться маленькая история романа и ответ на вопрос: точно ли это правда?
Идея предлагаемого романа давно уже сделалась самой любимой, самой задушевной моей идеей. Первая мысль ее явилась у меня в 1858 году. Натолкнул меня на нее случай.
Часу в двенадцатом вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Сенной. Путь лежал мимо Таировского переулка; можно бы было без всякого ущерба и обойти его, но мне захотелось поглядеть, что это за переулченко, о котором я иногда слышал, но сам никогда не бывал и не видал, ибо ни проходить, ни проезжать по нем не случалось. Первое, что поразило меня, – это кучка народа, из середины которой слышались крики женщины. Рыжий мужчина, по-видимому отставной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии. «Подерутся и перестанут – не впервой!» – отвечал он мне, когда я обратил его внимание на безобразно-возмутительную сцену. «Господи! нашу девушку бьют!» – прокричала шмыгнувшая мимо оборванная женщина и юркнула в одну из дверок подвального этажа. Через минуту выбежали оттуда шесть или семь таких же женщин и общим своим криком, общими усилиями оторвали товарку. Все это показалось мне дико и ново. Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта, где прозябали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия. Вырученная своими товарками, окровавленная женщина с воем металась по низенькой, тесной комнате, наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порою с французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало. «Она русская?» – спросил я одну женщину. «А черт ее знает – надо быть, русская». Как попала сюда, как дошла до такого состояния эта женщина? Очевидно, у нее было свое лучшее прошлое, иная сфера, иная жизнь. Что за причина, которая наконец довела ее до этого последнего из последних приютов? Как хотите, но ведь ни с того ни с сего человек не доходит до такого морального падения. Мне стало жутко, больно и гадко, до болезненности гадко от всего, что я увидел и услышал в эти пять–десять минут. Я думал, что это уже последняя грань петербургской мерзости и разврата, – и я ошибся. Это был один только легонький мотивец, один только уголок той громадной картины, о которой я тогда не имел еще ни малейшего понятия, с которой познакомился поближе и покороче только впоследствии, ибо картина эта прячется от официальной, показной жизни нашего города и вообразить ее трудно, почти невозможно без наглядного, непосредственного знакомства с нею лицом к лицу.
Оставаться долее в этом приюте у меня не хватало силы: кроме нравственного, гнетущего чувства начинало мутить физически. Я уже направился к двери, как вдруг две кутившие личности мужского пола и весьма подозрительной наружности заметили синий околыш моей фуражки и мое студентское пальто. Один из них без всякой церемонии подошел ко мне. «Слышьте, студент, есть у вас деньги?» – «Есть. А что?» – «Дайте мне взаймы – сколько есть; у нас не хватило, а выпить хочется». Я понял, что тут ничего не поделаешь, вынул бумажник, в котором на тот раз находилось только два рубля серебром, и отдал их подозрительному господину. Подозрительный господин поблагодарил и предложил выпить с ними вместе. Я попытался было отказаться. «Что же вы, брезгуете, что ли?» – обиделся он. После этого, конечно, надо было остаться; и вот за стаканом скверной водки я узнал мимоходом, урывками кое-что из жизни побитой женщины и ее товарок; но через эти урывки для меня скользила целая драма – такая драма, в которой «за человека страшно» становится.
Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербурге долго, коренными петербуржцами считаемся, и часто случалось нам проезжать по Сенной площади и ее окрестностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет падший люд, а и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос: что творится и делается за этими огромными каменными стенами? Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? Отчего эти голод и холод, эта нищета разъедающая в самом центре промышленного, богатого и элегантного города, рядом с палатами и самодовольно-сытыми физиономиями? Как доходят люди до этого позора, порока, разврата и преступления? Как они нисходят на степень животного, скота, до притупления всего человеческого, всех не только нравственных чувств, но даже иногда физических ощущений страданий и боли? Отчего все это так совершается? Какие причины приводят человека к такой жизни? Сам ли он или другое что виной всего этого? Обвинить легко, очень легко – гораздо легче, чем вдуматься и вникнуть в причину вины, разыскать предшествовавшие «подготовительные и предрасполагающие» обстоятельства. Но вот в том-то и вопрос: как взглянуть на падшего человека, один ли он сам по себе виноват и причинен в своем безобразии и несчастии? А если не один, то виноват ли еще, наконец, при его невежественности относительно самых первичных нравственных оснований, при его грубой неразвитости, при той ужасающей нас обстановке, которою он окружен безысходно, часто с первой минуты своего рождения на свет? Если же все это так, то не тяготеет ли часть этой вины на каждом из нас, на всем обществе нашем, столь щедром на филантропические возгласы, обеты и теории?
«Es ist eine alte Geschichte» – все эти вопросы, которые я предложил: не я их выдумал, и не я первый повторяю их. Да, «es ist eine alte Geschichte, doch, bleibt sie immer neu»[1]1
«Это старая история… это старая история, остающаяся, однако, вечно новой» (нем.). – Ред.
[Закрыть], быть может, для иного читателя, которому и в голову они не приходили. А у нас таковых – надо сознаться – не занимать стать пока.
В тот достопамятный – лично для меня – вечер, когда я впервые случайно попал в одну из трущоб, вопросы эти и мне пришли в голову. Та невидимая драма, которая осветилась для меня – частью по услышанным и подхваченным на лету урывкам, частью же по собственной догадке и соображениям, – невольно как-то сама собою натолкнула меня, вместе с вышеизложенными вопросами, на мысль романа.
Я тогда же принялся за писанье и окрестил свое произведение «Содержанкой». Принялся за работу с жаром, исписал целую толстую тетрадь, но… ничего из этого путного не вышло. Задача оказалась слишком велика и широка для той рамки, которая была первоначально избрана мною. Притом я спасовал перед действительностью: я не знал, не имел ни малейшего понятия о той жизни, за изображение которой так опрометчиво взялся, – подготовки у меня не было никакой, отношение слишком дилетантическое – и я бросил свою работу, не покидая, однако, мысли об этом романе.
Мне эта мысль уже представлялась в виде общего физиологического очерка не одних только трущоб и вертепов, но петербургской жизни вообще. Я принялся за изучение этой жизни и ее типов с тех сторон, которые оказывались пригодными, подходящими для моей идеи. Через несколько лет исподвольных наблюдений я увидел ясно, что трущобы кроются не исключительно около Сенной, что они весьма многоразличны, и поэтому дал своему роману его настоящее название.
Многим из читателей многое, быть может, покажется в нем странным, преувеличенным и даже невероятным; но это оттого, что мы не привыкли еще к гласному публичному обсуждению такого рода фактов и обстоятельств. Открытые судебные камеры не замедлят познакомить нас со множеством неизвестных еще большинству явлений. Изменение системы тюремного заключения также принесет громадную нравственную пользу тем несчастным, которые теперь неизбежно являются самыми закоренелыми орудиями и двигателями порока и преступления. Люди компетентные, приходящие, по роду своих обязанностей, в ближайшее соприкосновение с этим миром, очень хорошо понимают истину моих слов. ибо знают, что достаточно просидеть в тюрьме за проступок какой-нибудь один месяц, чтобы человек, хотя и честный, но не имеющий твердых нравственных основ, вышел бы оттуда полным и формально готовым негодяем, который при первом удобном случае сделается уже преступником. Наконец, справедливость требует сказать, что в последнее время многое уже сделано относительно мира трущоб. Старые язвы мало-помалу уничтожаются: в центральной нашей трущобе – доме князя Вяземского – есть уже кое-какая возможность для нищего человека жить хотя немножко человеческим образом.
Я считаю при этом первою и приятною обязанностью принести мою благодарность лицам, которые своим содействием помогли мне ознакомиться с теми многоразличными отраслями нашей жизни, что вошли в программу предлагаемого романа, – лицам, в следственной камере которых я знакомился с характером и личностями преступников, с фактами преступлений, подлежавших юридическому разрешению, и которые дали мне возможность спуститься в темный мир трущоб, чтобы самому, лицом к лицу, узнавать эту жизнь и нравы.
К глубокому моему сожалению, роман не выходит в свет в том виде, в каком написан и в каком бы мне как автору всегда хотелось печатать. От этого некоторые эпизоды являются перед читателем в крайне неполном и неряшливом виде, так что отсутствие эстетического – а во многих местах и просто логического – смысла ни для кого не может остаться незамеченным.
Я надеялся избежать всех этих погрешностей в отдельном издании моей книги, но надежды мои не оправдались.
Итак, «Петербургские трущобы» и ныне, в отдельном издании, являются с прежними пробелами. Прошу читателя извинить их… Впрочем, поставя своим долгом относиться к печатному слову честно, я остаюсь – и навсегда останусь – при глубоко неизменном убеждении, что прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и истинно; а если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию. Мною же – могу сказать по совести и смело – руководило одно лишь добросовестное желание добра и пользы. Но, как бы то ни было, я еще и еще раз прошу читателя извинить не мне, а этой книге ее пробелы.
Кроме общего наименования «Петербургские трущобы», я назвал еще роман мой «книгою о сытых и голодных». Надеюсь, что этим достаточно охарактеризовано ее содержание. Напрасно бы стал кто-нибудь в этом последнем названии выискивать какую-нибудь затаенную мысль. Оно означает почти непосредственно то, что и должно означать по самому смыслу употребленных в нем слов. Объяснимся. Я остаюсь совершенно чужд в моей книге каких бы то ни было сословных пристрастий, симпатий и антипатий. Я беру только то, что мне дает жизнь. Вкусно подносимое ею блюдо – я отмечаю, что оно вкусно; отвратительно – так и говорю, что отвратительно. Для меня в этом отношении не существует никаких каст и сословий – писатель-романист должен стоять вне кружковых пристрастий к тому или другому. Для меня нет ни аристократов, ни плебеев, ни бар, ни мещан – для меня существуют одни только люди – человек существует. И этих людей, вместо всяких каст, я делю на сытых и голодных, пожалуй, на добрых и злых, на честных и бесчестных и т. д.
Если книга эта заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и отверженной парии – трущобной женщины; если в среде наших филантропов и в среде административной она возбудит хотя малейшее существенное внимание к изображенной мною жизни, я буду много вознагражден сознанием того, что труд мой, кроме развлечения для читателя, принесет еще и частицу существенной пользы для той жалкой, темной среды, где голодная мать должна воровать кусок хлеба для своего голодного ребенка; где источником существования двенадцати-тринадцатилетней девочки является нищенство и продажный разврат; где голодный и оборванный бедняк, тщетно искавший честной работы, нанимается для совершения преступления мошенником, сытым и более комфортабельно обставленным в жизни, причем этот ничем почти не рискует, а тот, за самую ничтожную цену, ради требований своего непослушного желудка, гибнет на каторге; где, наконец, люди болеют, страдают, задыхаются в недостатке чистого, свежего воздуха и иногда решаются если не на преступление, то на самоубийство, чем ни попало и как ни попало, лишь бы только избавиться от безнадежно мрачного существования, буде до этого крайнего исхода не успеют зачерстветь и оскотиниться настолько, чтобы потерять всякую способность к каким бы то ни было человеческим ощущениям, как нравственным, так и физическим, кроме инстинктов голода, сна и, часто, ненормально удовлетворяемой половой потребности. Здесь-то вот кроется наша невидимая язва, здесь наша горькая скорбь вавилонская, которая даже не вопиет о спасении, об исходе, по причине очень простой и несложной: она их не знает.
Быть может, кто-либо найдет, что изображение этих язв слишком цинично и даже неблагопристойно. Что ж делать, таков уж предмет, избранный мною. Да, впрочем, книга ведь не предназначается к чтению в пансионах и институтах для благородных девиц. В этом случае я могу ответить только словами покойного Помяловского: «Если читатель слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу. Доктор изучает гангрену, определяет вкусы самых мерзких продуктов природы, живет среди трупов, однако его никто не называет циником; стряпчий входит во все тюрьмы, видит преступников по всем пунктам нравственности: отцеубийц, братоубийц, детоубийц, воров, подделывателей фальшивых бумаг и т. п. личностей, изучает их душу, проникает в самый центр разложения нравственности человеческой, однако и его никто не называет циником, а говорят, что он служит человечеству; священник часто поставлен в необходимость выслушивать ужасающую исповедь людей, желающих примириться с совестью, но и он не циник. Позвольте же и писателю принять участие в этой же самой работе и таким образом обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его». Слова уважаемого мною писателя пусть служат моим ответом и оправданием в глазах читателя элегантно-слабонервного; если же таковой сим не удовлетворится, то может на этих же страницах покончить чтение моего романа – и я в таком случае только почту своим долгом извиниться перед ним в том, что утруждал его прочтением этого несколько длинного предисловия.
Всеволод Крестовский
Часть первая
Старые годы и старые грехи
I
КОРЗИНКА С ЦВЕТАМИ
5 мая 1838 года, часов около девяти утра, у подъезда дома князя Шадурского остановилась молодая женщина и дернула за ручку звонка. Судя по ее наружности и костюму, в ней нетрудно было узнать горничную из порядочного дома. Она бережно держала в руках корзинку, покрытую широким листом белой бумаги и перевязанную вдоль и поперек широкою розовою лентою. Из-под бумаги пробивались свежие и душистые цветы.
Через минуту в двери щелкнул замок, и на пороге появился толстый швейцар, в утреннем дезабилье, с половою щеткою в руках, и, увидя совершенно незнакомую женщину, спросил весьма нелюбезным тоном:
– Кого надо?
Женщина слегка изменилась в лице и, торопливо отдавая корзинку, проговорила слегка дрожащим и будто тревожным голосом:
– Передайте князю и княгине… тут цветы… Скажите, что от бельгийского консула… Приказали кланяться и отдать…
– Ладно, будет отдано! – ответил швейцар уже менее суровым тоном (вероятно, слова «от бельгийского консула» были тому причиной) и, приняв с рук на руки корзинку, скрылся за захлопнувшейся стеклянной дверью.
Женщина опрометью бросилась бежать до первого попавшегося извозчика, прыгнула, не торгуясь, в дрожки и быстро исчезла за углом улицы.
Швейцар, в ожидании пробуждения своих господ, поставил корзинку на массивную, резную дубовую скамейку, служившую необходимым дополнением к великолепным сеням с мраморными колоннами княжеского дома, и принялся за свою утреннюю работу – подметать гранитный мозаичный пол.
Вдруг, через несколько времени, в сенях, неизвестно откуда, послышался слабый крик младенца. Швейцар был очень изумлен этим совершенно необычайным обстоятельством и стал прислушиваться. Крик повторился еще, и на этот раз уже совершенно явственно из принесенной корзинки.
– Вот-те и бельгийский консул!.. Эко дело какое! – пробурчал себе под нос маститый привратник и тотчас же бросился на улицу, вдогонку за неизвестной женщиной. Но это была уже совершенно тщетная попытка, так как той и след давным-давно простыл. В раздумье о случившейся «оказии», потряхивая головою и разводя руками, возвратился он в свои сени и, поднявшись вверх по роскошной лестнице, кликнул, с подобающей таинственностью, княжеского камердинера и камеристку княгини.
Все втроем остановились они перед таинственной корзинкой, но никто из них не осмелился дотронуться и раскрыть ее – «на барское-де имя прислано», и потому на тройственном совете своем положили они – доложить обо всем немедленно же господам.
Камердинер направился на половину князя, а камеристка в спальню княгини.
– Ваше сиятельство!.. а ваше сиятельство! Бог милости прислал…
– А!.. что?.. – пробормотал князь спросонок.
– Бог милости прислал вашему сиятельству, – почтительнейше повторил камердинер.
– Какой милости?
– Корзинку с цветами-с…
– Что ты врешь? какую корзинку?
– От бельгийского консула… приказали кланяться и отдать вашему сиятельству.
– От какого бельгийского консула? – в недоумении допытывал князь, протирая заспанные глаза. – Что это, ты пьян, что ли?
– Никак нет, ваше сиятельство, а только я докладываю, что от бельгийского консула… Бог милостью посетил… корзинка с цветами…
Князь Шадурский глядел во все глаза на своего камердинера и только пожимал плечами.
– Да объяснись ты, братец, по-человечески. В чем дело?
– Младенец-с…
– Какой младенец?
– Надо полагать, подкидыш… В корзинке этой самой положен… Мы без вашего сиятельства не осмелились…
– А!.. – произнес князь Шадурский, и личные мускулы его как-то кисло передернуло от заметного неудовольствия. Князь понимал и догадывался о том, чего не понимал и не мог догадаться его камердинер.
– Княгиня знает? – торопливо и озабоченно спросил он, подымаясь с постели.
– Мамзель Фани пошла докладывать их сиятельству.
– А!.. – И лицо князя опять передернуло. Когда камеристка доложила о случившемся княгине, то княгиня ничего не сказала ей на это и только как-то саркастически и коварно улыбнулась, но так легко, что эту улыбку почти невозможно было подметить… Казалось, что княгиня, подобно князю, понимала и догадывалась о том, чего не понимала ее горничная, и нельзя сказать, что супруги остались особенно довольны посетившей их божией милостью.
– Поздравляю вас, князь, с приращением вашего семейства, – сказала княгиня при входе мужа в ее будуар, и сказала это так мило и любезно, что все колкие шпильки произнесенной ею фразы показались Шадурскому втрое колючее, так что он, закусив от досады нижнюю губу, процедил ей в ответ сквозь зубы весьма сухим и холодным тоном:
– Мне кажется, что это относится столько же и к вам, сколько ко мне… Корзинка прислана на наше общее имя.
– Я по крайней мере нисколько не виновата в этом, – столь же колко и как бы про себя заметила княгиня.
Шадурский пристально и сухо посмотрел ей прямо в глаза.
– В этом — да, нисколько! но в другом… — произнес князь с немалою выразительностью и остановился.
– В чем другом? – с живостью перебила его жена, – в чем?..
– Вы сами очень хорошо понимаете, о чем я говорю; так не заставляйте же меня хоть ради приличия называть вещи настоящими их именами! – сказал он, не сводя глаз с лица жены, и потом добавил: – Пять месяцев назад меня не было в Петербурге… Да, потом, вы очень хорошо должны помнить, что три месяца я один без вас прожил в деревне.
Княгиня смутилась и покраснела. Теперь ей в свою очередь пришлось глотать мужнины шпильки. Она сидела на каленых угольях и видимо искала случая дать другое направление разговору.
– А где же корзинка, однако? что это ее не несут? – сказала она, озабоченно поднимаясь с места.
Корзинка была внесена камеристкою в комнату. Княгиня сама развязала узлы розовой ленты и приподняла лист белой бумаги.
Все втроем с любопытством наклонились над корзинкою. Там, среди цветов, лежала девочка, родившаяся, по-видимому, дня два-три назад. На ней были надеты сорочка тончайшего батиста и чепчик, отороченный настоящими кружевами. Лежала она, со всех сторон, как пухом, обложенная белою и теплою ватой. При ней находилась записка, весьма лаконического содержания: «Родилась второго мая. Еще не крещена», – и только. Склон букв ложился в левую сторону, очевидно, для того, чтоб нельзя было узнать, чья рука писала записку. По всей обстановке этой корзинки можно было предположить, что дитя принадлежало не совсем бедной матери и что, значит, не голод и нищета, а другие, неизвестные причины заставили ее расстаться с своим ребенком.
Подкидыш немедленно же был сдан на руки камеристке, до приискания ему более определенного положения, и унесен из будуара княгини, которая опять осталась с глазу на глаз со своим мужем. Несколько времени оба молчали. Видно было, что и тот и другая крепко задумались о чем-то в эту критическую минуту.
Княгиня первая прервала неловкое молчание.
– Что же вы намерены делать с этим ребенком? – спросила она. – Ведь, кажется, надо объявить, что ли, кому-то об этом.
– Вздор!.. Никому ничего объявлять не надо, а надо просто… – И князь опять остановился и задумался.
– Что же надо? – переспросила его жена.
– Надо нам объясниться с вами! – наконец выговорил он, собравшись с силами.
– Извольте; я готова…
– Дело вот в чем, – начал князь, как бы приискивая более удобные, подходящие выражения, – дело вот в чем: у нас с вами, княгиня, есть наш собственный сын и наследник моего имени – князь Владимир Шадурский, и потому… я не желаю, чтобы в доме нашем находились и воспитывались рядом с нашим сыном какие бы то ни было посторонние дети. Вполне ли вы меня понимаете? – спросил он, придавая как бы особенное значение этому последнему вопросу.
Княгиня потупила глаза и утвердительно кивнула головою.
– Не угодно ли вам будет отправиться за границу? – как бы неожиданно и бесцельно спросил он.
– Пожалуй… я подумаю…
– То-то, подумайте… А об участи этого подкидыша вы не беспокойтесь, – добавил он, вставая и выходя из комнаты. – Я сделаю для него все, что могу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































